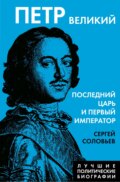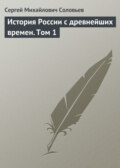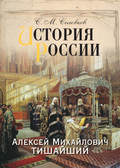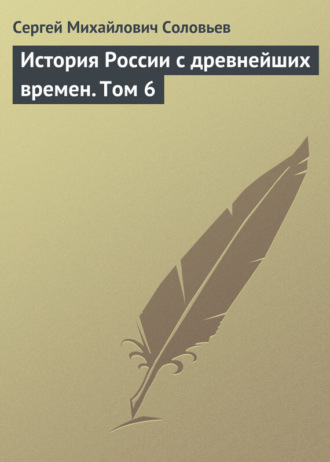
Сергей Соловьев
История России с древнейших времен. Том 6
На этом прекратились переговоры с английским послом; из них мы видим, что Иоанн готов уступить англичанам право исключительной торговли, что, по его собственным словам, было тяжелее дани, лишь бы только приобрести деятельный союз европейского государства против главных своих недругов, отнявших у него Ливонию. Понятно, что он искал союза и с Австрийским домом против Батория, но и в этом искании он не имел никакого успеха. Сын и наследник Максимилиана II, Рудольф II, прислал известить царя о смерти отцовской, изъявляя надежду, что Иоанн не убавит к нему и двору Австрийскому того верного, доброго, прямого, родственного расположения, какое оказывал к Максимилиану; но тут же обращался с просьбою, чтоб царь не велел бедных ливонцев войною обижать. Царь отправил к Рудольфу посланника Квашнина с объявлением, что хочет быть с ним в таком же братстве и любви, как и с отцом его, и стоять на всех недругов заодно. Рудольф отвечал: «Надеемся, что мы с вами будем в любви; а до приезда наших послов вы бы на убогую Ливонскую землю меча и огня не посылали». Когда война с Баторием приняла невыгодный оборот царь весною 1580 года отправил к Рудольфу с гонцом грамоту, в которой писал: «Послы твои, брата нашего дражайшего и любезнейшего, к нам до сих пор, неизвестно почему, не бывали. Ты бы к нам отписал, для чего послы твои позамешкались, и послов своих к нам отправил бы не мешкая и договор бы с нами утвердить велел, чтоб стоять нам на всякого недруга заодно». Гонцу был дан наказ: «Если спросят, как теперь царь с литовским королем, отвечать: как я поехал от своего государя, гонец литовский был у него и отпущен в Литву, а государя нашего гонец к королю Стефану поехал; дел больших я не знаю, я паробок у государя своего молодой, большие дела между государей как мне знать можно? А если спросят про Полоцк, каким образом король литовский у государя вашего Полоцк взял, то отвечать: были у государя послы литовские и перемирье заключили на три года, и государь наш, на то оплошась, больших прибылых людей в Полоцке не держал; если крестное целование не крепость, то чему верить? Король к Полоцку пришел нечаянно, через крестное целование, да и взял; но кто через правду и крестное целование что сделает, когда крепко бывает?» В августе того же года, когда Баторий подошел к Лукам, царь послал нового гонца к императору и в грамоте писал: «Послы твои, брата нашего дражайшего и любезнейшего, к нам до сих пор, неизвестно, по какому случаю, не бывали. А Стефан Баторий, воевода седмиградский, теперь на Короне Польской и на Великом княжестве Литовском укрепился по присылке султана турецкого и, сложась с ним и с другими мусульманскими государями вместе, кровь христианскую разливает и вперед разливать хочет. А стоят все мусульманские государи и посаженник турецкого султана Стефан Баторий на наше государство и на нас за то, что мы с твоим отцом и с тобою пересылались, желали всем христианским государям прибытка, хотели, чтоб, кроме вас, никто в Польше и Литве государем не был. И ты бы, брат наш, нам против них способствовал и братскую любовь с нами утвердил; а к Стефану королю отписал бы о таком его безмерстве, и о разлитии крови христианской, и о складке с султаном турецким, чтоб Стефан-король таких дел вперед не делал. Писали к нам из Любека бурмистры и ратманы, что ты не велел в наше государство возить на кораблях товары разные: медь, свинец и олово; не желая ли нас с тобою поссорить, распускают такие слухи? Ибо я никак не думаю, чтоб ты такой приказ дал». Рудольф отвечал с первым гонцом: «До сих пор мы все прилежно помышляли, как бы отправить к вам послов для убогих лифляндцев, но люди, которые были для этого посольства назначены, одни померли, а другие больны. А Ливонская земля принадлежит Священной Римской империи; в нынешнем вашем письме о ней ни слова не сказано». Императорские придворные утешали московского гонца тем, что Баторию скоро нечего будет платить своим наемным войскам. С другим гонцом Рудольф отвечал: «Послы не отправлены потому что еще не было совещания с имперскими чинами насчет Ливонии, которая принадлежит империи; царь покажет свою дружбу к имперским чинам, если не будет вступаться в остальные ливонские города; возить в Московское государство медь, свинец и олово он, Рудольф, не запрещал, а запрещен вывоз из империи оружия и всего относящегося к ратному делу еще при императоре Карле V, и потом это запрещение подтверждено при императоре Максимилиане II: и ваша бы любовь себе то поразумели, меня в этом любительно очистили и на меня не сердились». По окончании войны с Баторием царь вместе с Поссевином отправил одного посланника, Якова Молвянинова, и к папе, и к императору; в грамоте к последнему изъявлял готовность приступить к союзу христианских государей против мусульманских, для чего император и все союзники должны отправить послов в Москву; и так как дело идет о союзе всех христианских государей, то император должен отменить запрещение вывозить оружие в Московское государство.
Мы видели, что Иоанн в разговоре с английским послом назвал и датского короля Фридриха своим недругом. В 1578 году последний прислал в Москву Якова Ульфельда решить дело об Эстонии, на часть которой Дания предъявляла свои права. Но царь не хотел признать этих прав, и Ульфельд принужден был заключить пятнадцатилетнее перемирие на следующих условиях: король признал права Иоанна на всю Ливонию и Курляндию, за что царь уступал ему остров Эзель; король обязался не помогать Польше и Швеции в войне их с Московским государством; обязался не задерживать немецких художников, которые поедут в Москву чрез его владения. Фридрих не был доволен этим договором, осердился на Ульфельда и начал обнаруживать вражду свою к Москве тем, что требовал пошлин с английских купцов на пути их к Белому морю, объявлял свои притязания на некоторые пограничные с Норвегиею места.
Мы видели также, как московские силы в войне с Баторием развлекались постоянным опасением крымских нашествий. Тщетно посол московский оказывал учтивости хану, бил ему челом, обещал ежегодные подарки – хан без Астрахани не хотел давать шерти; и если не было слышно о крымцах во все продолжение войны с Баторием, то этим Москва обязана была войне турок с персами, в которой и хан должен был участвовать. Истомленный этою войною, хан мог вредить Москве, только поджигая волнения между черемисами. «Тридцать один год прошел от покорения Казани, – говорит летописец, – и окаянные бусурманы не захотели жить под государевою рукою, воздвигли рать, пленили много городов. Царь, видя их суровость, послал в Казань бояр и воевод с приказом пленить их. Но поганые, как звери дикие, сопротивлялись рати московской, побивали московских людей то на станах, то на походах бояре и воеводы не могли их усмирить».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
СТРОГАНОВЫ И ЕРМАК
Первые сношения с Сибирью. – Непрочность ее зависимости от Москвы. – Первые известия о Строгановых. – Григорий Строганов получает земли по Каме и строит городки. – Строгановы получают право заводить селения и за Уральскими горами. – Усиление козачества на Дону. – Враждебные столкновения его с государством. – Козацкий атаман Ермак у Строгановых и отправляется ими за Уральские горы. – Гнев царский на Строгановых за это. – Успешные действия Ермака в Сибири. – Он извещает об них Иоанна. – Отправление царских воевод для принятия сибирских городов у козаков. – Преждевременная дряхлость Иоанна; причины ее. – Браки царские. – Убийство сына. – Болезнь и смерть Иоанна. – Объяснение его характера и деятельности.
В то время как на Средней Волге и Нижней Каме дикие народцы делали последние отчаянные усилия, чтоб высвободиться из-под русского подданства, в то время как на Западе Польша и Швеция благодаря личным достоинствам Батория успели соединенными силами оттолкнуть Московское государство от моря, успели отнять у него возможность ближайшего, непосредственного сообщения с Западною Европою, возможность пользоваться плодами ее образованности, необходимыми для скорейшего и окончательного торжества над Азиею, – в то время движение русского народонаселения на северо-восток не только не прекращалось, но усиливалось все более и более, и русский человек перешел наконец через Уральские горы.
Мы видели, как после завоевания Казани князья ногайские сами предложили московскому царю овладеть Астраханью, как потом мелкие владельцы прикавказские стали обращаться в Москву с просьбою о помощи друг против друга, просились в подданство, чтоб иметь сильного покровителя и надежную помощь. Точно так же поступил и владелец Сибири, татарского юрта, лежавшего в средине нынешней Тобольской губернии, юрта очень незначительного самого по себе, но значительного в той пустынной стране, где на громадных пространствах редко разбросаны были малочисленные роды разноплеменных и разнообычных жителей. В генваре 1555 года пришли говорит летопись послы к царю от сибирского князя Едигера и от всей земли Сибирской, поздравили государя с царством Казанским и Астраханским и били челом, чтоб государь князя их и всю землю Сибирскую взял в свое имя и от всех неприятелей заступил, дань свою на них положил и человека своего прислал, кому дань сбирать. Государь пожаловал, взял князя сибирского и всю землю в свою волю и под свою руку и дань на них положить велел; послы обязались за князя и за всю землю, что будут давать с каждого черного человека по соболю и по белке сибирской, а черных людей у себя сказали 30700 человек. Царь отправил в Сибирь посла и дорогу (сборщика дани) Дмитрия Курова, который возвратился в Москву в конце 1556 года вместе с сибирским послом Бояндою. Дани Едигер прислал только 700 соболей, об остальной же посол объявил, что воевал их шибанский царевич и взял в плен много людей, отчего и мехов собрать не с кого. Но Куров говорил, что дань было можно собрать сполна, да не захотели, вследствие чего царь положил опалу на Боянду, велел взять у него все имение, самого посадить под стражу, а в Сибирь отправил служивых татар с грамотою, чтоб во всем исправились. В сентябре 1557 года посланные татары возвратились с новыми послами сибирскими, которые привезли 1000 соболей да дорожской пошлины 106 соболей за белку; привезли и грамоту шертную с княжею печатью, в которой Едигер обязывался быть у царя в холопстве и платить каждый год всю дань беспереводно. Но такая зависимость Сибирского юрта от Москвы была непрочна: Едигер поддался с целию иметь помощь от русского царя против своих недругов или по крайней мере сдерживать их страхом пред могущественным покровителем своим; но помощь трудно было получить ему по самому отдалению его владений от областей московских, и та же отдаленность отнимала страх у врагов его, которые надеялись безнаказанно овладеть Сибирским юртом и потом в случае нужды умилостивить московского царя обязательством платить ему такую же дань, какую платил прежний князь. В Сибири понимали хорошо свое положение, характер отношений своих к Москве; так, сибирский князь говорил одному из русских людей: «Теперь собираю дань, к господарю вашему послов отправлю; теперь у меня война с козацким царем (киргиз-кайсацким); одолеет меня царь козацкий, сядет на Сибири, но и он господарю дань станет же давать». Действительно, мы видим в Сибири перемены: князья изгоняют, губят друг друга; Москва, не принимая никакого участия в этих переменах, требует одного – дани; князья то соглашались платить ее, то отказывались, надеясь на безнаказанность вследствие той же отдаленности; так, последний князь или царь, утвердившийся в Сибири, Кучум, обязался было платить дань Иоанну, а потом убил московского посла. Прочное подданство Зауралья Москве могло утвердиться только вследствие известного движения русского народонаселения на северо-восток, когда русские промышленные люди приблизили свои селища к Каменному Поясу и потом задумали перейти и через него.
В истории этого движения на северо-восток, в истории колонизации Северо-Восточной Европы с важным значением является род Строгановых. Мы видели, как ошибочно было так долго господствовавшее у нас мнение, что вся обширная область, известная под именем Двинской земли, принадлежала Новгороду Великому; мы видели, что здесь с новгородскими владениями были перемешаны владения ростовских, а потом московских князей. От второй половины XV века, когда Иоанн III получил возможность разделиться с новгородцами в Двинской земле, отобрать от них земли, принадлежавшие прежде ему и ростовским князьям, дошла до нас выпись из судейских списков о двинских землях, где обозначены отобранные у новгородцев земли, как принадлежавшие ростовским князьям, так и великому князю московскому. При исчислении этих земель говорится, что их искали такие-то люди на таких-то новгородцах, несправедливо эти земли захвативших; при исчислении земель, долженствующих принадлежать московскому великому князю, говорится, что искал их на новгородцах Лука Строганов; также при исчислении некоторых земель, принадлежавших князю Константину Владимировичу ростовскому, истцом обозначен тот же Лука Строганов. Искал ли Лука Строганов этих земель потому, что они находились у него в оброчном содержании, или потому, что был уполномочен искать их от князей московского и ростовского как известный, богатый, искусный в делах и знающий старину уроженец тех стран, – из приведенного акта решить нельзя; мы видим, что земли ростовских князей кроме Строганова отыскиваются разными лицами, между прочим Федором Василисовым, старостою васильским и пеженским; искал этот Федор на троих новгородцах, которые отвечали вместо владыки Ионы; следовательно, и Строганов с товарищами мог искать вместо князей московского и ростовских. На богатство Строгановых при Василии Темном есть любопытное указание в грамоте царя Василия Иоанновича Шуйского, который, уговаривая в 1610 году Строгановых ссудить его значительною суммою денег, пишет к ним: «Припомните, когда вы в прежние времена выкупили из плена великого князя Василия Васильевича, какой великой чести сподобились». Мы видели, как охотно князья уступали обширные земельные участки людям, бравшимся населить их, какие льготы давали этим населителям: освобождение на несколько лет от всех податей, издержек на проезжих чиновников, право суда над поселенными людьми, кроме душегубства и суда смесного, и т. п. Строгановы по своим обширным средствам являются главными населителями пустынных земель на северо-востоке: при великом князе Василии Иоанновиче внуки упомянутого Луки Строганова получили право населить пустынный участок в Устюжском уезде, в Вондокурской волости. В царствование Иоанна IV Строгановы обратили свою промышленную деятельность далее на восток, в область Камы; в 1558 году Григорий Аникиев Строганов бил царю челом и сказывал: в осьмидесяти осьми верстах ниже Великой Перми, по реке Каме, по обе ее стороны, до реки Чусовой, лежат места пустые, леса черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые, и всего пустого места здесь сто сорок шесть верст; до сих пор на этом месте пашни не паханы, дворы не стаивали и в царскую казну пошлина никакая не бывала, и теперь эти земли не отданы никому, в писцовых книгах, в купчих и правежных не написаны ни у кого. Григорий Строганов бил челом, что хочет на этом месте городок поставить, город пушками и пищалями снабдить, пушкарей, пищальников и воротников прибрать для береженья от ногайских людей и от иных орд; по речкам до самых вершин и по озерам лес рубить, расчистя место, пашню пахать, дворы ставить, людей называть неписьменных и нетяглых, рассолу искать, а где найдется рассол, варницы ставить и соль варить. Царские казначеи расспрашивали про эти места пермича Кодаула, который приезжал из Перми с данью, и Кодаул сказал, что эти места искони вечно лежат впусте и доходу с них нет никакого и у пермичей там нет угодий никаких. Тогда царь Григория Строганова пожаловал, отдал ему эти земли, с тем чтоб он из других городов людей тяглых и письменных к себе не называл и не принимал, также чтоб не принимал воров, людей боярских, беглых с имением, татей и разбойников; если приедут к нему из других городов люди тяглые с именами и детьми, а наместники, волостели или выборные головы станут требовать их назад, то Григорий обязан высылать их на прежние места жительства. Купцы, которые приедут в городок, построенный Строгановым, торгуют в нем беспошлинно; варницы ставить, соль варить, по рекам и озерам рыбу ловить Строганову безоброчно; а где найдет руду серебряную, или медную, или оловянную, то дает знать об этом царским казначеям, а самому ему тех руд не разрабатывать без царского ведома. Льготы Строганову дано на двадцать лет: какие неписьменные и нетяглые люди придут к нему жить в город и на посад и около города на пашни, на деревни и на починки, с тех в продолжение двадцати лет не надобно никакой дани, ни ямских и селитряных денег, ни посошной службы, ни городового дела, ни другой какой-либо подати, ни оброка с соли и рыбных ловель в тех местах. Которые люди поедут мимо того городка из Московского ли государства, или из иных земель, с товарами или без товару, с тех пошлины не брать никакой, торгуют ли они тут или не торгуют; но если сам Строганов повезет или пошлет соль или рыбу по другим городам, то ему с соли и с рыбы всякую пошлину давать, как с других торговых людей пошлины берутся. Поселившихся у Строганова людей пермские наместники и тиуны их не судят ни в чем, праветчики и доводчики в его городок и деревни не въезжают ни за чем, на поруки его людей не дают и не присылают к ним ни за чем: ведает и судит своих слобожан сам Григорий Строганов во всем. Если же людям из других городов будет дело до Строганова, то они в Москве берут управные грамоты, и по этим грамотам истцы и ответчики без приставов становятся в Москве перед царскими казначеями на Благовещеньев день. Когда урочные двадцать лет отойдут, Григорий Строганов обязан будет возить все подати в царскую казну в Москву на Благовещеньев день. Если царские послы поедут из Москвы в Сибирь и обратно или из Казани в Пермь и обратно мимо нового городка, то Строганову и его слобожанам подвод, проводников и корму посланникам в продолжение двадцати льготных лет не давать; хлеб, соль и всякий запас торговые люди в городе держат и послам, гонцам, проезжим и дорожным людям продают по цене, как между собою покупают и продают; также проезжие люди нанимают полюбовно подводы, суда, гребцов и кормщиков. До урочных двадцати лет Строганов с пермичами никакого тягла не тянет в счету с ними не держит ни в чем. Если же окажется, что Григорий Строганов бил царю челом ложно, или станет он не по этой грамоте ходить, или станет противозаконно поступать (воровать), то эта грамота не в грамоту.
Таким образом, грамота, которою давалось право на заселение пустынных прикамских пространств, будучи сходна вообще с грамотами, которые давались населителям пустынных пространств во всех частях государства, должна была и разниться от них: Прикамская сторона была украйна, на которую нападали дикие зауральские и приуральские народцы; правительство не могло защищать от них насельника, он должен был защищаться сам, своими средствами, должен был строить городки или острожки, снабжать их нарядом (артиллериею), содержать ратных людей. Понятно, что к этому могли быть способны только насельники, обладавшие обширными средствами: отсюда уясняется важное значение Строгановых, которые одни, по своим средствам, могли заселить Прикамскую страну, приблизить русские селища к Уралу и чрез это дать возможность распространить их и за Урал. Понятно также, что Строгановы могли совершить этот подвиг на пользу России и гражданственности не вследствие только своих обширных материальных средств; нужна была необыкновенная смелость, энергия, ловкость, чтоб завести поселения в пустынной стране, подверженной нападениям дикарей, пахать пашни и рассол искать с ружьем в руке, сделать вызов дикарю, раздразнить его, положивши пред его глазами основы гражданственности мирными промыслами. Для наряда для пушек и пищалей в своем новом городке Строганов нуждался в селитре; царь по его челобитной позволил ему на Вычегодском посаде и в Усольском уезде сварить селитры, но не больше тридцати пудов, причем писал старостам тех мест: «Берегите накрепко, чтоб при этой селитряной варке от Григорья Строганова крестьянам обид не было ни под каким видом, чтоб на дворах из-под изб и хором он у вас copy и земли не копал и хором не портил; да берегите накрепко, чтоб он селитры не продавал никому». Строганов построил городок, назвал его Канкором, но через пять лет одного городка оказалось мало; в 1564 году Строганов бил челом, чтоб царь позволил ему поставить другой городок, в двадцати верстах от Канкора: нашли тут рассол, варницы ставят и соль варить хотят, но без городка люди жить не смеют, и слух дошел от пленников и от вогуличей, что хвалятся сибирский салтан и шибаны идти на Пермь войною, а прежде они Соликамск дважды брали. Царь исполнил и эту просьбу, и явился новый городок – Кергедан с стенами в тридцать сажен, а с приступной стороны, для низкого места, закладен он был вместо глины камнем. В 1566 году брат Григория, Яков, от имени отца своего, Аникия Федорова, бил челом, чтоб государь пожаловал, взял их городки Канкор и Кергедан и все их промыслы в опричнину, – и эта просьба была исполнена. В 1568 году тот же Яков бил челом, чтоб додано было ему земли еще на двадцать верст к прежнему пожалованию, причем также обязывался построить крепости на свой счет с городовым нарядом скорострельным, – земля была ему дана с такими же условиями, как и прежде, но поселенцы освобождались от податей только на 10 лет.
До 1572 года в прикамских областях все было тихо, но в этом году пермский воевода донес царю, что сорок человек возмутившихся черемис вместе с остяками, башкирами и буинцами приходили войною на Каму, побили здесь пермичей, торговых людей и ватащиков 87 человек. Иоанн по этим вестям послал Строгановым грамоту, в которой писал: «Вы бы жили с великим береженьем, выбрали у себя голову доброго да с ним охочих козаков, сколько приберется, с всяким оружием, ручницами и саадаками; велели бы прибрать также остяков и вогуличей, которые нам прямят, а женам и детям их велели бы жить в остроге. Этих голов с охочими людьми, стрельцами, козаками, остяками и вогуличами посылайте войною ходить и воевать наших изменников – черемису, остяков, вотяков, ногаев, которые нам изменили. А которые будут черемисы или остяки добрые, захотят к своим товарищам приказывать, чтоб они от воров отстали и нам прямили, таких вы не убивайте и берегите их, и мы их пожалуем; а которые прежде воровали, а теперь захотят нам прямить и правду свою покажут, таким велите говорить наше жалованное слово, что мы их не накажем и во всем облегчим, пусть только собираются и вместе с охочими людьми ходят воевать наших изменников, и которых повоюют, тех имение, жен и детей пусть берут себе, и вы бы у них этого имения и пленников отнимать никому не велели». Строгановы исполнили приказ: выбранный ими голова с охочими людьми ходил на государевых изменников – одних побил, других привел к шерти, что будут вперед прямить государю.
Утвердившись по ею сторону Урала, Строгановы, естественно, должны были обратить внимание и на земли зауральские, обещавшие им еще более выгод, чем страны прикамские. Случай к испрошению себе права на отыскание новых землиц за Уралом скоро представился Строгановым. Новый сибирский салтан Кучум действовал враждебно против Московского государства: бил, брал в плен остяков, плативших дань в Москву; в июле 1573 года сибирский царевич Маметкул приходил с войском на реку Чусовую проведовать дороги, как бы ему пройти к Строгановским городкам и в Пермь Великую, причем побил много остяков, московских данщиков, жен и детей их в плен повел, государева посланника, шедшего в Киргиз-Кайсацкую орду, убил. Не доходя пяти верст до Строгановских городков, Маметкул возвратился назад, испуганный рассказами пленников, что в городках этих собралось много ратных людей. Строгановы, уведомивши царя о нападениях сибирского салтана и царевича, били челом, что они своих наемных козаков за сибирскою ратью без царского ведома послать не смеют, между тем как зауральские остяки просят, чтоб государь оборонял их от сибирского салтана, а они будут платить дань в Москву; для этого бы государь пожаловал их, Якова и Григорья Строгановых, позволил между тахчеями, на реке Тоболе и по рекам, которые в Тобол впадают, до вершин их, на усторожливом месте крепости делать, сторожей нанимать и огненный наряд держать на свой счет, железо вырабатывать, пашни пахать и угодьями владеть. Предложение перенести русские владения за Урал, приобрести там новых данщиков и оборонять их без всяких издержек и хлопот со стороны правительства не могло не понравиться Иоанну; он дал Строгановым право укрепляться и за Уралом на тех же условиях, на каких они завели селения по Каме и Чусовой, с обязанностию надзирать и за другими промышленниками, которые вздумают поселиться по Тоболу и другим рекам сибирским. «Где Строгановы найдут руду железную, – говорит царская грамота, – то ее разрабатывают; медную руду, оловянную, свинцовую, серную также разрабатывают на испытание. А кто другой захочет то же дело делать, позволять ему да и пооброчить его промысел, чтоб нашей казне была прибыль; если кто-нибудь за этот промысел возьмется, отписать к нам, как дело станет делаться, во что какой руды в деле пуд будет становиться и сколько на кого положить оброку – все это нам отписать, и мы об этом указ свой учиним. Льготы на землю тахчеев и на Тобол-реку с другими реками и озерами до вершин, на пашни, дали мы на 20 лет: в эти годы пришлые люди не платят никакой дани. Которые остяки, вогуличи и югричи от сибирского салтана отстанут, а начнут нам дань давать, тех людей с данью посылать к нашей казне самих. Остяков, вогуличей и югричей с женами их и детьми от прихода ратных людей-сибирцев беречь Якову и Григорью у своих крепостей, а на сибирского салтана Якову и Григорыо собирать охочих людей – остяков, вогуличей, югричей, самоедов – и посылать их воевать вместе с наемными козаками и с нарядом, брать сибирцев в плен и в дань за нас приводить. Станут к Якову и Григорью в те новые места приходить торговые люди бухарцы и киргизы и из других земель с лошадьми и со всякими товарами, в Москву которые не ходят, то торговать им у них всякими товарами вольно, беспошлинно. Также пожаловали мы Якова и Григорья: на Иртыше, и на Оби, и на других реках, где пригодится, для обереганья и охочим людям для отдыха строить крепости, держать сторожей с огненным нарядом, ловить рыбу и зверя безоброчно до исхода урочных двадцати лет». Таким образом, Строгановы получили право завести промыслы и за Уралом вместе с необходимым правом или обязанностию не только построить острожки для оберегания этих промыслов, не только вести оборонительную войну, но также и наступательную – посылать войско на сибирского салтана, брать сибирцев в плен и в дань приводить за царя; эта наступательная война была необходима: за Уралом, прежде чем взять землю в свое владение, завести на пей промыслы, надобно было ее очистить от сибирского салтана, который считал ее своею собственностию. Строгановы обязывались вести эту войну на свой счет, должны были иметь свое войско; из кого же могли они составить его? На охочих инородцев – остяков, вогуличей, югричей, самоедов – была плохая надежда; мирные промышленники нуждались в передовых людях колонизации, которые вовсе не имеют мирного промышленного характера, нуждались в отыскивателях путей, новых землиц, нуждались в козаках.
Мы видели уже, как вследствие географического положения древней России, открытости границ со всех сторон, соприкосновенности их с степями и пустынными пространствами, как вследствие одного из господствующих явлений древней русской жизни – колонизации – общество должно было постоянно выделять из себя толпы людей, искавших приволья в степи, составлявших передовые дружины колонизации, по имени зависевших от государства, на деле мало обращавших внимания на его интересы и по первоначальному характеру своему, и по одичалости в степях, и по безнаказанности, которая условливалась отдаленностию от государства и слабостию последнего. Мы видели, что уже при Василии Иоанновиче рязанские козаки хорошо знали места по Дону; при сыне Василия они здесь утверждаются, принимают от места название донских и становятся страшны ногаям, крымцам, азовцам. На жалобы одного ногайского мурзы, что русские козаки грабят его людей, московское правительство отвечало: «Вам гораздо ведомо: лихих людей где нет? На поле ходят козаки многие, казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни козаки; и из наших украйн, с ними же смешавшись, ходят; и те люди как вам тати, так и нам тати и разбойники; на лихо никто их не учит; а учинив какое-нибудь лихо, они разъезжаются по своим землям». Не из одних, впрочем, жителей Рязанской области составлялись толпы донских казаков: на Дон шли и севруки – жители Северной Украйны, подобно рязанцам, издавна славившиеся своею отвагою. Ногайский князь Юсуф писал в Москву в 1549 году: «Наши люди ходили в Москву с торгом, и, как шли назад, ваши козаки и севруки, которые на Дону стоят, их побили». Видим, что козаки городовые, находившиеся под ближайшим надзором государства, сделавши что-нибудь противное его интересам, уходили на Дон; так, путивльские козаки, замешанные в деле о грабеже крымского гонца, Левон Бут с товарищами, сказывали: было их на поле шесть человек и весновали на Донце, потом пошли было в Путивль, но на Муравском шляху встретились с ними черкасские (малороссийские) козаки, 90 человек, взяли их с собою и крымского гонца пограбили; после грабежа Левон Бут сам-четверт пришел в Путивль, а двое товарищей его отстали, пошли на Дон. Русский гонец доносил: «Шли мы Волгою из Казани в Астрахань, и, как поравнялись с Иргызским устьем, пришел на нас в стругах князь Василий Мещерский да козак Личюга Хромой, путивлец, и взяли у нас судно царя Ямгурчея; я у них просил его назад, но они мне его не отдали и меня позорили». На жалобы Юсуфа ногайского царь отвечал опять: «Эти разбойники живут на Дону без нашего ведома, от нас бегают. Мы и прежде посылали не один раз, чтоб их переловить, по люди паши добыть их не могут. Мы и теперь посылаем добывать этих разбойников, и, которых добудем, тех казним. А вы бы от себя велели их добывать и, переловивши, к нам присылали. А гости ваши дорогою береглись бы сами, потому что сам знаешь хорошо: на поле всегда всяких людей много из разных государств. И этих людей кому можно знать? Кто ограбит, тот имени своего не скажет. А нам гостей наших на поле беречь нельзя, бережем и жалуем их в своих государствах». Но Юсуф не переставал жаловаться. «Холопы твои, – писал он царю, – какой-то Сары-Азман слывет, с товарищами, на Дону в трех и четырех местах города поделали да наших послов и людей стерегут и разбивают. Какая же это твоя дружба! Захочешь с нами дружбы и братства, то ты этих своих холопей оттуда сведи». Мы видели, как султан жаловался на донских козаков, приписывал им такие подвиги, о которых из других источников мы не знаем, например что они Перекоп воевали, Астрахань взяли. Вражда была постоянная между азовскими турецкими козаками и донскими русскими: московский посол Нагой писал к государю, что ему нельзя послать вести в Москву, «потому что азовские козаки с твоими государевыми козаками не в миру». Козаки были нужны московскому правительству в этих пустынных странах не для одного противодействия хищным азиатцам: отпуская в Константинополь посла Новосильцева через Рыльск и Азов, государь велел послать проводить его до донских зимовищ донского атамана Мишку Черкашенина (прозвание это показывает, что Мишка был малороссийский козак), а с ним его прибору атаманов и козаков 50 человек. Новосильцев должен был донским атаманам и козакам говорить государевым словом, чтоб они государю послужили, его, посла, в государевых делах слушали. На Донец Северский атаманам и козакам, всем без отмены, послана была царская грамота, чтоб они Новосильцева слушались во всех государевых делах, ходили бы, куда станет посылать. «Тем бы вы нам послужили, – писал царь, – а мы вас за вашу службу жаловать хотим». Как важна была помощь козаков в степи русским послам и к какой жизни должны были привыкнуть здесь козаки, всего лучше видно из донесений послов о их многотрудном пути. Новосильцев, например, писал из Рыльска от 10 марта: «Снега на поле очень велики и осеренило их с великого мясоеда, отчего с лошадьми идти вперед нельзя, серень не поднимает: мы думаем взять салазки, а сами пойдем на ртах к Северскому Донцу. Мишкина прибора козак поместный Сила Нозрунов на твою государеву службу не пошел, воротился из Рыльска к себе в вотчину Рыльскую». Потом Новосильцев писал: «Шли мы до Донца на ртах пешком, а твою государеву казну и свой запасишка везли на салазках сами. Как пришли мы на Донец первого апреля, я велел делать суда, на которых нам идти водяным путем к Азову, и за этими судами жили мы на Донце неделю; а у Мишки Черкашенина, у атаманов и козаков не у всех были суда готовые старые на Донце, и они делали себе каюки». О возвратном пути своем из Азова Новосильцев доносил: «Как мы пошли из Азова, пришла ко мне весть, что за нами пошли из Азова полем козачьи атаманы, Сенка Ложник с товарищами, 80 человек, да с ними же прибираются Казыевы татары да два атамана крымских, а с ними человек с 300, и хотят нас на Дону или на Украйне громить с обеих сторон; а со мною донских атаманов и козаков идет для береженья немного: иные атаманы и козаки со мною не пошли и твоей грамоты не послушали». Любопытно, что азовский козачий атаман называется Сенка Ложник, а русский донской атаман называется Сары-Азман. Как упомянутый Мишка Черкашенин отмстил за своего сына, взятого в плен крымцами и казненного, видно из следующего донесения из Крыма в Москву: «Прислал турский царь чауша к крымскому царю и писал к нему: зачем ты казнил сына Мишки Черкашенина? Теперь у меня донские козаки за сына Мишкина Азов взяли, лучших людей из Азова побрали 20 человек да шурина моего Усеина кроме черных людей».