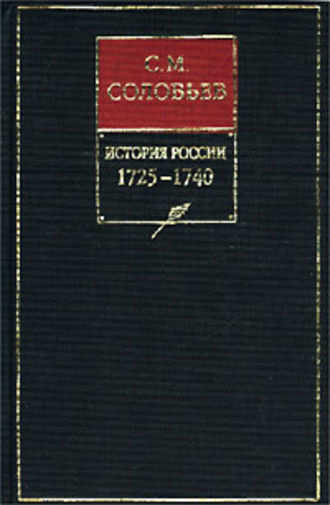
Сергей Соловьев
История России с древнейших времен. Книга X. 1725–1740
Свидание польского и прусского королей сильно беспокоило и польских вельмож, и русского посланника. Долгорукий отправился в Дрезден и оттуда давал знать в Москву о трактате, будто бы заключенном между Саксониею и Пруссиею, по которому Пруссия обязалась помогать возведению саксонского наследного принца на польский престол, за что получит польскую Пруссию, а прусский король обещал отдать свои швейцарские владения Морицу вместо Курляндии; если же Пруссии нельзя будет получить польской Пруссии, то король Август обязался уступить ей часть Лузации. Долгорукий не сомневался в существовании подобного трактата. «Понеже, – писал он, – нужнее прусскому двору польские Пруссы, нежели кусок в Швейцарах. Двор здешний, по-видимому, никогда надежен не был на свои прогрессы, как ныне, и во всех компаниях говорят почти публично уже как бы заподлинно, что королевич королем будет в Польше». Из Москвы успокаивали Долгорукого: «Есть ли какие секретные обязательства между королями польским и прусским насчет польского престола, о том до сего времени подлинного проведать мы не могли, и можно думать, что таких обязательств нет; по всем вероятностям, при нынешнем министерстве прусском за такую химеру, как приобретение польской Пруссии, не возьмутся, ибо никто из соседей не допустит, чтоб польская Пруссия была оторвана от Речи Посполитой, особливо цесарь никогда на это не согласится; несмотря на то, надобно вам стараться подлинно проведовать о тайных обязательствах между двумя дворами, чтоб мы могли заблаговременно свои меры взять». Но Долгорукий не успокаивался и причиною беспокойства выставлял сильный набор войска в Саксонии и небывалую прежде дружбу с Пруссиею, а возвратившись в Варшаву, посланник доносил, что здесь все убеждены насчет трактата между Саксониею и Пруссиею о возведении наследного принца саксонского на польский престол.
В августе месяце открылся сейм в Гродне. «Неимоверно, – писал Долгорукий, – с каким желанием король и все придворные сторонники стремятся доставить гетманскую булаву Понятовскому, не жалея ни труда, ни денег, все единодушно, кроме фамилии Потоцких, князя Сангушки и гетмана литовского Потея, которые со мною чрезвычайно сблизились; я обещаю Потоцким милость вашего величества и вспоможения для получения гетманства члену их фамилии; надеюсь, что королю ни в чем не будет успеха и сейм скоро разорвется, потому что по рабской моей должности неусыпное старание имею и на сеймиках некоторых послов избрать помог пристойными дачами». Сейм разорвался.
В Швеции после отъезда князя Василья Лукича Долгорукого остался по-прежнему в звании чрезвычайного посланника граф Николай Головин. Он начал свои донесения новому императору жалобами на холодность, какую оказывало ему шведское правительство. Какой-то благонадежный друг за великую конфиденцию сказывал Головину, что шведское министерство ищет всякого способа, как бы заставить русский двор объявить Швеции войну, чтоб можно было приписать России начало враждебного движения, и таким образом, в силу договора о приступлении к ганноверскому союзу, требовать помощи от Франции и Англии. С русским посланником обходились холодно, а присланного от султана агу осыпали ласками. Граф Горн с товарищи везде разглашал, что теперь самое благоприятное время для отобрания у России завоеваний Петра Великого. Отправили шведскому посланнику в Петербурге Цедеркрейцу приказание объявить русским министрам, что шведское правительство не будет давать их государю императорского титула, если Россия не уступит Швеции Выборга. Но Цедеркрейц отвечал, что такое предложение теперь делать неудобно, потому что правительство в России идет порядочно, никакой смуты нет и вперед ожидать нельзя, войско в хорошем состоянии и хотя относительно флота есть упущения, однако все можно исправить в непродолжительное время. Эти донесения заставили переменить тон: Горн чрез своих сторонников начал разглашать, что так как герцог голштинский и его министры удалены из России, то этим все столкновения между русским и шведским дворами прекращаются. В сентябре Головин сообщил любопытное известие: «Здесь недоброжелательные к России люди очень жалеют об удалении князя Меншикова от двора, говорят явно, что они потеряли в своих намерениях великого патрона». В то же время Головин дал знать, что к турецкому are приезжали министры английский и французский и говорили, чтоб он отписал своему двору о необходимости приготовляться к войне с Россиею и цесарем. Война должна быть начата будущей весной, когда Швеция с помощию английского и французского флотов нападет на Россию. Ага действительно написал об этом к Порте, за что получил от английского и французского министров 2000 червонных. Горн и сенатор Дибен с своей стороны говорили are, что если по его старанию Порта объявит войну России, то он получит от шведского правительства 10000 червонных, а в задаток подарили ему 1000 червонных и мех соболий. Надежный приятель сказал Головину, что как скоро турецкий ага выедет из Стокгольма, то король пошлет от себя к Порте в звании чрезвычайного посланника Нейгебауера, который уже был там министром при Карле XII. Головин доносил, что так называемые доброжелательные барон Цедергельм и граф Тесин просят пенсионов, выставляя на вид, что пострадали за приверженность к России; к этим двоим Головин прибавлял также графа Дикера; но в России против его донесения заметили: «Мнится, что хотя б и дать на год, на другой по нескольку, когда усмотрим, как наши дела сШвециею обойдутся». В Швеции также дожидались, как дела в России обойдутся. Головин доносил, что граф Горн и его партия бесстыдно льстят себя надеждою, что в России будет бунт и царь намерен вовсе оставить Петербург и жить в Москве.
Но в конце 1727 года ветер переменился: король принял Головина чрезвычайно милостиво, и было узнано, что с двух сторон, из Англии и из Франции, пришли внушения не ссориться с Россиею до времени. Горн также начал рассыпаться в уверениях насчет своей преданности к России и объявил, что в скором времени представит доказательства этой преданности. Впрочем, Горн имел и другие побуждения переменить обращение с Головиным: он разладил с королем, а король продолжал ласкать турецкого агу, подущая его писать к Порте против России, именно что скоро будет бунт на Украйне и Порта может воспользоваться этим случаем для приведения Украйны под свою власть, а Швеция в это время отберет завоеванные у нее Петром Великим области.
В начале 1728 года Головин доносил, что вражда между королем и Горном день ото дня увеличивается и Горн соединяется с русским сторонником фельдмаршалом графом Дикером для поддержания шведской вольности, угрожаемой королем. На это извещение посланник получил ответ из России: «Вражду между графом Горном и королем содержать и, ежели возможно, еще умножать весьма б полезно было; но потребно будет в том со всякою осторожностию поступать». «Буду об этом стараться, – писал Головин, – только надобно иметь некоторую сумму денег для раздачи фаворитам графа Горна, чтоб они побуждали его к большей ссоре с королем; теперь время перетянуть Горна на русскую сторону, и сделать это легко, заплативши ему 12000 ефимков, которые должен ему герцог голштинский, потому что при последнем свидании граф Горн упоминал мне об них, ставя себе в обиду, что герцог не отдает ему долга».
В ноябре 1728 года приехал в Стокгольм на побывку бывший в Петербурге посланником барон Цедеркрейц и донес королю, что сухопутное войско русское находится в добром порядке и может выступить в поход по объявлении указа в три дня; касательно галерного флота объявил, что хотя каждый год строится по нескольку галер, однако теперь галерный флот перед прежним сильно уменьшается, а корабельный флот приходит в прямое разорение, потому что старые корабли, находящиеся в Кронштадте, все гнилы и на будущий год из Кронштадтской гавани больше четырех или пяти линейных кораблей вскоре вывести нельзя, а постройка новых кораблей ослабела, потому что при отъезде его только два или три линейных корабля при Петербургском адмиралтействе на штапелях были, из которых один к будущей осени может быть готов; в Адмиралтействе такое несмотрение, что флот и в три года нельзя привести в прежнее состояние, а об этом приведении в прежнее состояние и не думают. Но рассказы об упадке русского флота не могли успокоить короля, когда в то же время давали знать, что сухопутное войско в порядке, следовательно, Финляндия не может быть безопасна. Король удивил Головина своим ласковым обхождением и высказыванием желаний сблизиться с Россиею; посланник приписывал это сближению своему с графом Горном и неудовольствию шведов на англичан; но, как видно, была еще другая важнейшая причина: придворная партия интриговала, чтоб брату королевскому гессен-кассельскому принцу Георгию дан был в Швеции чин генерал-фельдцейгмейстера и таким образом проложен был путь к престолу шведскому; но так как права голштинского дома на шведский престол поддерживались Россиею, то король хотел сблизиться с русским двором в надежде, что император для дружбы со Швециею откажется от покровительства герцогу голштинскому. Головин доносил, что голштинская партия слабеет, во-первых, от того, что членам ее не выплачиваются пенсионы, а во-вторых, от высокомерного обращения голштинского резидента в Стокгольме Рейхеля, которого переменить нет надежды, потому что он зять Бассевича.
Предложение о назначении гессенского принца фельдцейгмейстером не прошло в Сенате, но король все продолжал заискивать дружбу русского императора. В апреле 1729 года он отозвал Головина в свой кабинет и объявил, что желает восстановления дружбы и тесного союза между Россиею и Швециею, распространялся в похвалах Петру II, мудрости его правления и в заключение сказал, что получены верные известия о намерении императора предпринять летом путешествие в Германию и если ему угодно будет ехать чрез Кассель, то он, король, сильно желал бы там с ним повидаться. Но восстановление дружбы и союза зависело не от одного короля, а Горн объявил Головину, что это восстановление произойдет, когда Россия поможет Швеции в ее денежных нуждах, именно заплатит за нее голландский долг, и при этом давал знать, что и он должен получить за свои труды вознаграждение. О голландском долге сказал Головину и сам король. На донесения об этом Головин получил такой ответ из Москвы: «Что надлежит до голландской претензии, то вовсе в том не отказывай, но и не обязывайся платежом, а под пристойными предлогами отводи дело вдаль, ибо надлежит и нам смотреть, каким образом Швеция вперед будет поступать относительно нас, особливо когда сейм будет».
Легко понять, что известие о вступлении на престол Петра II нигде не было принято с таким восторгом, как в Дании. Ал. Петр. Бестужев, описывая в своих донесениях этот восторг, прибавляет: «Король надеется получить вашу дружбу и готов искать ее всевозможными способами, прямо и посредством цесаря; впрочем, здешний двор с беспокойством ждет известия, герцог голштинский по-прежнему ли будет присутствовать в вашем Тайном совете, ибо в таком случае король датский не может поступать откровенно с вашим величеством и, не получа искренней вашей дружбы, не может потерять дружбу королей французского и английского; вот почему, хотя здешний двор и не хочет отпустить свою эскадру в море, тем менее соединить ее с английскою, однако должен в запас приберегать связь с Англиею и Франциею и, чтоб выманить субсидии, велел трем полкам выступить в Голштинию». Герцог голштинский выехал из России, и датский двор успокоился, объявляя на все стороны, что хочет держаться строгого нейтралитета.
В Пруссии в июле 1727 года Головкин заметил любопытную перемену во взгляде на польские дела. Когда русский министр по обыкновению начал говорить Фридриху-Вильгельму, что в случае смерти Августа II по требованию общих интересов России и Пруссии надобно хлопотать о возведении на польский престол какого-нибудь шляхтича, то король отвечал: «Я и сам того же мнения; но если, паче чаяния, в Польше образуются две сильные партии, саксонская и Станислава Лещинского, то лучше будет поддерживать саксонскую партию, чем Станиславову». Перемена объяснялась тем, что Франция и Англия с своими союзниками начали стараться о возведении на престол Лещинского, что было бы вредно для Пруссии и всей Германской империи, потому что Станислав будет всегда держаться Франции и Англии: и для общих интересов полезнее было бы, чтоб наследный принц саксонский стал королем польским, ибо он удобнее может преодолеть сторонников Лещинского, чем Пяст. Но, разумеется, Пруссия не хотела помогать Саксонии даром, и та обещала ей не выкупать Эльбинского округа, но оставить его в вечном владении Пруссии. Касательно курляндского дела прусские министры прямо говорили Головкину: «Если нашему принцу нельзя быть в Курляндии, то зачем нам и вмешиваться в дела этой страны; нам приятнее, чтоб это герцогство разделено было на воеводства, чем досталось такому принцу, который не был бы склонен к нашей стороне». Между тем прусский посланник Мардефельд сделал Петербургскому кабинету также предложение относительно кандидатуры наследного принца саксонского в Польше. Головкин по указу своего двора объявил лично королю, что такая перемена в прусской политике не безудивительна для русского императора, который думает, что к этим саксонским намерениям надобно относиться осторожно. Король отвечал: «Теперь образовались в Европе две партии: цесарская и французская; Польша должна непременно пристать к одной из них, и потому надобно заранее принять в рассуждение, какая партия общим интересам может быть полезнее, а я думаю, что наследный принц саксонский, принадлежащий к цесарской партии, гораздо полезнее Лещинского, который втянет Польшу во французскую партию». Головкин заметил на это, что не следует необходимо предполагать приступления Польши к какой-нибудь из европейских партий: Польша живет особняком и при избрании короля будет смотреть на свои интересы, а между тем и европейские отношения могут перемениться; его величество может сам рассудить, как полезно будет для России и Пруссии, если на польский престол вступит король, у которого будет 20000 и больше собственного войска, и, какие бы выгодные условия ни были предложены Пруссии со стороны Саксонии, все эти условия химерические и никогда исполнены быть не могут. Король отвечал, что если император не желает видеть саксонского наследного принца на польском престоле, то и он, король, не даст на это своего согласия и будет свято соблюдать договоры с Россиею.
Еще в царствование Екатерины, в 1725 году, отправлен был в Китай иллирийский граф, чрезвычайный посланник и полномочный министр Савва Владиславич Рагузинский: «Понеже с китайской стороны для приключившихся пограничных некоторых несогласий не токмо с Российскою империею отправление купечества пресечено и по прежнему обыкновению отправленный российский караван в Китай не пропускается, но и агент Лоренц Ланг, бывший при дворе ханове в Пекине, и все российские купецкие люди из китайского владения пред двумя годами высланы, а наиглавнейшая с китайской стороны претензия и домогательство чинятся в разграничении земель и об отдаче перебежчиков». Как Владиславич начал свое трудное дело, видно из доношения его, присланного из Иркутска в мае 1726 года: «По прибытии в Тобольск трудился я сколько мог в тамошней канцелярии для приискания ведомостей о беглецах, о границах и о прочем и что мог собрать, то взял с собою, хотя ничего в подлинном совершенстве получить не мог за худым управлением прежних губернаторов и комендантов и за таким дальним расстоянием мест и разности народов. Приехавши в Иркутск, получил я письма от агента Ланга из Селенгинска и при них ландкарту некоторой части пограничных земель. Эту ландкарту я осмотрел подробно и увидал, что из нее мало пользы будет, потому что в ней, кроме реки Аргуна, ничего не означено, а разграничивать нужно в немалых тысячах верст на обе стороны… Увиделся я здесь с четырьмя геодезистами, которые посланы для сочинения ландкарт сибирским провинциям, и отправил двоих из них для описания тех земель, рек и гор, которые начинаются от реки Горбицы до Каменных гор и от Каменных гор до реки Уди, потому что при графе Головине все это осталось неразграниченным. Других же двоих геодезистов отправил я вверх по Иркуту-реке, которая из степей монгольских течет под этот город, и оттуда велел им исследовать пограничные места до реки Енисея, где Саянский камень, и до реки Абакана, которая близ пограничного города Кузнецка; также велено им ехать по Енисею-реке за Саянский камень до вершин… Все пограничные крепости – Нерчинск, Иркутск, Удинск, Селенгинск – находятся в самом плохом состоянии, все строение деревянное и от ветхости развалилось, надобно их хотя палисадами укрепить для всякого случая… И китайцы – люди неслуживые, только многолюдством и богатством горды, и не думаю, чтоб имели намерение с вашим величеством воевать, однако рассуждают, что Россия имеет необходимую нужду в их торговле, для получения которой сделает все по их желанию».
В августе 1726 года с речки Буры Владиславич писал: «Сибирская провинция, сколько я мог видеть и слышать, не губерния, но империя, всякими обильными местами и плодами украшена: в ней больше сорока рек, превосходящих величиною Дунай, и больше ста рек, превосходящих величиною Неву, и несколько тысяч малых и средних; земля благообильная к хлебному роду, к рыболовлям, звероловлям, рудам разных материалов и разных мраморов, лесов предовольно, и, чаю, такого преславного угодья на свете нет; только очень запустела за многими причинами, особенно от превеликого расстояния, от малолюдства, глупости прежних управителей и непорядков пограничных. Во всей Сибири нет ни единого крепкого города, ни крепости, особенно на границе по сю сторону Байкальского моря; Селенгинск не город, не село, а деревушка с 250 дворишков и двумя деревянными церквами, построен на месте ни к чему не годном и открытом для нападений, четвероугольное деревянное укрепление таково, что в случае неприятельского нападения в два часа будет все сожжено; а Нерчинск, говорят, еще хуже».
С августа 1726 года до мая 1727 года от Владиславича не было никаких донесений, потому что он находился в это время в Пекине и все сношения по распоряжению китайского двора были пресечены. По словам Владиславича, императрицыну грамоту богдыхан принял на престоле своими руками с превеликим почтением и прочее обхождение чинено по достоинству императрицы и соответственно характеру посла, с большою отменою против прежнего. Потом для переговоров определены были три верховные министра, с которыми Владиславич имел более тридцати конференций. С китайской стороны явились сильные запросы, объявили, что Монгольская земля простирается до Тобольска, потом спустились до Байкала и реки Ангары, где хотели провести границу; своих перебежчиков насчитывали больше шести тысяч. В 23 конференции согласились на словах и трактат написали начерно, что каждая империя должна владеть тем, чем теперь владеет, без прибавки и умаления. Но спустя два дня министры объявили Владиславичу, что они говорили это от себя и его тешили, а богдыхан не согласился, потому что монгольские владельцы прислали просьбу, чтоб Российской империи земель их не уступать, что после головинского мира русские завладели монгольскими землями на несколько дней, а в некоторых местах и по неделе ходу; и если это им не будет возвращено, то они станут отыскивать свое, хотя и вконец разорятся. Потом министры прислали проект трактата с такими крючками и неправдою, что немалая часть Сибирской губернии отрывалась от Русской империи. Восемь конференций китайцы настаивали на принятии этого проекта, то грозили послу, то обещали большое награждение. Владиславич отвечал с равномерною гордостию , как сам выражается, что он не изменник и не предатель отечества и о таком трактате и слышать не хочет, не только его подписывать. Тогда начали притеснять посла и свиту его и, наконец, стали посылать свите соленую воду, отчего половина людей занемогла. Когда и тут Владиславич объявил, что хотя бы все и померли, но договора не подпишет, китайцы сказали ему: «Ты упрямец, а не посол; ты приехал сюда только для поздравления богдыхана и отдачи подарков: возьми подарки к своей императрице и поезжай ни с чем». Призванный в Верховный совет, Владиславич говорил: «Российская империя дружбы богдыхана желает, но и недружбы не очень боится, будучи готова к тому и другому». «Или ты нам войну объявляешь?» – сказали китайцы. «Войну объявить указу не имею, – отвечал Владиславич. – Но если вы Российской империи не дадите удовлетворения и со мною не обновите мира праведно, то с вашей стороны мир нарушен, и, если что потом произойдет противно и непорядочно, богу и людям будет ответчик тот, кто правде противится». После этого китайцы потребовали проекта от посла и, получив его, поднесли богдыхану; тот несколько раз прочел и наконец решил, что в Пекине ничего не заключат, дабы монгольских владельцев не озлобить, а послать на границу с Владиславичем трех министров, на границе все дела окончить и границу определить.
«Я более жил за честным караулом, чем вольным послом, – писал Владиславич. – Как можно видеть из всех их поступков, они войны сильно боятся, но от гордости и лукавства не отступают; а такого непостоянства от рождения моего я ни в каком народе не видал, воистину никакого резону человеческого не имеют, кроме трусости, и если б граница вашего императорского величества была в добром порядке, то все б можно делать по-своему; но, видя границу отворену и всю Сибирь без единой крепости и видя, что русские часто к ним посольство посылают, китайцы пуще гордятся, и, что ни делают, все из боязни войны, а не от любви. В мою бытность в Пекине имел я письменные сношения с тамошними иезуитами и многие известия чрез них получил; они очень усердствовали, однако могли оказать мало помощи, потому что сами терпят большие притеснения от нынешнего богдыхана; некоторые бояре китайские, которые приняли было римскую веру, казнены за это. и всякая религия, кроме китайской, подвержена гонению, поэтому преосвященному Кульчицкому (Иннокентию, назначенному в Китай еще Петром Великим), хотя и договор заключится, в Пекине быть нельзя. Государство Китайское вовсе не так сильно, как думают и как многие историки их возвышают; я имею подлинные известия о их состоянии и силах, как морских, так и сухопутных; нынешним ханом никто не доволен, потому что действительно хуже римского Нерона государство свое притесняет и уже несколько тысяч людей казнил, а несколько миллионов ограбил; из двадцати четырех его братьев только трое пользуются его доверием, прочие же одни казнены, а другие находятся в жестоком заключении; в народе нет ни крепости, ни разума, ни храбрости, только многолюдство и чрезмерное богатство, и как Китай начался, столько золота и серебра в казне не было, как теперь, а народ помирает с голоду; народ малодушный, как жиды; хан тешится сребролюбием и домашними чрезмерными забавами, никто из министров не смеет говорить правду, почти все старые министры отставлены, как военные, так и гражданские; на их местах молодые, которые тешат хана полезными репортами и беспрестанною стрельбою, пушечною и ружейною, будто для воинских упражнений, а более для устрашения народа и ханских родственников, чтоб не бунтовали. Перед отъездом моим из Пекина я завел цифирную переписку с французским иезуитом патером Парени, который пользовался большим расположением покойного хана, и хотя теперешний хан к нему не очень благоволит, однако часто его в совет призывают. Этот патер нашел возможность установить тайную дружбу между мною и ханским тайным советником алегодою Маси, который сделал мне некоторые полезные предостережения; я его одарил, и он обещал мне помогать в пограничных переговорах, которые я буду вести с китайскими министрами».
20 августа 1727 года на реке Буре Владиславич заключил с китайскими министрами договор, на основании какого он домогался в Пекине, т.е. чтоб обе империи на будущее время владели тем, чем теперь владеют. С северной стороны на речке Кяхте – караульное строение Российской империи; с южной стороны на сопке Орогойте – караульный знак Срединной империи; между этими караулами разделить землю пополам, и тут будет отправляться с обеих сторон пограничная торговля. Отсюда на обе стороны отправить комиссаров для определения границы, которую проводить между русскими и монгольскими караулами и маяками: если вблизи владения русских или монгольских людей находятся какие-нибудь сопки, хребты и реки, то их причесть за границу, а где сопок, хребтов и рек нет, прилегли степи, то разделить посредине поровну от обоих владений. Донося об этом уже императору Петру II, Владиславич писал: «Могу ваше императорское величество поздравить с подтверждением дружбы и обновлением вечного мира с Китайскою империею, с установлением торговли и разведением границы к немалой пользе для Российской империи и неизреченной радости пограничных обывателей, в чем мне помогал бог, счастие вашего величества и следующие причины: во-первых, я был отправлен с поздравлением нового богдыхана со вступлением на престол, что было ему чрезвычайно приятно, и он велел меня принять в Пекине, иначе я бы в этом городе не был и ни одного бы дела не окончил. Во-вторых, в бытность мою в Сибири приискал я на китайцев с русской стороны большие претензии, которые дали мне возможность держаться твердо в Пекине; всегда я им на одно слово отвечал двумя и грозил войною, хотя и не явно; я представлял им, что Россия сносила их обиды до настоящего времени, потому что вела три войны – шведскую, турецкую и персидскую, которые все кончила чрезвычайно для себя выгодно: теперь же, не имея ни с кем войны, послала меня к ним искать дружбы и удовлетворения. В-третьих, чрез подарки, посредством отцов иезуитов, сыскал я в Пекине доброжелательных людей, которые хотя мне помочь не могли, однако посредством тайной переписки открывали мне многие замыслы, лукавства и намерения китайских министров; больше всех я обязан названному мною в прежнем донесении тайному советнику (по их – алегода) Маси, которому я послал с караваном в подарок мягкой рухляди на 1000 рублей, а посреднику патеру Парени – на сто рублей. В-четвертых, на границе труднее всего было мне спорить с одним из китайских министров, дядею богдыхана Лонготою, и вдруг в полночь 8 августа приехали из Пекина офицеры и этого гордого Лонготу взяли и отвезли в столицу под крепким караулом, оставшиеся же два министра были гораздо умереннее; кроме того, сблизился я с одним старым тайшою, или князьком, монгольским, который пользуется большим уважением между китайцами, он меня во всем предостерегал и уведомлял о поступках и замыслах китайских министров, и, о чем они днем с ним советовались, о том ночью давал он мне знать чрез своего свойственника; за это я его наградил и обещал давать ежегодно по двадцати рублей до самой его смерти, а долго он не проживет, потому что ему за 70 лет. В-пятых, прибытие тобольского гарнизонного полка на границу, закрытие некоторых городов и мест палисадами, построение новой крепости на Чикойской стрелке, верность ясачных иноземцев, бывших в добром вооружении со мною на границе, более всего помогли заключению выгодного договора». При этом Владиславич доносил о разных злоупотреблениях в Сибири: так, пограничные правители отправляли в Китай своих людей для торгу или для других частных прихотей, а в грамотах писали их посланниками и посланцами, вследствие чего в Китае давали им корм и подводы. Сборщики ясака черных соболей брали себе, а в казну ставили желтых, которых коптили так искусно, что ни Владиславич, ни сибирский губернатор не могли отличить копченого соболя от настоящего; но китайцы различали, и это делало большой подрыв каравану, отпускаемому правительством с его товарами.
Большую заботу доставляло Владиславичу устройство церковных дел в Пекине. Он писал в Петербург, что архиерея послать туда нельзя, ибо это возбудит сильное подозрение китайцев и взволнует европейцев других исповеданий. Вследствие этого Иннокентию Кульчицкому велено было остаться в Сибири в сане епископа иркутского, а в Пекин назначен был архимандрит Вознесенского иркутского монастыря Антоний, который в сентябре 1729 года и приехал в Селенгинск, но вместо иеромонаха привез с собою только одного белого священника, «который совершенный шумница» (пьяница). Антоний жаловался, что Иннокентий, осердясь на него, не дал ему священников, не выдал за первый год жалованья и показывал всякие другие противности как явному неприятелю. Иннокентий с своей стороны писал Владиславичу на Антония, что тот вконец разорил монастырь, монастырских денег на нем более 3000 рублей, и просил эти деньги с него взыскать. «Кто из них прав, о том бог ведает», – писал Владиславич в Петербург.
Заключенный на Буре договор был найден в России очень выгодным, и Владиславич был пожалован тайным советником и кавалером ордена Александра Невского. На другом конце Сибири Беринг, выполняя инструкцию Петра Великого, нашел, что Азия отделяется от Америки широким проливом, и после пятилетнего путешествия в марте 1730 года возвратился в Россию; он не застал уже здесь и второго императора.
В начале сентября 1729 года Петр выехал в сопровождении Долгоруких из Москвы с 620 собаками и возвратился только в начале ноября. Следствия такой долгой отлучки оказались 19 ноября, когда торжественно было объявлено, что император вступает в брак с дочерью князя Алексея Григорьевича Долгорукого Екатериною, которой было 17 лет. 30 ноября было обручение, княжну Екатерину Алексеевну уже начали называть императорским высочеством. По рукам ходила речь фельдмаршала Долгорукого, сказанная им племяннице при поздравлении: «Вчера я был твой дядя, нынче ты – моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава богу, она очень богата, и члены ее занимают хорошие места; итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, но в пользу заслуг и добродетели: это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю».
Но вместе с этой речью ходили слухи, что фельдмаршал Долгорукий, наиболее уважаемый изо всей фамилии, противился браку племянницы с императором, как не могущему повести к добру. Ходило много зловещих слухов: предсказывали, что Долгорукие, идя по стопам Меншикова, будут иметь одинаковую с ним участь; их все ненавидят, они не хотят приобрести ничьего расположения, женят императора силою, употребляя во зло его малолетство; но когда он достигнет 15 или 16 лет, то верные министры разъяснят ему сущность дела, тогда он раскается в своей женитьбе, и Долгорукие погибли, а царица, наверное, кончит монастырем. Толковали, что Долгорукие уже делят между собою высшие должности: Алексей хочет быть генералиссимусом или первым министром, Иван – великим адмиралом, Василий Лукич – великим канцлером, Сергей – обер-шталмейстером. Но иностранные министры зорко подсматривали, как обходится император с своею невестою, и поражались холодностию их отношений, точь-в-точь как Петр обходился с прежнею своею невестою княжною Меншиковою; но при этом шли слухи, что невеста и неохотно принимала бы нежности жениха, потому что сердце ее отдано другому – графу Миллезимо, родственнику цесарского посла графа Вратислава.







