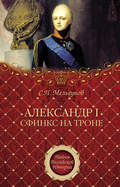Сергей Мельгунов
Трагедия адмирала Колчака
Глава вторая
После переворота
1. Генерал Болдырев
В дни омского переворота Верховный главнокомандующий, член Директории, Болдырев отсутствовал. Он был на фронте. Получив сообщение в Уфе о падении Директории, он записывает 18‑го: «Иллюзий больше не оставалось. Война или уход от власти – других путей не было.
Надо было ехать в Челябинск. Без предварительного переговора с чехами (Сыровой и Нац. Совет) я в тех условиях не мог принять крайних мер, т. е. объявить себя единственной законной властью и бунтовщиками Колчака и омский Совет министров. Для меня было совершенно ясно содействие Колчаку со стороны англичан (Нокс, Родзянко, Уорд) и благожелательное сочувствие французов. Осуществленная Омском идея военной диктатуры пользовалась сочувствием большинства офицеров, буржуазии и даже части сильно поправевших демократических групп…
В сложившихся условиях восстановление прав пострадавших Авксентьева и Зензинова силой не было бы популярным, оно невольно связывало бы меня и с черновской группой, к которой я сам лично относился отрицательно.
Как ни ничтожны были по моральному весу группы, совершившие переворот, они требовали определенной вооруженной силы для их ликвидации и за время моего продвижения к Омску могли значительно окрепнуть, просто подгоняемые чувством самосохранения. Таким образом, для похода на Омск надо было снять войска с фронта и тем самым ослабить важнейшее уфимское направление или взять таковые из Челябинска, но там были войска из состава Сибирской армии с начальниками, тесно связанными с Омском.
В 9 час. веч. ко мне прибыл особоуполномоченный Директории в Уфе, Знаменский. Он знал уже о случившемся и вместе с Советом управляющих ведомствами не только был в оппозиции совершившемуся, но и приступил к немедленной, правда, пока словесной борьбе. Он просил меня приехать на заседание Совета и высказать свое решение.
Я не дал окончательного ответа – меня тревожили возможные осложнения на фронте, тем более что предварительный разговор мой на эту тему с генералом Войцеховским убедил меня, что большая часть офицерства встретила весть о диктатуре сочувственно»…
Челябинск, 19 ноября.
«Роли переменились. Пошел в вагон к Сыровому. Национ. чехосовет и Сыровой резко против переворота, при этом Сыровой добавил, что и Жанен и Стефанек (воен. министр Чехословакии), с которыми он говорил по аппарату (с Владивостоком, где они оба находились), запретили чехам вмешиваться в наши внутренние дела и указали на необходимость прочно держать фронт. Исходя из этих соображений и имея двух Верховных главнокомандующих – меня и Колчака, Сыровой отдал приказ – ни чьих распоряжений, кроме его, не исполнять.
Создавалось нелепое положение. Колчак фактически не мог управлять фронтом: начальники, получившие его приказы, не могли исполнять их, имея в виду приказ непосредственного начальника, ген. Сырового…
Выяснилось к тому времени и настроение моей Ставки. Там сочувствовали перевороту, работа продолжалась, все на местах…
Вечером предстояла крайне тяжелая необходимость поехать на банкет в честь проезжавших французов. Настроение подавленное. Человеческая подлость не ослабляется даже тяжелыми политическими тревогами… Никаких политических заявлений, конечно, я не сделал; этого, кажется, больше всего опасался сидевший рядом со мной французский майор Пишон…
Перед отъездом я переговорил с бывшими на банкете военными. Чувствовалось, что и их ухо приятно ласкала диктатура. Не знаю, может быть, из вежливости все делали вид, что было бы лучше, если бы диктатором был я… Вечером говорил по аппарату с Колчаком. Привожу разговор полностью[78].
…“Я не получил от вас ответа в отношении вопроса о Верховном главнокомандовании и должен вас предупредить, что, судя по краткой беседе с ген. Дитерихсом, и в этом отношении нанесен непоправимый удар идее суверенности народа в виде того уважения, которое в моем лице упрочилось за титулом Верховного главнокомандования и со стороны войск русских, и со стороны союзников. Я не ошибусь, если скажу, что ваших распоряжений как Верх. главнокомандующего слушать не будут. Я не позволил себе в течение двух суток ни одного слова ни устно, ни письменно, не обращался к войскам, и все ждали, что в Омске поймут все безумие совершившегося факта и, ради спасения фронта и нарождавшегося спокойствия в стране, более внимательно отнесутся к делу. Как солдат и гражданин, я должен вам честно и открыто сказать, что я совершенно не разделяю ни того, что случилось, ни того, что совершается, и считаю совершенно необходимым восстановление Директории, немедленное освобождение и немедленное же восстановление в правах Авксентьева и др. и сложения вами ваших полномочий. Я считал долгом чести высказать мое глубокое убеждение и надеюсь, что вы будете иметь мужество выслушать меня спокойно. Я не допускаю мысли, чтобы в сколько-нибудь правовом государстве были допущены такие приемы, какие были допущены по отношению к членам Правительства, и чтобы представители власти, находившиеся на месте, могли спокойно относиться к этому событию и только констатировать его как совершившийся факт. Прошу мое мнение довести до сведения Совета министров”.
Разговор этот, конечно, совершенно определенно обрисовал мою позицию. Тем не менее меня терзали сомнения, хорошо ли я делаю, уступая власть захватчикам.
Беседа с чехами ставила меня, по крайней мере в первое время, в изолированное положение. В связи с указанием, полученным Сыровым от Жанена и Стефанека, я мог встретить с их стороны затруднения с переброской войск к Омску.
В моем положении надо было иметь все 100 шансов на успех, иначе это была бы лишняя, осложняющая положение авантюра»…
Челябинск, 20 ноября.
«Продолжается мучительная работа мозга. “Что делать?” – вопрос этот отнюдь не потерял своей остроты.
Дольше оставаться в Челябинске не было смысла, если не подымать фронта против Омска.
Голос благоразумия все настойчивее убеждал временно уйти, не делать новых осложнений в армии. У каждого политического деятеля и свое время, и своя судьба…
Явились новые предложения борьбы с Омском. Представители местной демократии заявили, что на первое время есть даже и деньги. Вырисовывались некоторые шансы на успех, но они должны были вызвать большие осложнения, а вместе с тем и создать ореол мученичества Колчаку и его сотрудникам, если бы они, не показав себя, принуждены были уйти от власти. Пусть покажут…» [с. 110–114].
«Новые предложения» – это воззвание эсеров, шансы которых на выступление в действительности Болдырев оценивал невысоко:
«Учитывая все те настроения, которые сложились за последнее время против всего, что связано как со Съездом членов У.С., так и вообще с партией эсеров, можно было смело утверждать, что в тех слоях, которые проявляли то или иное активное участие в борьбе, воззвания эти почвы иметь не будут. Массы же подготовлены не были»…
«Как странно! – добавляет он ниже. – Там, где, казалось, должно было быть наиболее яркое выражение воли к борьбе, наоборот, настроение далеко не боевое».
Я нарочно вновь изложил психологию Болдырева его собственными словами, хотя надо иметь в виду, что эта поденная запись в действительности была написана уже в Токио. Колебания Болдырева очевидны. Запись 20 ноября заканчивается словами: «Только что разорвал проект приказа и обращения к населению. Еду в Омск»[79]… Он хотел выступить и… остановился. Не так велики были его шансы на успех. Трезво обдумывая, он видел это воочию. Поэтому не одно только желание не возбуждать «междоусобной войны», как говорил он позже Будбергу [ «Арх. Рус. Рев.». XIII, c. 271] и как утверждает Аргунов [с. 39], остановило Болдырева. Полк. Пишон, расценивая шансы Колчака и Болдырева, полагает, что сочувствовала перевороту северная группа Гайды, состоявшая из сибиряков, против переворота были войска в центре и на Юге – добровольцы Самары и Уфы, «10 000 рабочих-социалистов» Ижевских и Боткинских заводов и чехи [ «M. Sl.», 1925, II, р. 258]. Расчет здесь шел без хозяев. Ижевские и Боткинские дивизии оказались лучшими колчаковскими войсками, «добровольцы» Народной армии отнюдь не были горячими сторонниками бывшего Самарского правительства[80]. Но Пишон полагает, что после отказа Сырового, которого Болдырев пытался убедить выступить, Болдыреву ничего не оставалось делать, как ехать в Омск [с. 262]. Единственная сила, на которую мог бы опереться Болдырев, были чехи. Но чехи «оказались не вполне хозяевами себя, ибо переворот взяли под свое покровительство англичане». Так определяет положение Кроль [с. 160]. В отношении англичан я употребил бы другой термин: они не брали переворота под свое покровительство, а санкционировали то, что явилось после переворота. Нюанс значительный. «Я демократ, – пишет Уорд, – верящий в управление народа через народ, начал видеть в диктатуре единственную надежду на спасение остатков русской цивилизации и культуры. Слова и названия никогда не пугали меня. Если сила обстоятельств ставит передо мной проблемы для решения, я никогда не позволяю, чтобы предвзятые понятия или идеи, выработанные абстрактно, без проверки на опыте живой действительности, могли изменить мое суждение в выборе того или иного выхода; и я осмелюсь думать, что если бы те же обстоятельства предстали вообще перед англичанами, то девять из десяти поступили бы так же, как я» [с. 89][81].
* * *
В первые дни после переворота сам Уорд склонен изображать положение более серьезно, чем оно было в действительности, и значительно преувеличивать свою роль. Он пишет: «Позиция чешских войск в Омске сделала невозможным для них приближение к месту, где заседали министры, без того, чтобы не наткнуться на британцев, а мои пулеметы командовали над каждой улицей, которая вела к помещению русской главной квартиры» [с. 82].
Легра передает слух, что Болдырев получил предупреждение от Нокса, что в случае его выступления и победы над Колчаком он не будет впредь получать никакой помощи от англичан [ «M. Sl.», 1928, II, p. 167][82].
Так или иначе чешская военная власть решила не выступать в пользу Директории и сохранить нейтралитет в русских делах: 20 ноября Сыровым в качестве представителя иностранной союзной страны и лица, ответственного перед союзниками и перед русскими за войска на фронте, сражающиеся против внешнего врага, был издан приказ по армии, запрещавший под угрозой предания военному суду всякого рода политическую пропаганду на фронте, издание и распространение воззваний, не санкционированных главнокомандующим.
Приказом «временно» в военной зоне вводилась цензура для газет и других печатных произведений. «Не будут разрешаться, – объявлял Сыровой, – издания, возбуждающие различные политические партии друг против друга, могущие вызвать ослабление дисциплины и посеять разлад среди войск на фронте»…
На другой день появилась, однако, декларация чехословацкого Нац. Совета за подписью Патейдля и Свободы, ставившая вопрос по-иному:
«Чехословацкий Национальный Совет (отделение в России), чтобы пресечь распространение разных слухов о его точке зрения на текущие события, заявляет, что чехословацкая армия, борющаяся за идеалы свободы и народоправства, не может и не будет ни содействовать, ни сочувствовать насильственным переворотам, идущим вразрез с этими принципами. Переворот в Омске от 18 ноября нарушил начало законности, которое должно быть положено в основу всякого государства, в том числе и Российского. Мы, как представители чехословацкого войска, на долю которого в настоящее время выпала главная тяжесть борьбы с большевиками, сожалеем о том, что в тылу действующей армии силами, которые нужны на фронте, устраиваются насильственные перевороты. Так продолжаться больше не может. Чехословацкий Национальный Совет (отделение в России) надеется, что кризис власти, созданный арестом членов Всерос. Врем. правительства, будет разрешен законным путем, и потому считает кризис незаконченным» [ «Xp.». Прил. 145].
Декларация, по мнению Пишона… «ставила чехо-словаков в состояние скрытой враждебности по отношению ко всем русским сторонникам нового режима»[83] [с. 263].
На этой почве среди самих чехов произошли значительные осложнения. Чешский генералитет после выступления Нац. Совета постановил 25 ноября просить прибывающего Стефанека произвести прежде всего реформу Нац. Совета [Пишон. С. 264]. Но пока оставим в стороне внутренние чешские дела. Ограничимся только цитатами из разъяснительной декларации Н. С, появившейся в «Чехословацком Дневнике» [№ 241] 28 ноября.
«…Мы были вынуждены сделать эту декларацию, ибо пропаганда нового Правительства занималась не только утверждением, что оно опирается на союзников, но говорила о поддержке чехословацкой армии или, по меньшей мере, некоторых наших представителей»[84]… Касаясь заявления, что чехосовет не считает правительственный кризис законченным, разъяснение говорит:
«Мы имели полное право сказать это, потому что большинство (?) элементов, присутствовавших при организации всероссийской власти, высказалось против переворота и до сих пор не уточнило своего взгляда. О нашей декларации говорили, что это интервенция во внутренние русские дела. В настоящем положении России могут быть различные мнения о возможности или своевременности подобной интервенции: но наша декларация – не интервенция. Нашим выступлением мы способствовали созданию настоящего положения России, и без нас ни Сибирь, ни Урал не были бы освобождены от большевиков; следовательно, мы несем известную ответственность перед всемирной историей… особенно на нас почти всецело лежит ответственность за антибольшевицкий Уральский фронт.
Итак, мы были вынуждены сказать свое мнение нашей армии, русским войскам на фронте, а также и населению в зоне военных действий, и сказать самым ясным образом, приглашая их в то же время сохранять спокойствие и исполнять свой долг».
* * *
Вернемся вновь к Болдыреву, который 21‑го выехал в Омск. Он записывает:
«Представлялась возможность ареста, но это стоило бы большой крови – 52 офицера с пулеметами были при мне в поезде и поклялись, что даром не умрут[85]. В 3½ ч. вечера прибыли в Омск. Встретил штаб-офицер Ставки, доложил, что адмирал очень просит меня к нему заехать…
Я спокойно заявил (Колчаку), что при создавшихся условиях ни работать, ни оставаться на территории Сибири не желаю. Это было большой ошибкой с моей стороны. Я дал выход Колчаку. Он горячо схватился за эту мысль как временную меру и называл даже Японию или Шанхай…
В дальнейшем разговор коснулся трудности общего положения; я заметил Колчаку, что так и должно быть. “Вы подписали чужой вексель, да еще фальшивый, расплата по нему может погубить не только вас, но и дело, начатое в Сибири». Адмирал вспыхнул, но сдержался. Расстались любезно. Теперь все пути отрезаны – итак, отдых… Утром послал письмо Колчаку, которым подтвердил мое решение уехать из Сибири.
При письме – коротенькое прощальное обращение к армии. Гуковский[86] передал это письмо лично Колчаку, который сейчас же отдал необходимые распоряжения»[87] [с. 116].
Письмо к Колчаку Болдырев заканчивает словами: «Если бы вы пожелали выслушать мою более подробную характеристику положения на фронте и оценку политических кругов в прифронтовой полосе в связи с происшедшими событиями, я охотно это исполню». Свидание состоялось 24 ноября. 27‑го у Болдырева запись: «Завтра уезжаем в добровольное изгнание». 28‑го: «Предполагал отложить отъезд на 1–2 дня… Но это, видимо, не входило в расчет противников… приходил железнодорожный офицер, который от имени генерал-квартирмейстера Ставки сообщил, что, “ввиду личной безопасности генерала”, нежелательно откладывать отъезд… Приказал позвонить Колчаку, что прошу его принять меня… Около часа был у Колчака и прямо спросил его: “Это от вас исходит странное предупреждение о необходимости, ввиду моей личной безопасности, сегодня же выехать или это работа вашего штаба вашим именем?”
Колчак – не знаю, искренно или нет – забеспокоился, что ему ничего неизвестно, что он ничего не имеет против отсрочки отъезда, что это, вероятно, недоразумение.
Однако, едва я приехал домой, Колчак попросил меня к телефону и сообщил, что ему доложили о каких-то событиях, которых он допустить не может, а потому было бы лучше не откладывать отъезда.
Мне стало уже противно. Решил уехать» [с. 118].
При печатании «Дневника» Болдырев пропустил фразу, которую в примечании восстанавливает большевицкий редактор: «Прощаясь, я сказал, что в тяжелую минуту я, не принимая участия в Правительстве, от командной роли не откажусь» [Прим. 119]. Возможностью такого решения, как сообщали потом Болдыреву, была очень обеспокоена «демократия».
Приведенный рассказ с достаточной отчетливостью свидетельствует, насколько не прав Зензинов в своем утверждении, что Болдырев был также выслан [с. 53][88]. Повод для такой трактовки дал, однако, сам Болдырев, назвав свой отъезд «до известной степени» вынужденным. Болдыреву не хотелось уезжать. Недаром он записывает уже после окончательного решения «уехать»: «Кое-кто из друзей, в том числе чехи, все еще надеялись вернуть меня к посту главковерха». Позиция Болдырева все время несколько двойственна и противоречива. Она такой осталась и впоследствии[89].
Во Владивостоке Болдырев 20 декабря получил через коменданта крепости Бутенко предупреждение о желательности скорейшего отъезда. Аналогичная просьба направлена была Болдыреву телеграммой на имя его адъютанта из омской Ставки. В телеграмме, по словам автора воспоминаний, было сказано, «что, зная мою любовь к Родине, просят доложить мне их просьбу ради общей пользы не задерживать мой отъезд за границу» [с. 129]. Позже Болдыреву было сообщено, что он выехал из Владивостока своевременно: подготовлялся его арест и насильственная высылка за границу. Болдырев негодует и не понимает, почему там беспокоятся[90]… А между тем основание было.
Колчаку донесли, что Болдырев во Владивостоке имеет встречи с эсерами и земцами на предмет свержения Колчака при помощи японцев. Комментатор «Дневника» добавляет: «Утверждают, что агенты в своих утверждениях не ошиблись» [Прим. 131]. Страница эта неясна, но через год, действительно, Болдырев вел такую переписку (не по своей инициативе) с владивостокскими «земцами».
2. Эсеровская акция
Колебания Болдырева в Уфе отчасти были связаны с инициативой, которая шла от екатеринбургских и уфимских эсеров. Шансы этой инициативы Болдырев, как мы знаем, оценивал не очень высоко, сходясь в данном отношении с Майским: «Никто ничего не знал, никто не имел никаких планов, и, что самое скверное, ни в ком не чувствовалась воля к действию и к борьбе» [с. 335]. Но это не мешало руководителям партией бряцать оружием и грозить от имени «полномочных органов демократии»[91].
…«Скорее радость, а не уныние просвечивали в настроении большинства собравшихся» 18 ноября в номере Чернова в екатеринбургской гостинице «Пале-Рояль». «Было ясно, что недостойной комедии, какую представлял из себя противоестественный блок революции с реакцией, пришел конец… цели становились и ясными и определенными… для всех демократов без различия направлений решительная борьба с реакцией»… Так пишет Святицкий [с. 96]. К его изложению мы вновь должны прибегнуть, так как пока это главный источник ознакомления с тем, что за кулисами делалось в описываемое время в недрах партии с.-р. В номере Чернова произошло столкновение между «лидером эсеров» и «одним седовласым, всем известным депутатом правого устремления». Последний был настроен крайне пессимистично и полагал, что сопротивление Съезда «бесполезно и вызовет только напрасное пролитие крови». Чернов полагал, что партия обязана выступить независимо от условий… Было решено ночью устроить заседание Бюро Съезда и ЦК партии для выяснения вопроса о формах активной борьбы с Колчаком. «Но, – добавляет Святицкий, – предварительно нужно было окончательно и вплотную сговориться с чехами: согласны ли они поддержать Съезд или, во всяком случае, не противодействовать начинающейся борьбе Съезда с Колчаком? Для переговоров с Гайдой и другими ответственными представителями чешско-словацкого Нац. Совета были командированы депутаты И.М. Брушвит и Н.Ф. Фомин [с. 97].
Чешские руководители уезжали в Челябинск и «успели только сказать» делегации: «Наши гарантии Съезду остаются в силе – что бы Съезд ни предпринял» [с. 98].
Происходит заседание. Только один О.С. Минор выразил сомнение в реальных силах Съезда. Собравшиеся «в виде уступки в сторону правых» постановили, что избранный Испол. Комитет «должен стараться координировать свое действие с оставшимися лояльными членами Директории». Имелся в виду Болдырев, поехавший в Челябинск «просить у чехов помощи против Колчака». В состав Исп. Комитета вошли: Чернов, Вольский, Алкин (мус. деп.), Иванов, Федоров, Фомин и Брушвит, «как лицо близкое чехам».
19‑го созывается собрание Съезда. Утром было получено из «чешской контрразведки» сообщение о том, что в военных кругах идет сильнейшая агитация за немедленное выступление против Съезда и «черновцев». Так как «чехи обещали свою помощь», то заседание Съезда не было отложено. «Прения были гильотинированы» – и было единогласно принято, при 2–3 воздержавшихся, воззвание к населению. Тут же было постановлено: «Тотчас же захватить типографию одной из буржуазно-реакционных газет», отпечатать и к вечеру распространить воззвание.
«Съезд членов, – гласит резолюция, – берет на себя борьбу с преступными захватчиками власти, Съезд постановляет: образовать из своей среды Комитет, ответственный перед Съездом, уполномочить его принимать все необходимые меры для ликвидации заговора, наказания виновных и восстановления законного порядка и власти на всей территории, освобожденной от большевиков…
Поручить Комитету для выполнения возложенных на него задач войти в сношение с непричастными к заговору членами Всерос. Врем., правительства, областными и местными властями и органами самоуправления, чешским Национальным Советом и другими руководящими органами союзных держав.
Всем гражданам вменяется в обязанность подчиняться распоряжениям Комитета и его уполномоченных» [ «Xp.». Прил. 148].
Ввиду сведений о готовящемся выступлении против Съезда последний закрывается, и все дела передаются на рассмотрение Комитета, резиденцией которого являлась гостиница «Пале-Рояль» [Святицкий. С. 100]. Чешская разведка вновь предупреждает, что вечером или ночью можно ждать нападения, но что особенно беспокоиться не надо, так как «чехи приняли все меры к предотвращению нападения». «На нашу просьбу выставить охрану у гостиницы чехи отвечали, что это неудобно», но в доме против гостиницы помещен уже вооруженный отряд в 50 человек [с. 101]. «“Черновцы”, – продолжает Святицкий, – видя, что гостиница готовится стать ареной вооруженного столкновения… вызвали к себе заведующего чешской контрразведкой, который предложил всем соединиться в одной гостинице, которая и будет надлежащим образом защищена чехами от нападения. Комендант уже сделал распоряжение об очищении “Американской гостиницы”, куда поздно вечером все члены Съезда могут перейти» [с. 102]. Однако уже в 7 час. гостиницу «Пале-Рояль» окружили несколько рот 25‑го Уральского драгунского сибирского полка. Кем-то в подъезде были брошены две бомбы. Выстрелом из револьвера был тяжело ранен Максудов. Офицеры и солдаты начали производить обыски и арестовали 18–19 человек, отведенных в штаб полка[92]. Однако по распоряжению ген. Гайды арестованные были немедленно освобождены и водворены назад в «Пале-Рояль».
Как передавали чехи, разбойнический налет был произведен не всем полком, а частью его, возбужденной офицерством, убедившим солдат, что они идут против открытой только что банды большевиков. В данный момент отношения между чешским командованием и сибирским так обострены, что с минуты на минуту можно ждать открытого вооруженного столкновения на улицах. Чехи решили пока во что бы то ни стало избежать этого столкновения. Выжидая решения своих вождей в Челябинске, они, чтобы выиграть время, заявили сибирякам, что они сами будут «стеречь» Съезд, пока не будут получены соответствующие инструкции из Омска.
«Такой образ действий не удовлетворил, конечно, сибиряков, ибо они не доверяли чехам и ненавидели их. Не удовлетворил он и нас»[93]…
«Что-то готовит нам следующий день? – не могли мы не спрашивать себя, ложась спать в ночь на 20 ноября. Положение было в высшей степени неопределенное и чреватое печальным для нас исходом» [с. 106–107].
Святицкий не в состоянии понять позорность этой трагикомедии, разыгранной «демократами» под охраной чешской контрразведки.
«Рано утром следующего дня, когда я еще был в постели, мне принесли для ознакомления бумагу из штаба главнокомандующего фронтом. Я читал эту бумагу и не верил своим глазам. В ней стояло приблизительно следующее: «Ввиду мятежнических действий Съезда, выразившихся в распространении от его имени воззвания к населению 19 ноября, совершенно недопустимых в прифронтовой полосе, так как они вносят тревогу в население и беспокойство и разложение среди войска, генерал Гайда «предлагает» Съезду в 24 часа покинуть Екатеринбургский район. Генерал Гайда предлагает всем членам Съезда, за исключением В.М. Чернова[94], выехать с поездом, отходящим из Екатеринбурга в Челябинск сего числа в 6 часов вечера. Всем отъезжающим генерал Гайда гарантирует полную безопасность и неприкосновенность» [с. 107].
«Это было “черное предательство чешского военного командования”», – восклицает Святицкий. Ясно, что Гайда действовал, согласно приказу 20 ноября, изданному Сыровым. Но ранее Гайда вел какие-то переговоры с Фоминым, с каким-то письмом к Гайде обращался 19‑го сам Чернов, взывая к его «демократичности». По моему мнению, Гайда все время вел двойную игру и мог ввести в заблуждение эсеров со Съезда У.С.
Я не могу следить за всеми характерными перипетиями начавшегося в Екатеринбурге вооруженного выступления против омской власти.
Съезд согласился[95] отправиться в Челябинск, но вместе с Черновым. Картинно описывает выезд из гостиницы «Пале-Рояль» Святицкий:
…«Каждый депутат едет на особом извозчике в сопровождении особого конвойного. Извозчики едут все вместе гуськом. В гостинице “Пале-Рояль” к моменту отъезда набралось человек 60–70 отъезжающих.
Вся гостиница высыпала смотреть, как мы тесной толпой выходили и рассаживались. Оригинальную картину представлял наш “поезд”, вызывая удивление и испуг у всех встречных и проходящих. В светлую лунную ночь бесконечной вереницей быстро едут извозчики с двумя седоками на каждом, один из которых вооружен винтовкой. Посмотришь назад: на целую версту растянулась цепь повозок. Удивление прохожих! Да не удивлялись ли мы сами тому, что происходило? Не вспоминались ли нам некие, не столь давние времена, когда “по пыльной дороге телеги неслись”, на них по бокам два жандарма сидели? И кто такие теперь несутся в “телегах”? Первые в России избранники! От кого они убегают? От русских солдат! Кто их защищает? Иностранцы, какие-то чехи. А сами-то чехи, друзья или враги, “конвой” или “охрана”? Мудрый Эдип, разреши!» [с. 110–111].
Патетическое отступление не мешает Святицкому тут же сделать несоответствующие политические выводы: «помоги нам чехи – наше дело, дело демократии было бы выиграно». Съезд, «несомненно, имел влияние в демократических кругах и даже в массе населения». «Характерная вещь: коалиционное Уральское областное правительство, до сих пор сторонившееся Съезда (или, вернее, Съезд сторонился его!), теперь изъявило готовность поддержать»[96]. С Нижнетагильского завода в ответ на «клич о помощи» 21‑го подошло 800 человек вооруженных рабочих. «Если бы мы были извещены об этой двигающейся к нам на выручку массе рабочих, мы, конечно, не уехали бы из Екатеринбурга» [с. 112].
Но «было поздно». «Учредиловцы» уехали в Челябинск. Они были убеждены, что «Комитет съезда целиком» будет приглашен присутствовать на происходившем совещании чехосовета.
«В этом нас уверяли сами же чехи в Екатеринбурге. Вопреки этим ожиданиям, нас не только не пригласили на совещание, но даже не приняли представителей Комитета в течение всего утра, дня и вечера 21 ноября. Мы поняли, что дружеские союзные отношения между нами и чехами порваны» [с. 113].
«Томительно однообразно прошел день». «Легли спать в своих телячьих вагонах». Вдобавок выясняется, что «все находящиеся в поезде» будут «фактически арестованы» и куда-то отправлены. Отправляются за разъяснением к адъютанту Сырового. Тот показывает заготовленный приказ, пока еще Сыровым не подписанный, который гласит:
«Поезд с членами Съезда Учред. Собрания отправляется сего числа в гор. Шадринск Пермск. губ. Депутаты охраняются в поездке чешской охраной, и выход из поезда им запрещается. В городе Шадринске депутатов охраняет специальный чешский полк. Депутаты проживают в городе Шадринске под надзором чехов, без права отлучек из города и без права политической агитации среди населения» [с 114].
«Неслыханное» унижение Съезда! Затем следует объяснение Комитета Съезда во главе с Черновым с членами чехосовета, при котором выясняется, что история с приказом основана на недоразумении. Предполагалось, что в Шадринске Съезд будет продолжать свои работы на прежних основаниях. Комитет требует немедленной отправки в Уфу. Вечером поезд с Съездом отбыл из Челябинска в Уфу.
Кончился первый акт трагикомедии. Второе действие происходило уже в Уфе.
* * *
В Уфе сначала настроение было «твердое». Здесь Советом упр. вед. бывшего Комуча, как мы знаем, формировались русско-чешские полки, несмотря на запрещение Директории. «Делалось это, – уверяет Святицкий, – в контакте с чешским командующим Уфимским фронтом ген. Войцеховским». При получении сведений об омском перевороте был послан немедленно якобы «с ведома и одобрения Войцеховского» ультиматум: «Узурпаторская власть, посягнувшая на Всер. прав., и Учр. Собр., никогда не будет признана. Против реакционных банд красильниковцев, анненковцев Совет готов выслать свои добровольческие части. Не желая создавать нового фронта междоусобной войны, Совет управляющих ведомствами предлагает вам немедленно освободить арестованных членов Правительства, объявить врагами родины и заключить под стражу виновников переворота, объявить населению и армии о восстановлении прав Всерос. Врем. правительства. Если наше предложение не будет принято, Совет управляющих ведомствами объявит вас врагами народа, доведет об этом до сведения союзных правительств, предложит всем областным правительствам активно выступить против реакционной диктатуры в защиту Учред. Собр., выделив необходимые силы для подавления преступного мятежа» [ «Xp.». Прил. № 146].