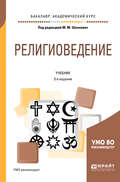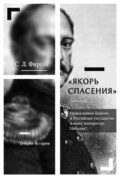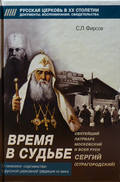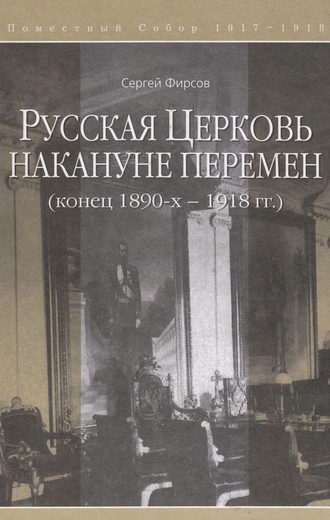
С. Л. Фирсов
Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.)
Однако «Победоносцев не хотел общественной и культурной влиятельности иерархии и клира и властно следил за выбором епископов не только по политическим мотивам, не только ради охраны правительственного суверенитета. Это расходилось и с его личным религиозным опытом и идеалом»[135]. Его опыт и идеал можно охарактеризовать одним словом: охранение. «Он не только не творец, – говорил о Победоносцеве К. Н. Леонтьев, – но даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз, я говорю, сторож; безвоздушная гробница; старая „невинная“ девушка и больше ничего!»[136]
Так ли уж это плохо? Если посмотреть на проблему со стороны пользы того самодержавного государства, которое реформировать опасно, то односложным ответом уже не отделаться. Убежденный в том, что «все сгнило», ничего хорошего впереди ждать нельзя, Победоносцев пытался как мог отсрочить неизбежный конец «старого мира», который для него был хорош уже тем, что «стар». Отсюда и действия. «Победоносцев не хотел религиозного пробуждения народа, он не хотел творческого обновления Церкви. Он боялся, что религиозное просвещение приведет к протестантизму»[137]. Страх перед творчеством лежал в основе всех его политических решений.
Не зная «как надо», Победоносцев концентрировал свои силы на поиске ответа на иной вопрос: «как не надо», понимая, что рано или поздно остановить «поток» не удастся. Уже в правление императора Николая II, в 1900 г., Победоносцев признавался, что страна идет «на всех парах к конституции и ничего, никакого противовеса какой-либо мысли, какого-либо культурного принципа нет»[138]. Подобных высказываний можно привести много. В конце концов Победоносцев оказался прав, дожив до «конституции» 17 октября 1905 г. Когда вопрос о фундаментальных государственных изменениях считался всеми серьезными политиками вопросом времени, Церковь становилась политическим заложником государства, оставаясь накрепко связана «симфоническими» узами. Наивная вера в простой народ, «верующий душой», заставляла Победоносцева отказываться от каких-либо серьезных изменений. «Для нашего мужика форма все, а вы говорите об ученых, о догматах, об учености, – заявил он однажды генералу А. А. Кирееву. – Вам хорошо, а куда мы-то денемся с нашей-то темнотой, с мужиком, – и добавил: – Я боюсь раскола, вот чего я боюсь!»[139]
Создав иллюзию «ледяного покоя», обер-прокурор полагал, что это – панацея от надвигающихся потрясений. При таком отношении трудно было ожидать каких-либо инициатив от епархиальных преосвященных, приученных к безмолвию и выполнению распоряжений, исходивших из ведомства. Характерна история, приведенная учеником Победоносцева – известным юристом А. Ф. Кони. Сенатор А. А. Нарышкин пришел в один из приемных дней к обер-прокурору Святейшего Синода по каким-то своим делам и, не желая пользоваться привилегиями положения, стал в глубине приемной. «К. П. вышел к собравшимся в большом количестве просителям из светских и духовных лиц и, подойдя прежде всех к провинциальному архиерею, принял его благословение и спросил его, когда он думает ехать в свою епархию. „Да вот, ваше высокопревосходительство, хотел просить продления отпуска на некоторое время, чтобы продолжить лечение моего недуга у здешних врачей“. – „А вы бы, владыко, лучше ехали домой в свою епархию! Ну чего вам здесь оставаться! Ведь в карты-то играть и там можно“, – отрезал ему Победоносцев громко и при всех»[140].
Такое отношение к полностью зависимым архиереям поражало современников, видевших, с одной стороны, глубокую личную веру обер-прокурора, а с другой – его цинизм и скептицизм. Тот же Кони, вынужден был признаться, что становится в тупик перед «загадкой двоедушия Победоносцева», понимаемой им в смысле душевного раздвоения. Спустя несколько лет после смерти обер-прокурора, взявшись однажды перечитывать «Московский сборник», Кони увидел соответствие стиля книги и образа ее составителя. «Какая пестрая смесь возвышенных картин и высоких идей – с умышленною близорукостью и мертвящим набором бездушных слов!»[141] Человек чести и долга, Победоносцев, по мнению Кони, вместе с тем поддерживал нелепости, не признавал чужой совести и все мертвил своим дыханием.
Воспитанный по-европейски, на традициях римского права, обер-прокурор Святейшего Синода в течение всей своей жизни оставался почитателем Петра I, построившего империю на расколотом основании, уничтожившего однородность русской культуры и купившего плоды европейской цивилизации «ценой отступничества от священных традиций русского православия»[142]. Духовенство рассматривалось им лишь как помощник в выполнении этой задачи. Отсюда и его отношение к клирикам: почитая их сан, Победоносцев считал архиереев и священников «служащими» государства. А «служащие», чиновники должны быть прежде всего послушны властям, остальное – вторично. Однако именно на эту «вторичность» современники Победоносцева с годами стали обращать все больше внимания, полагая, что епископат не соответствует тем высоким задачам, которые призван решать. Чтобы понять, насколько верным было это мнение, необходимо коснуться вопроса о тогдашнем положении архиереев в «симфоническом» государстве.
Как известно, епископом мог быть только монах. По действовавшим в Российской империи законам монахи ограничивались в гражданских и государственных правах: не могли занимать светских должностей, без разрешения духовного начальства переменять место жительства, владеть движимым имуществом, делать духовные завещания и пользоваться правом наследования. Правда, пользоваться книгами и деньгами позволялось, как и торговать предметами собственного изготовления. Имели монахи и ряд привилегий: освобождение от податей и телесного наказания. Если монах хотел сложить с себя сан (по желанию и с разрешения начальства), то ему возвращались все права по происхождению, но с лишением чинов и званий, полученных до пострижения. В течение семи последующих лет бывший монах не имел права жениться, жить в столицах и приписываться к обществам в той губернии, где ранее монашествовал. Он также навсегда лишался права поступать на государственую службу. Однако случаи снятия сана были достаточно редки и абсолютное большинство монашеской братии оставалось верно однажды принятым обетам.
Архиереи должны были придерживаться тех же правил монашеского поведения, что и рядовые иноки. Единственным, что позволялось им «сверх меры» (как представителям духовной власти), было право завещать свою собственность. Уже к середине XIX столетия нередко стали звучать упреки монахам, якобы ведущим праздный образ жизни. Дошло до того, что «в 1869 г. Святейший Синод разослал епархиальным архиереям для обсуждения записку, в которой признавалось необходимым реформировать монастыри, с целью устранить на будущее время в обществе и литературе нарекания, направленные против монастырей»[143]. Главным основанием для таких нареканий служили указания на мирской образ жизни многих монастырей, имевших земли, лавки, промыслы. В записке планировалось ввести во всех монастырях общежитие, когда все необходимое монахи получали бы от монастыря и ничем не распоряжались бы на правах собственности. Итак, проблема «стяжания» даже официально не скрывалась, хотя метода решения ее у властей не было: среди православных обителей общежитийные монастыри составляли меньшинство.
Корпоративная замкнутость духовного сословия стояла на пути решения церковных проблем. К примеру, синодальный чиновник, близко знавший состояние монастырей в конце XIX века, полагал, что в монахи шли «только карьеристы 96-й пробы, драпируясь, конечно, в мантию спасения и благочестия»[144]. Это явное преувеличение – ведь спустя четверть века, в революционную эпоху строительства безбожного государства, многие «карьеристы» отдали свою жизнь за веру и Церковь. Однако мнение о монахах как о карьеристах было широко распространено в церковной и околоцерковной среде. Через эту призму часто смотрели и на епископат. Причем мнения людей разных политических убеждений в этом вопросе удивительным образом совпадали. Личная религиозность многих архиереев порой была не видна за внешней помпой, а вот их стремление походить на губернаторов и генерал-губернаторов бросалось в глаза. «И чем больше тянулись иерархи к власти, чем больше погружались в сферу общегосударственных дел, своеобразно ими понимаемых, чем более резкую грань проводили между церковными и государственными делами, тем дальше уходили от своей паствы, тем меньше были ей нужны, – полагал князь Жевахов. – Вот где источник нестроений в области церковной жизни России»[145].
В империи было много архиереев, считал князь, но среди них почти не было настоящих монахов, хотя первейшая задача епископа – поддержание иноческого духа как главной основы и опоры православия. Жевахов верно подметил основную болезнь церковного организма – слишком большую зависимость епископата от государственной власти. Вследствие этого недуга внимание акцентировалось преимущественно на политических, а не на пастырских задачах. Епископы, действительно, не всегда понимали различие между светскими и церковными делами, но обвинять их в этом нельзя: в них видели не столько духовных отцов, сколько государственных мужей, чиновников. Впрочем, эта сторона вопроса князем обходится. Его гневные филиппики направлены на критику недостоинств клира, а не на причины, способствовавшие проявлению этих многочисленных «недостоинств». Их список, впрочем, начали составлять задолго до Жевахова.
Тогда же некоторые пылкие священнослужители стали искать выхода в оздоровлении монашеской жизни. Одним из лидеров нового течения стал молодой архимандрит Антоний (Храповицкий). Он проповедовал, что «молодое светское монашество должно совершенно изменить течение нашей общественной и государственной жизни… Конечно, – цинично комментировал эти заявления о. Антония упоминавшийся уже А. Н. Львов, – это говорит ослепленное самолюбие и властолюбие, с одной стороны, и непроходимая глупость и нахальство нынешних монахов – с другой»[146]. Запись Львова – одно из первых упоминаний о феномене «ученого монашества», хотя автор и не употребляет еще этого словосочетания. Тем показательнее, что уже в следующей записи Львов резко критикует умственный уровень русских архиереев, находя его слишком невысоким: «В самом деле, есть много и очень много архиереев, которые решительно ничего не читают, которые везде и во всех случаях прикрываются только мантией своего архиерейского величия да внешнего благочестия»[147].
Косность духовенства (в том числе и архипастырей) ни для кого, включая Победоносцева, не была тайной. «Не помню, чтобы от нас загорались души… Но не было (за исключением) и дурных типов. Только дух в духовенстве начал угасать», – вспоминал те времена митрополит Вениамин (Федченков)[148]. Людьми, чуждыми культуре, живущими интересами желудка и зачастую эксплуатировавшими веру простого народа считал князь Жевахов братию любого монастыря, а особенно лавр. На вопрос, почему монастыри стали хиреть и утрачивать свой первоначальный облик и значение, князь отвечал, что их погубили «главным образом сами же епископы»[149].
Столь жесткая критика епископата, думается, нуждается, в определенных комментариях. Во-первых, не стоит забывать, что многие архиереи были выходцами из белого духовенства и надели черный монашеский клобук лишь после смерти жены. Следовательно, изначально они не предполагали делать «карьеру» и оказались на вершине власти в результате личной трагедии. Во-вторых, низкий умственный уровень архиереев, о котором писали некоторые современники, и консерватизм, формализм, начетничество – вещи разные. Чтобы лучше понять, что представляли собой русские епископы, стоит проанализировать статистические данные об их социальном происхождении, образовательном уровне, возрастном цензе и т. п. С помощью материалов Словаря митрополита Мануила (Лемешевского)[150] и иных справочных изданий[151] можно решить поставленную задачу.
Итак, к концу победоносцевского правления (то есть к 1905 г.) в Русской Церкви было 109 епископов, большинство которых происходили из «духовного корня» (72 человека). 11 человек происходили из иных сословий (дворян, мещан и т. п.). Данные о социальном происхождении 26 архиереев отсутствуют, хотя возможно предположить, что многие из них происходили из семей священно– и церковнослужителей. Образовательный ценз большинства преосвященных нельзя назвать низким: из 109 человек 99 получили в свое время высшее (редко – незаконченное высшее) образование, преимущественно закончив духовные академии. Многие имели ученые степени магистров и докторов богословия.
Теперь о карьере. Из 109 епископов 40 приняли монашеский постриг по вдовстве. Следовательно, около 37 % русского епископата имели ранее семью. Средний возраст архиереев чуть превышал 50-летнюю отметку. Принципиальных изменений не произошло и в дальнейшем, хотя численность епископов увеличилась. Так, в 1916 г. около 33,5 % епископов ранее имели семью: на 143 архиерея приходилось 48 вдовца. Как и прежде, абсолютное большинство составляли дети клириков. Более 90 % имели высшее образование (по преимуществу духовное). Средний возраст архиереев, как и раньше, чуть превышал 50 лет.
Это были знавшие жизнь, прежде всего и преимущественно жизнь церковную, священнослужители, облеченные большим внешним авторитетом. Обманчивый авторитет и являлся тем соблазном, который выдерживали не все. «Пышность и торжественность всей архиерейской обстановки неразумными ревнителями величия владычного сана, – с одной стороны, самими честолюбивыми и славолюбивыми владыками, – с другой, у нас [в России. – С. Ф.] – часто доводились до абсурда, до полного извращения самой идеи епископского служения»[152]. Было и еще одно обстоятельство, на которое я указывал в самом начале параграфа: архиереи редко задерживались на одном месте более 10 лет. Согласно данным на 1905 г., например, из 64 епархиальных архиереев лишь 16 человек служили на одном месте более пяти лет, 22 епископа – от двух до пяти, 13 – около 1 года и 13 – менее 1 года[153]. Не соответствующая церковным канонам система «перетасовок» архиереев, а также сыпавшиеся на владык ордена и отличия породили, по мнению протопресвитера Георгия Шавельского, карьеризм и искательство, неведомые в других Православных Церквах[154].
Таким образом, сама система формировала у архиереев те качества, которые у многих близко знавших церковные нужды людей вызывали стойкое неприятие. Дело заключалось не в низком умственном уровне епископата, а в самом строе внутрицерковной жизни, при котором владыка был полностью зависим от обер-прокуратуры и в то же время имел возможности «вязать и решить» в своей епархии, порой неразумно проявляя собственную власть по отношению к подчиненным ему клирикам. Двойственность положения русских архиереев неминуемо сказывалась на их отношении к вопросу о церковных реформах. Осознавая свою полную подчиненность светским властям, архиереи были пассивны и в подавляющем большинстве не заявляли публично о необходимой корректировке церковно-государственных отношений, надеясь на государственную инициативу. Однако молчание ошибочно было рассматривать как согласие. Практически единодушная поддержка иерархами идеи церковной реформы в 1905 г. доказала это. Но еще задолго до Первой российской революции в вопросе о будущем Русской Церкви зазвучали новые нотки: был поставлен вопрос о «новом монашестве», монашестве «ученом».
Вопрос этот связан с именем известного богослова и церковного деятеля конца XIX – первой четверти XX столетий митрополита Антония (в миру Алексея Павловича Храповицкого; 1863–1936). Представитель старинного дворянского рода, владыка, среди предков которого были соратники Екатерины Великой, с детских лет мечтал посвятить свою жизнь служению Церкви. Согласно легенде, молодой Алексей Храповицкий стал для Ф. М. Достоевского прообразом Алеши Карамазова. Закончив в 1885 г. столичную духовную академию, Храповицкий принял монашеский постриг и тогда же был назначен помощником инспектора академии. Три года спустя он уже доцент и магистр богословия, а с 1890 г. ректор Московской духовной академии и архимандрит. В 1897 г. отца Антония перевели ректором в Казань, в том же году, в возрасте 34-х лет – хиротонисали во епископа Чебоксарского. Уже тогда в церковной среде на него смотрели как на одного из наиболее ярких православных деятелей, которых ожидает большое будущее. Будущий митрополит никогда не скрывал своего недовольства положением Русской Церкви и считал, что синодальные порядки требуют кардинальных изменений. Петровскую реформу он резко критиковал и ратовал за восстановление патриаршества. Еще в начале 1890-х годов, будучи ректором МДА, о. Антоний, совместно с государственным контролером Т. П. Филипповым, публично высказался по этому вопросу – «мысль о созыве Всероссийского Собора давно уже зреет в сознании мудрых архипастырей русской Церкви, и для многих из них она составила предмет вожделенных желаний»[155].
Стремясь пополнить ряды ученого монашества, способного стать на высоту предъявляемых жизнью задач, о. Антоний стал активным пропагандистом монашеского пострига в среде студентов духовных школ. По отзыву современника, ректор «принялся стричь направо и налево, не считаясь ни с возрастом, ни с дарованиями, ни с настроением, ни с прошлым, ни с настоящим студента»[156]. Познакомившись в начале XX века с владыкой и сразу же отметив его ум и знания, генерал А. А. Киреев вынужден был согласиться с мнением протопресвитера военного духовенства И. Л. Янышевым, ранее писавшим генералу про Антония, что «он человек, для которого все не схимонашеское – дьявольское наваждение. Он дошел до того, – продолжал генерал, – что считает все каноны – обязательными!!! чуть не догматами. Да ведь я на основании канонов (конечно не догматических) улечу [так в тексте. – С. Ф.] 9/10 нашего духовенства и мирян в ересь! Как он этого не понимает?!»[157]
На первый взгляд кажется парадоксальным, что такой человек мог пропагандировать свои взгляды при Победоносцеве и не встречать с его стороны отпора, – ведь обер-прокурор не был сторонником «ученых монахов» и считал наиболее правильным такое положение, когда духовенство не выделяется ученостью, «дабы не отделяться от народа»[158]. Как рассказывал протопресвитеру Георгию Шавельскому директор канцелярии Святейшего Синода В. И. Яцкевич, обер-прокурор с ужасом смотрел на увеличение «ученого монашества», не раз повторяя: «Ох, уж эти монахи! Погубят они Церковь!» К таким «ученым» Победоносцев относился с недоверием, пренебрежением и даже презрением. По мнению о. Георгия, Победоносцев не поставил преграды только в силу субъективных причин своего характера: «Чтобы решительной рукой остановить оказавшееся негодным и опасным и вместо него создать новое, лучшее, – для этого у него часто недоставало творческого синтеза или воли, – вернее того и другого. И он примирялся со злом и даже своей пассивностью попустительствовал тому, что сам отрицал»[159].
Плоды этого «попустительства» были разные. Нельзя отрицать, что многие «ученые монахи» сыграли выдающуюся роль в жизни русской Церкви, явив образцы настоящего религиозного горения. Однако «ученое монашество» как система, позволявшая сделать быструю карьеру академическим постриженникам, заслуживала только отрицательного отношения. Так как практически все авторы, писавшие об этом феномене, имели в виду именно систему, то неудивительно, что их оценки «ученого монашества» оказывались удивительно похожими одна на другую. Понятно также, что эти оценки не могли найти понимания у Антония (Храповицкого), смотревшего на «ученое монашество» с принципиальной, теоретической, если угодно, точки зрения.
Перед тем как более подробно рассмотреть точку зрения владыки, вновь обратимся к непримиримым критикам «ученого монашества». Среди них были разные люди – и клирики (протопресвитер Г. Шавельский), и ученые (профессор СПбДА Н. Н. Глубоковский), и чиновники (товарищ обер-прокурора Святейшего Синода князь Н. Д. Жевахов). По-разному оценивая предреволюционную церковную историю и даже с неприязнью относясь друг к другу (Жевахов – о. Шавельский), они одинаково отрицательно оценивали развившуюся «монахоманию», единственной целью которой зачастую была епископская хиротония.
Вспоминая 1890-е годы, Н. Н. Глубоковский отмечал, что именно тогда стало складываться мнение, будто духовные академии «не имели даже и небольшие запасы церковности, а были духовными больше по красовавшейся на них вывеске». Профессор считал, что «эти коварные инвективы» появились с искусственным развитием нового монашества, создавшего в русской Церкви особое «направление», провозглашавшее и практиковавшее, «в духе истинной церковности», что «монахам все позволено, разрешается и прощается». В дальнейшем, писал Глубоковский, «пошла тенденциозная агитация, чтобы монашеское пострижение объявить одним из таинств, и если их должно быть не более семи, то надо развенчать брак и внести монашество, которое служит Богу по примеру крестного искупления лишь „сострадательной любовью“ Христовой, там же просто размножается не без греховности человеческое племя, спасающееся только монашеским клобуком»[160]. Понятно, что Глубоковский критиковал то течение, которое было связано с именем владыки Антония и предполагало всяческую популяризацию монашеского жития. Впрочем, не только «жития», но и карьеры, которая для «ученого монаха» разворачивалась с калейдоскопической быстротой.
Карьера «ученого монаха» представлялась современникам как быстрое продвижение по ступеням служебной лестницы: сначала постриг в академии, затем служба инспектором (или ректором) семинарии, настоятелем монастыря и, наконец, «владыкой». На этом пути будущий архиерей соприкасался, по мнению современников, лишь с великосветскими гостиными и салонами знати, но не с оградой монастыря. В результате, такие епископы «оказывались мало подготовленными к сложному делу управления епархиями, а в сфере иноческой жизни так и совсем не разбирались, ибо не имели ни малейшего духовного опыта»[161]. Аналогичного мнения придерживался и протопресвитер Георгий Шавельский, называя наружно почетную жизнь «ученого монаха» духовно убогой и считавший, что только исключительные неудачники (и то не всегда), встав на этот путь, могли потерпеть фиаско. В прежние времена, писал он, даже самые неразумные хозяйки с большей осторожностью выбирали себе прислугу, чем в Русской Церкви избирали будущих архипастырей. «У нас не хотели как будто понять, что, дабы уметь властвовать, надо научиться подчиняться, и что властвовать – не значит управлять»[162]. По глубокому убеждению о. Георгия, скудость во «святительстве» была одной из главных причин церковного застоя и всяческих неустройств в церковной жизни. Самая первая церковная реформа, полагал протопресвитер, должна коснуться епископата[163].
Впрочем, не только мемуаристы затрагивали вопрос о составе епископата и «ученом монашестве», из которого преимущественно рекрутировались архиерейские кадры перед революцией. Этот вопрос волновал и современников. Антоний (Храповицкий) на проникавшее в церковное общество недовольство засильем чернецов ответил статьей-справкой, в которой пытался доказать, что запугивание «учеными монахами» – обман. На 1907 г., писал владыка, из 57 ректоров духовных семинарий только 29 монахов; инспекторов – и того меньше (только 8). Из 187 смотрителей духовных училищ и 187 их помощников – монахов только 7. Таким образом, на 488 начальствующих приходится 44 монаха (9 % от общего числа)[164].
Архиепископ, впрочем, не сумел убедить церковную общественность столь показательными цифрами. Современники обращали внимание на болезненные, по их убеждению, тенденции, а не на статистические факты. Спустя менее трех месяцев после статьи об «ученом монашестве», на нее откликнулся известный церковный публицист и писатель Евгений Поселянин (Погожев). Статья его была опубликована в той же правой газете «Колокол», что и статья владыки. Поселянина волновало, что представители современной ему иерархии избирались почти исключительно из кадров «ученого монашества», а сами архиереи, чем дальше, тем более сияли «своей юностью».
«Мы смеем думать, – писал Поселянин, – что тот обычный путь, которым молодой „ученый монах“ подвигается ныне к епископству, есть путь не совсем правильный, и что быстрое движение по иерархическим ступеням вверх молодого человека, только что окончившего свое образование, лишает его возможности вдуматься в жизнь, сосредоточиться, составить крепкое и цельное миросозерцание, не говоря уже о том, что в таких обстоятельствах люди не имеют возможности должным образом усваивать себе главных начал духовно-подвижнической жизни: иноческого смирения, привычек аскетизма и сосредоточенности». Писатель предлагал также, чтобы молодые постриженники из духовных академий, а также собирающиеся только стать монахами проводили несколько лет в строгих монастырях[165].
Архиепископ Антоний через две недели написал письмо в редакцию. На доводы Поселянина ответить ему было очевидно нечего, почему владыка одни аргументы писателя вовсе проигнорировал, а другие попытался разбить, согласившись с ними. Антоний заявил, что посылать постриженников в монастыри, конечно же, дело хорошее, «да вернутся ли они из монастырей на духовно-учебную службу в современную разбойническую школу?» На такой спекулятивный вопрос невозможно было найти однозначный ответ. Однако его постановка обнаружила принципиальное отличие между теми, кто критиковал «ученое монашество» и его идейными вдохновителями, убежденными в том, «что только одни монахи, конечно не все и не всегда умело, старались и стараются сообщить свое благочестие, свое религиозное одушевление, свои церковные идеалы учащемуся юношеству»[166].
Идеалы, которыми вдохновлялся архиепископ Антоний, разумеется, были самыми возвышенными и преследовали цель улучшения личного состава русского епископата. Но в условиях огосударствления Церкви, когда архиерей был не только и, порой, не столько пастырем, сколько чиновником, ставка на молодых иноков-«академистов» не могла оказаться выигрышной. Освобождение Церкви от тесных государственных объятий скорее привело бы к улучшению состава архиереев, чем искусственное развитие «ученого монашества». Разумеется, вопрос о введении свободы совести западноевропейского образца в императорской России тех лет ставиться не мог – страна была православной de jure. Абсолютным большинством клириков и верующих мирян это обстоятельство воспринималось как несомненное благо. Проблема формулировалась по-иному: «Может ли наша современная Церковь дать ответ на современные вопросы, которые ей ставятся жизнью. Может, – отвечал генерал Киреев еще в 1902 г., – но под условием значительного одухотворения, а на это Победоносцев не решится…» А Церковь, считал генерал, «должна дать ответ на всякий вопрос, поставленный всяким»[167].
Уже постановка вопроса поражает – «одухотворение Церкви» зависит от Победоносцева! Однако Киреев имел в виду институциональную Церковь, а потому, говоря о ее одухотворении, не мог сразу же не вспомнить о «симфонии». С этой точки зрения, его заявление вполне логично и осмысленно, его даже можно продолжить: и наследники Победоносцева в итоге не решились на «одухотворение», предпочитая сохранять все по-старому. А сохраняя прежние синодальные традиции, трудно было надеяться на возрождение церковной самостоятельности, изменение в лучшую сторону «наличного состава» русских епископов и на многое другое. Оставалось только фиксировать существовавшие проблемы, с горечью отмечая наличие средостения не только между царем и подданными, но и между архипастырями и верующим народом, призывая помолиться, чтобы поменьше было «владык», а побольше «благопопечительных отцов в Церкви, согревающих свою паству не одними холодными архипастырскими посланиями, а теплым, живым, широким и сердечным общением с ней»[168].
Стоит обратить внимание на этот призыв к одухотворению Церкви, к оживлению духовных связей между «клиром и миром». Причиной средостения, существующего между царем и народом, а также между епископами и «телом церковным», автор-инок называл формализм государственной и церковной бюрократии. Однако таковы были правила, по которым жила церковно-государственная система. Обвинять эти правила, не подвергая сомнению сам принцип церковно-государственного единства, достаточно бессмысленно. Клирики и архиереи в абсолютном большинстве своем были выходцами из народа и являлись «естественным продуктом общественной среды, отображая на себе все ее достоинства и недостатки»[169].
Современники, отмечавшие «скудость во святительстве», именно в этом оскудении и видели главную причину церковного застоя, полагая, что архиереи не отвечают высоким задачам религиозного возрождения. Значило ли это, что архиереи плохо разбирались в вопросах «церковного строительства» и всячески тормозили дело давно назревшей реформы церковно-государственных отношений? Однако события революционных лет ясно показали, что архиереи приветствовали проведение Собора и восстановление нарушенных еще при Петре Великом канонов. «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе» и «Журналы и протоколы Высочайше утвержденного Предсоборного Присутствия» стали ответом на запросы времени. Но «вопрос о церковных преобразованиях оставался слишком тесно связанным с общим течением политической жизни»[170]. Светская власть сама определяла – давать голос церковному священноначалию и церковной общественности, или нет. Если представители общественности порой позволяли себе выступать, даже когда их не спрашивали, то архиереи такой возможности не имели или, во всяком случае, ею не пользовались. Как справедливо заметил протоиерей Георгий Флоровский, «обратный ход в политике сразу же повторился и в церковном управлении. Вопрос о реформах был отложен, если и не вовсе снят»[171]. Учитывая, что в русской Церкви практически вся власть принадлежала архиереям, которые, в свою очередь, были полностью подконтрольны светской «симфонической» власти, нетрудно понять мысль отца Георгия о связи политики и церковных реформ. Как отмечает тот же автор, в то время «внимание почти вполне поглощалось внешними реформами и преобразованиями. И очень немногие сознавали, что нужен духовный сдвиг». Флоровский полагал, что восстановление внутреннего мира и порядка возможно лишь в духовном и аскетическом подвиге[172]. В связи с этим он говорил и о необходимости монашеского возрождения, в том числе и о возрождении монашества епископов. Итак, вопрос вновь предполагалось рассматривать с «личностных» позиций. Круг замыкался. Проблема нравственного возрождения монашества не могла решиться в результате проведения церковных реформ, ее решение ставилось в зависимость от целого ряда обстоятельств: политических, идеологических, психологических и религиозных.