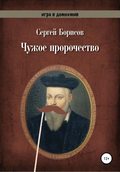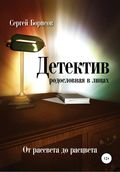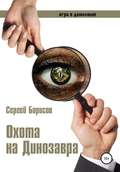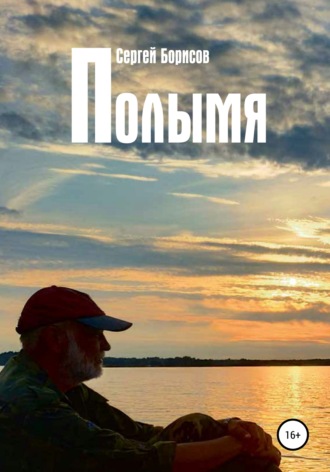
Сергей Юрьевич Борисов
Полымя
Собравшиеся у могилы поделили оставшиеся после убитого сигареты. И пошли.
Задержался один, тот, кто пристраивал на спине второй автомат. Его подсумки оттягивали чужие рожки. Патроны они тоже поделили».
Через полчаса дверь открылась.
«Дубинин!»
«Я».
«Головка от противогаза! Что делаешь?»
«Да так…»
«Кончай бездельничать!»
Начальник строевой части говорил резко, смотрел сурово. Иное обхождение Олегу еще предстояло заслужить.
* * *
Да где же он?
Олег перебирал пачку. Ведь был же. Куда делся?
Вот он. Бумага стала ломкой. И буквы враскоряку – «Е» и «О», раздолбали они «Ятрань» с Борькой.
Он взял листок, прочитал, перечитал. Потом прочитал вслух:
– …у трупа подогнули колени.
И приговорил:
– Плохо, очень плохо. Но ведь начало начал, а, Шуруп? Простительно?
Пес приоткрыл глаза, но хозяин не смотрел на него, значит, игры не будет.
Олег хлебнул кашинского бальзама. Ни крепости, ни вкуса…
Так, и куда его, этот опус? В огонь? Но ведь действительно начало, низкий старт. Ладно, оставим, пускай, в памяти должны быть и розы, и занозы. О, как сказал, в былые годы записал бы, сунул при случае в рекламный текст о биологически активной добавке для склеротиков.
Оставляем. Тогда – налево, поверх рассказа про осевший угол.
Что там на очереди?
«Воздуха чистого глотнуть захотелось? И чтобы листья под ногами шуршали? Что потянуло его в лес? Хотя, вообще-то, понятно. Уработался. Хуже нет, когда любимая работа становится в тягость, когда в доме все раздражает, когда самое невинное замечание может вызвать вспышку гнева – и кричишь слюнявым ртом, и трясутся руки.
Пора в отпуск! И сослуживцы о том же. Они и о себе пекутся – несладко им рядом.
Он бы и рад, но дела задержали на неделю, за ней – еще одна, потом – месяц, еще один. Вот и вышло – октябрь.
Три дня он отсыпался, бродил по квартире, пялился в телевизор, снова засыпал.
На четвертый день выбрался из прокуренной квартиры на воздух.
В лес! Где желтым убраны березы, где мокрые стволы осин, где уже нет грибов и нет людей.
В лесу хорошо. В лесу благодать. Там царит покой и спадают обручи с бочарных клепок, стянувших душу. Все оставшееся позади кажется мелким, никчемным. И уже удивляешься, что мог подставить себя пустым заботам, оставив незащищенными нервы и память.
В лесу очищаешься, точно кто-то срезает все лишнее, как бесполезно раскинувшиеся листья с набравшего вес кочана капусты.
Странное сравнение. Не быть ему поэтом. Капуста… Он и в годы перманентной юношеской влюбленности не помышлял о лире. Сейчас тем более далек. У него свой источник вдохновения. Работа! С криками и сосредоточенной тишиной, и торжеством, когда задача поддается, и решимостью ей противостоять, если она не сдается на милость победителя. Вот его жизнь, его будни. Но это они привели его в лес…
Он загребал ногами листья. Насвистывал. Поднял палку, ударил по пню. Палка выдержала, а пень развалился надвое. Труха.
Он пошел дальше…
…и споткнулся.
Он упал, больно ударившись коленом.
Самая обычная поляна, самый обычный люк. Крышка с полустершимися буквами и цифрами. Кольца-желобки. Ржавчина. Таких люков в любом городе полно. Но не в лесу.
Он разгреб листву. Люк плотно лежал в металлическом кольце, вмурованном в бетонную плиту, скрытую дерном. Растирая ушибленное колено, он захромал к опушке. За метр до нее ковырнул палкой землю. Бетон. На метр вперед – ничего. Назад и на метр влево – бетон.
Под ним что-то находилось. Что-то запретное?
Он дотащился до центра поляны и тяжело опустился на люк. Поднять?
Он не боялся наказания за любопытство. Он боялся самого любопытства!
Да и как поднять? Даже зацепить нечем.
Порыв ветра качнул деревья. Целый мир вокруг него жил по своим законам, действующим неукоснительно и строго. Законы же поддаются осмыслению. Не сразу, не вдруг, но поддаются.
Бесконечно воспроизводящая себя жизнь. И все это так легко перечеркнуть.
Он попытался подняться и не смог. Заскрипел зубами от внезапной боли и задрал голову. Над ним стыли облака. Всем знакомой формы. Как грибы».
Ну, этот не жалко. В камин его – с названием «Люк». И еще будет, он такие «шедевры» в свое время выдавал пачками. Сначала из спортивного интереса: смогу ли? Набив руку и много позже – под заказ. Точнее, под аудиторию издания. Лет десять ему по большому счету вообще было все равно, где печататься, хоть в радикальной газетенке, хоть в уцелевшем в перестройку консервативном журнале с притаившимися в нем членами КПСС. Приятен был сам факт публикации плюс гонорар!
Имелось, однако, предпочтение – внеидеологические СМИ, развлекательные, напичканные кроссвордами, ребусами и прочей мурой. Их обычно продавали на привокзальных площадях в расчете на пассажиров, которым требовалось убить время в дороге.
Рассказики объемом строго в одну газетную полосу испекались легко, без мук и терзаний, ну какие тут, на хрен, творческие поиски! Ремесло, оно и есть ремесло. Вам детективчик? О, не извольте беспокоиться, классический рецепт: загадка, разгадка, а между ними мясцо, если короче – сэндвич. Это как жизнь человеческая на могильной плите – между датой рождения и днем смерти. Что? Нет, ужасы оставим другим, мы чернухой не пробавляемся, это я для образности.
Сюжетов хватало. Заоконная жизнь подкидывала их регулярно, и обильно – телеэкранная. Оставалось отбросить шокирующие подробности, а трагический, как правило, финал заменить торжеством добра и гимном справедливости. Это уже было делом техники.
Когда приязнь читающей публики к детективам, вообще ко всему, что имело криминальный оттенок, пошла на убыль, он переключился на женские журналы. Сентиментальные истории лепились так же просто и получались на диво: от слез умиления щипало глаза даже у автора, не только у читательниц. Тех подкупал рыцарский взгляд на любовь и семейные узы, вера в путеводную звезду и счастливую встречу, итогом которой эти узы являются, крепкие и надежные, как наручники из легированной стали. Да-с, в создании одиноких представителей мужеского полу, жаждущих нежности, способных оценить тонкость женской души, разглядеть за невзрачной внешностью истинную красоту, в этом сочинитель Дубинин достиг заоблачных высот. Потому что опыт дорогого стоит, как и здоровая беспринципность. Хотя это не совсем то, в чем его пытался упрекнуть либеральный редактор-телеведущий, или совсем не то.
Жизнь устроилась, работа не вызывала тошноты, его хвалили за скоропись и креатив, и потому он был благодарен Борьке. С ним он встретился по возвращении в Москву и поддерживал пусть не дружеские, до этого не дотягивались, но добрые товарищеские отношения.
Путилов же называл его другом и тоже преувеличивал. Дружбе мешала зависть. Борька мнил себя писателем, кем Олег себя ни в коем случае не считал: максимум – литератором. Путилов полагал такую низкую планку жеманством, но не оспаривал. И не из природного такта. Тут другое: повысь Олег свой статус до писательского, они станут вровень, и как это перенесет уязвленное самолюбие? Пока этого не произошло, Борька считал себя вправе порицать друга за расточительность. «Дано тебе, так береги, лелей и холь», – заплетающимся языком прошамкал он как-то на излете большой попойки, надуваясь от собственной значимости. «Не лопни, писатель», – расплылся в пьяной улыбке сидящий напротив подмастерье из славного цеха графоманов.
Олег оставался при своем мнении, скромно оценивая имеющиеся способности, но высоко – рюмку для разгона и резвость пальцев, большего ему для писания не требовалось.
Путилов, впрочем, тоже скептически относился к вдохновению. «Это костыли для поэтов, – отмахивался он. – Прозаику ждать, когда на него снизойдет, чернила высохнут. Трудолюбие, вот без чего не обойтись и не состояться».
Слово «трудолюбие» он произносил, в точности как Вицин в фильме «Вождь краснокожих», хотя там говорилось о чадолюбии, которое «сильно развито в этих полудеревенских общинах». Борька разве что перст указующий не поднимал для пущей значительности.
Усидчивости самого Путилова можно было позавидовать. Над текстом он корпел до рези в глазах, шлифуя диалоги и превращая поначалу картонных персонажей в подобие живых людей. Его рассказы, вымученные до той степени совершенства, когда и придраться вроде бы не к чему, печатали тем не менее не слишком охотно. При наличии интриги, характеров… «Изюма нет», – соглашались в кабинетах, когда дверь за Путиловым закрывалась. Не раньше. Выскажи они это в глаза, автор потребует аргументов, а предъявить их невозможно, ибо «изюм» есть субстанция сложная, состоящая из ингредиентов числом не меньшим, чем благоухающий парфюм. Написанное же Борисом Путиловым всегда пахло чем-то одним – порохом, помадой, машинным маслом, мокрыми простынями, мышиным пометом, бензиновым выхлопом, кислыми щами. И эту ограниченность ничто не искупало – ни гладкость стиля, ни выверенная композиция, ни актуальность темы.
С годами отказы Путилов сносил все тяжелее. Они оскорбляли, поскольку он не понимал…
«Что не так?» – спрашивал он Олега, и тому нечего было ответить, не заводить же шарманку про «изюм». Поэтому Олег ограничивался дельным советом:
«Наплюй и забудь».
И таким:
«Три к носу».
Принимались советы, однако, лишь в том случае, если выпито было достаточно. Алкоголь примирял Борьку с действительностью. Если же норма не была выбрана, эффект оказывался противоположным. Путилов смахивал с губ пивную пену или опрокидывал в рот еще стопку, выпрямлялся и начинал пространную речь о человеческой глупости и предназначении писателя, его мессианстве.
Олег терпел и слушал, дожидаясь, когда закончится этот словесный понос.
«Вот ты…» – наконец менял пластинку, не утратив при этом ража, Борька.
Тогда и начинались наставления и упреки:
«Легкий ты человек, Дубинин. От таких, как ты, строчкогонов, может, самое зло и происходит. Лепишь рассказы, как фабрика «Гознак» купюры. Придумываешь, врешь, а читатели хавают, привыкают, добавки просят. Для них твой обман становится литературой. Ты понимаешь хоть, что творишь, нет? Ты заставляешь их верить в мир, которого не существует, в простые решения, в саму их возможность! А потом они смотрят вокруг и понимают, что все не так – все сложно. Но ты их уже отравил, и они беспомощны, они заведомо проигравшие».
Олег гонял желваки по скулам и не выдерживал:
«Ты, Борь, говори, да не заговаривайся, палку не перегибай».
«А я не перегибаю!»
«И не надо, а то ведь я рассердиться могу. У нас, у борзописцев, с этим как высморкаться».
Путилов, тараща мутные глаза, пытался въехать, серчает его собеседник или шуткует. И в ходе разбирательства трезвел. Ссориться с Олегом ему резона не было. Даже в подпитии и в запале ему доставало осознания того, что есть красная черта, которую переступать не следует. Потому что друзьями не бросаются, и это только во-первых. А еще из соображений деловых. Олег по-прежнему поставлял ему сюжеты – с этим у Борьки был полный швах. Сам он ничего стоящего придумать не мог, как ни пыжился. Только ему казалось, что вот оно, есть, как приходило понимание, что это чье-то, кем-то когда-то написанное, почти забывшееся и вдруг всплывшее. В отчаянии рука его сама тянулась к бутылке. Тут-то и появлялся Олег, у которого с сюжетами никогда затыка не было. Делился он ими щедро, а уж Путилов умел подхватить, чтобы потом превратить сказанное в бегущие по бумаге строчки. При этом он успокаивал себя тем, что главное все же за ним: это он наращивает на кости мясо, а что отправная точка принадлежит другому, ну так на то она и точка, не многоточие… В конце концов, Пушкин поделился с Гоголем задумкой, а тот, не будь дурак, воспользовался. И что мы имеем? «Мертвые души» имеем! Повествование о похождениях господина Чичикова! И еще неизвестно, при всем уважении, получилось бы у Александра Сергеевича лучше, чем вышло у Николая Васильевича.
«Между прочим, о тебе радею», – с напускной обидой говорил он.
«Боря, – отвечал Олег, – мне даже материально помогать не надо. Мальчик уже в старших классах, курит в туалете и целуется за углом».
Путилов успокаивался, расслаблялся, и его начинало развозить. Пьянел он как-то враз, одномоментно: только что вещал о Еврипиде и никудышном советском писателе Бубеннове, и вдруг уже лыка не вязал.
«Пора. – Олег подзывал официанта. – Погнали».
«Домой поеду», – с трудом ворочая языком, вываливал наружу слова Путилов.
«Куда? Во Фрязино?»
«К жене… любимой… к деткам…»
Олег расплачивался, подхватывал Борьку, выволакивал на улицу и грузил в такси.
«Опять?» – спрашивала Ольга, не удивляясь и без возмущения, когда они появлялись на пороге квартиры.
«Опять и снова», – подтверждал супруг, отягощенный нелегкой ношей – прежде худосочный Путилов с годами сильно прибавил в упитанности.
«Мадам…» – лепетал Борька и бессильно ронял голову на грудь.
Его укладывали в гостиной, укрывали пледом.
Путилов спал, отвесив челюсть, и не храпел.
«Ну хоть это…» – примирялась с происходящим Ольга Дубинина.
Ее муж ничего не отвечал, да и не требовалось. Ему тоже хотелось спать, вырубиться. Но чтобы не уронить себя в глазах жены и Леры, шмыгающей между ними, он отправлялся в ванную, где долго чистил зубы. Потом, держась подчеркнуто прямо, шествовал к кровати, ложился и брал в руки книгу. Ритуал был соблюден, а что книга, выскользнув и соскользнув, через минуту оказывалась на полу, так это погрешность несущественная.
Просыпался Борька раньше его. Ко времени, когда Олег присоединялся к компании на кухне, Ольга уже успевала отпоить гостя кофе, а если имелся, то и апельсиновым соком.
Примечательным качеством Путилова было то, что он нисколько не смущался. Потому что не помнил себя вчерашнего. А что сегодня ему нездоровится, так это погода меняется, давление скачет, каждого может прихватить.
О вчерашнем Олег не напоминал из солидарности, Ольга – из соображений такта. Лера тоже придерживала язык, внимая разглагольствованиям дяди Бори, который был готов заливаться соловьем на любую тему сколь угодно долго. И надо признать, если у него и был дар, то дар краснобайства. Олег же в эти утренние часы больше помалкивал, чтобы не брякнуть чего ненароком – к месту, но некстати.
Когда Олег переехал в отцовскую квартиру, то с ночевками после пьянок стало проще. Поутру Путилов сам за собой ухаживал, прочищая мозги банкой пива. Когда богиня зари Эос десницей своей раздирала Олегу веки, он уже был в форме и встречал вчерашнего собутыльника в боевой готовности, надеясь вбить в его голову очередные гвозди мудрости.
-–
Как-то Олегу попал в руки сборник произведений американского писателя Генри Джеймса, эстетствовавшего на сломе XIX и XX веков. И в повести «Мадонна будущего» он обнаружил персонаж, напомнивший ему Борьку. Только тот был художником и жил не в сумрачной России, а в благословенной Италии. Этот художник так умно, в красках, с восторгом рассуждал о живописи, так проникал в замысел автора, так доказательно судил о том, каким должно быть гениальное полотно, что у собеседника не возникало сомнений, что и в его мастерской сокрыта картина, которая, увидев свет, потрясет основы, встав в один ряд с творениями Эль Греко, Веласкеса, Рафаэля. Художник-эрудит трудился над этим полотном, неукротимо приближаясь к идеалу, полагая возможным выставить ее на обозрение не ранее достижения оного. А пока говорил, говорил, говорил, совсем как Борька. И по прошествии лет отношение к нему поклонников высокого искусства изменилось. Былое восхищение умнейшим и тончайшим ценителем прекрасного сменилось искренним и не очень сочувствием, которое только и возможно в общении воспитанных людей с тем, кто знает, что нужно делать и как, но беспомощен в самом делании. Пустоцвет… Генри Джеймс не знал этого слова, а переводчик не подменил им ни одно из англоязычных определений, между тем на одной шестой части суши таких людей называют именно так. И что характерно, в повести были не только пространные лекции о живописи, но и сюжет, любовь, чувства, в противном случае это был бы философский трактат, адресованный лишь избранным, коим дано оценить и восславить. И присутствие «мадонны» в названии было оправдано – в повести наличествовала некая особа, к Священному Писанию, разумеется, касательства не имевшая, что подтверждало слово «будущего». Финал же был закономерен: смерть художника. И когда соседи и знакомые вошли под скаты мансарды, где располагалась мастерская живописца и куда прежде не было доступа никому, они обомлели, увидев ту самую картину, в существование которой уже не верили. И она была так же хороша, как женщина на ней, божественна! Но уже не к кому было обратиться с вопросом: что же ты скрывал такое сокровище, почему позволил себе превратиться в посмешище? Человек умер, а мертвые молчат. Оставалось лишь догадываться и сожалеть.
Так, может, и у Борьки где-нибудь хранится рукопись – та самая, и он достает ее глубокой ночью, когда домашние спят, и при свете настольной лампы вписывает несколько строк, абзац, что-то меняет, исправляет по десятому разу, наконец-то подобрав верное слово. И когда-нибудь тайное станет явным. И люди, изумленные и ошарашенные, краснея от стыда, что не разглядели раньше, не оценили, перелистнув последнюю страницу, поймут, что стали другими, узнав о жизни что-то важное и, может быть, самое главное.
Нет, сказал Олег вылезшему на свет романтику. Нет никакой рукописи. Не было и не будет. Все написанное Борька будет по-прежнему разносить по редакциям и издательствам, а потом ждать хоть какого-то результата, потому что конкретика всяко лучше неопределенности. И когда что-то все же опубликуют, он будет искательно заглядывать в глаза Олегу с ожиданием похвалы, даже требуя. И получит ее, потому что Олег Дубинин добрый, он вообще жалостливый, если кто не заметил. Бедный, бедный Боря! Ну как такого не пожалеть?
Так думал Олег, отвешивая товарищу комплименты, и продолжалось это многие годы, пока не крякнулось, когда на него снизошло озарение: никакой Путилов не бедный, не скорбный и вовсе не несчастный. Все с точностью до наоборот: если отбросить несущественное, в остатке будет оно – счастье. Это же кайф какой – знать, чего ты хочешь от жизни, быть уверенным в своем предназначении, купаться в мечтах, которые так сладки и так дурманят. И он позавидовал Борьке. Потому что его собственная мечта была абсолютно детской, даже признаться неловко. Ну, как… «Чего тебе хочется, мечта у тебя есть?» – спросил Викниксор. «Есть, – ответил Мамочка. – Сбежать отсель. И скатерку вот эту спереть, красную. Шик?» И согласился Виктор Николаевич Сорокин, директор школы имени Достоевского: «Шик».
* * *
В отроческие годы «Республика ШКИД» на него особого впечатления не произвела, а вот в армии очень даже. Потом, в Москве, хотя в собрании отца эта книга имелась, Олег ее пальцем не тронул – единственно из опасения, что былое впечатление треснет и станет разваливаться, как гнилой зуб. Были прецеденты. Да вот хотя бы «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева. Когда читал в девятом классе, исхохотался. А со второго захода, десять лет спустя: хорошо, остроумно, но не то, и даже разбираться не хочется, что именно «не то». Такой судьбы шкидовцам он не желал. Но фильм по книге, гениальную экранизацию Геннадия Полоки, смотрел не раз и с неизменным удовольствием.
«Дубинин!»
«Я».
«Головка от ракеты!»
«Боеголовка, товарищ капитан».
«Поговори у меня. Опять бездельничаешь?»
«Никак нет, читаю».
«Чего?!!»
В армии он много читал. Он и прежде не чурался этого благородного занятия, но чтобы с наслаждением, запоем, такого не было. И даже сравнить не с чем, разве что с глотком соснового воздуха после смрада Ленинградского шоссе в районе Химок. Не годится сравнение? Тривиально? Зато точно.
Причина – обстоятельства и обстановка. Обстоятельства были двоякого рода. Прежде всего налицо был душевный дискомфорт, наследие учебки, где было не до книг, вообще ни до чего, и срамной ежевечерний хор «День прошел… И х.. с ним!» казался не пошлостью, а слепком с действительности, чем-то вроде посмертной маски. В части, под крылом у ефрейтора Путилова, время появилось. Чтение способствовало успешному заполнению пустоты в груди. Или где она там теплится, душа?
Что до обстановки – обстоятельства места, то в комнате секретчиков она была располагающей.
Путилов рассказывал, что за полгода до появления в части рядового Дубинина поступил приказ об оптимизации использования труда вольнонаемных, что на практике означало сокращение штатов. Первой на улице по ту сторону КПП оказалась заведующая библиотекой.
«Что же мне теперь? – всхлипывала она, потряхивая седенькими кудельками. – Куда?»
Офицеры отводили глаза. Что тут скажешь? Самих того и гляди оптимизируют.
Вольнонаемную даму пенсионного возраста проводили с цветами, которые Путилов срезал с клумбы перед штабом. И он же, как единственный представитель рядового и сержантского состава, посещавший полковую библиотеку, вступил во владение ею. На деле это ограничивалось тем, что он получил ключи от двери, которая открывалась только перед ним и совсем редко перед замполитом, ответственным за воспитательную работу среди военнослужащих, а также за неразглашение оными государственных тайн. За спиной замполита величали «особистом», поскольку именно эта его роль была и особой, и главной. К Путилову, невзирая на своеобразное отношение того к дисциплине и привольное житие, у «особиста» была лишь одна претензия – Борька категорически отказался прислуживать стукачеством. Он и Олега предупредил, чтобы ни-ни, боком выйдет.
«Заставить тебя он не может, даже навредить толком. А взвод не простит».
«Так прямо и сказать? – ухмылялся Олег. – Отзыньте, товарищ, доносами не пробавляюсь».
«Зачем хамить? Прикинься дурачком. Впрямую он тебя вербовать не будет, а ты сделай вид, что не понимаешь, о чем речь. А с дурака какой спрос? Не поверит, конечно, но и сделать ничего не сможет, не те времена, чтобы руки выкручивать. С даже больше скажу – уважать будет».
Так все в дальнейшем и вышло. «Особист» попробовал прокачать новичка и, получив отпор, отступился. Особого рвения за ним замечено не было, опять же – не те времена.
Собственно в библиотеке – двух комнатах в пристройке к солдатской столовой – Путилов бывал наскоками. Читал он в секретке, туда таскал книги стопками, всему прочему литературному наследию предпочитая произведения современных авторов. И не потому, что ставил их выше предшественников, которых целыми поколениями сбрасывали с парохода современности, и многих сбросили, да не все утопли. Он рассуждал так: печатают – значит, читателями востребовано. И потому, коли хочешь увидеть свои сочинения под обложкой, изволь примечать и мотать на ус, какими должны быть стиль, слог, конфликты, тогда и на тебя спрос будет.
Правда, с книжными новинками в полковой библиотеке уж лет пять было совсем худо. Урезанный до грустного бюджет пополнял фонд лишь периодикой. Выручали «Роман-газета» и «толстые» журналы, поступавшие бесплатно, так редакции, уж неизвестно на какие шиши, удерживали на плаву свои тиражи, пускай и в полузатопленном состоянии. Но к «толстякам» отношение у Путилова было скептическим, и не без оснований. Там взахлеб печаталось то, что долгие десятилетия томилось под спудом, отправлялось цензурой на полки спецхранилищ, вывозилось за границу на папиросной бумаге, за подкладкой пальто. А в дополнение к этой, казалось, необъятной массе публиковались поделки, что лабались нынешними прозаиками и поэтами на потребу дня: либеральные, разоблачительные, срывающие покровы. Следовать этому примеру Путилов не желал. Совсем уж грошовый успех ему был не нужен.
«Жизнь их будет недолгой, – рассудительно говорил он. – Я не о людях, я о повестях и рассказах. И заметь, романы они не пишут. Роман требует времени, мозгового усилия, а им нужно быстро, еще быстрее, пока читателя не начало выворачивать от этих помоев».
«Чистоплюйствуешь», – заключал Олег.
«Все у нас так, и всегда, – Путилов поднимал глаза к небу, к потолку то есть. – Клеймом прижечь – национальная забава. Ханжа и холуй! И плакат на шею, чтобы все знали, кто такой, и цепями к позорному столбу, а потом камнями и конскими яблоками, чтобы замазать и чтобы не отмылся».
«Остынь, Боря».
Путилов отрывал глаза от желтых пятен протечек и переводил взгляд на Олега. Остывал.
«Если так хорошо все понимаешь, зачем читаешь?» – спрашивал Олег.
«Эти умельцы владеют техникой. В этом они мастера. Как удержать темп, расставить акценты, вот этому учусь. Но только этому! А что писать, с этим я уж как-нибудь сам».
«С помощью временно подчиненного», – с ехидцей поправлял Олег, разумеется, про себя.
«Мы, извиняйте, литературных институтов не кончали, – продолжал Путилов. – У нас другая судьбина. МГИК! Московский государственный институт культуры, в прошлом библиотечный имени Крупской. Нам историю литературы преподавали – русской, зарубежной, всех веков, это было. Разбирали по косточкам, критиканствовали. С этим я наблатыкался, шашкой махать. А чтобы самому написать… Такого предмета не было. Приходится разбираться».
С этими словами он открывал журнал и погружался в чтение.
Тапочки Борька снимал и ставил рядом с креслом. Когда-то синие, но ставшие серыми от стирок носки перечеркивали штрипки галифе, как одинокие лычки – погоны. Правила личной гигиены старший секретчик соблюдал неукоснительно из страха подцепить грибок, истинное проклятие взвода управления. Даже Олег не уберегся: запустил, потом мучился от зуда. Путилов подобных оплошностей не допускал, и потому даже зимой, протянув ноги к батарее центрального отопления, до ощутимой концентрации воздух миазмами не насыщал.
Путилов читал. Олег заполнял формуляры, сверял номера карт, ставил пломбы, лил сургуч на суровую нить. Иногда Борька засыпал, потому что подъем в 6.00 – это закон, а отбой в 22.00 – это для салабонов-первогодков. Жесткой дедовщины во взводе не было, не то что у дивизионных пушкарей, поэтому «молодые» высыпались, ночью их не гоняли. Зато «черпаки» и «дедушки» колобродили до полуночи, а днем их валило с ног, и они не упускали возможность покемарить.
Чаще, однако, чтение захватывало, увлекало, и сон капитулировал. Борька перелистывал страницы, иногда цыкал зубом, даже похрюкивал, так выражая отношение к тексту. Наконец закрывал журнал, минуту-другую привычно посвящал изучению потолка, потом набирал в грудь воздуха и разражался спичем, в котором содержалась развернутая оценка прочитанного. Обычно отрицательная. Мнение об авторе тоже было нелицеприятным. После этого Борька переходил к излюбленной теме – о роли книги в жизни человека, как и общества в целом. И тут Олег отдавал должное преподавателям Alma Mater, выпустившим в свет такого подкованного библиотекаря-библиографа.
«Книги живучи. Нас не будет – они останутся как свидетельство времени, отражение умонастроений человеков. Взятые по отдельности, они могут искажать, писателям вообще свойственно заблуждаться, но в сумме это подлинная реальность и объективное прошлое. Так?»
«М-м…»
Ответа не требовалось – одобрение подразумевалось, а несогласия лектор не потерпел бы. Поэтому Олег обходился мычанием.
«Книга есть неотъемлемая составляющая жизни индивидуума, – вещал Борька с тем же пафосом, с каким командир роты в учебке распинался о материалистическом подходе к познанию. – Она формирует характер, насыщает лексикон, выстраивает мировоззрение».
На этом Олег отключался, слушая в четверть уха, только чтобы «мекать» вовремя. Блуждания Путилова в заоблачных высях были лишь поначалу небезынтересны, на десятый раз вгоняли в тоску. Однако кое-что откладывалось, и когда Олег сам «подсел» на книги, он пожалел, что был так невнимателен к вещуну. Потому что излагал Борька толково.
«Вот! – потрясал он тетрадкой «Роман-газеты». – Валентин Распутин. «Пожар». Гибель русской деревни как гибель русской цивилизации. Широкими мазками. Философский реализм. Блестящее исполнение. Картинки с натуры. Теленок, утопающий в навозе, и крестьяне, сначала допустившие этот срач, а потом пытающиеся его спасти, и не из сострадания – из азарта. Обнищание духа! Темень впереди, мрак, и как в этой тьме разглядеть дверь, выход? Страшной силы вещь, но силы не разрушительной, а созидательной. Эта книга призвана всколыхнуть общество и сотрясти основы».
Тут Олег не выдерживал:
«Ты на год публикации посмотри, Боря. Небось аккурат при восшествии Михалсергеича на престол. А там и потрясения начались. Все посыпалось».
Путилов удивлялся: кто это там пищит в углу?
«Что я слышу? Молодой человек, сторонник демократических реформ и завсегдатай демонстраций, за то и пострадавший, и такие вчерашние взгляды. Да вы, батенька, оппортунист. Вы имперец и ренегат. Вам что, нынешняя власть не нравится?»
«Ты мне еще лампой в лицо посвети, – предлагал Олег. – Не-а, не нравится».
«И мне. Но все закономерно. Опуститься на дно, оттолкнуться и выплыть на поверхность».
«А так, чтобы не тонуть в дерьме, как тот телок, нельзя?
«С нашим народом по-другому никак. И эта книга… – Борька снова поднимал «Роман-газету». – Этот «Пожар» еще скажет свое слово. Пока не сказал, но скажет».
«Из искры возгорится пламя. Плавали – знаем».
«Именно! С этой книги, с нее и других, тоже полных отчаяния, омытых слезами, начнется прозрение и очищение».
-–
Так говорил Заратустра, он же ефрейтор Путилов. Но время обошлось без подсказок. Кто нынче помнит «Пожар»? Рассказ «Уроки французского» – в школьной программе. «Последний срок» и «Прощание с Матерой» – на памяти пенсионного поколения. Ну и будет с него, с Распутина.
Лажанулся Борька, но не по-крупному – в частностях. О книгах как таковых он верно глаголил. О значении их, влиянии. Много лет спустя Олег даже сваял несколько рассказов о книгах, они были главными героями, а люди лишь арабесками, фурнитурой.
Да где же они, рассказы эти? Олег рылся в папке. Ага, вот они, нашлись бродяжки. «На пятом месяце». Как же, он помнил сей опус из дней, когда мобильных телефонов не было. В журнале «Женское счастье» его поначалу завернули за невнятность. А потом взяли. Берет же «Плейбой» с его репутацией произведения художественные, проблемные, чтобы пыжиться и не стесняться своей генеральной линии.
«Конечно же, ничего страшного. Ничего опасного. И ничего необычного. Все было миллиарды раз «до» и, хочется верить, будет миллиарды лет «после».
Ее бабушка жевала елочные иголки.
Маму воротило от чая, зато неудержимо тянуло к кофе.
Сестра без конца стирала – ее приводил в исступление порошок «Био-С».
Подруга грызла мел.
Тетя не могла наесться сардинами в масле.
Говорят, кого-то минует сия чаша, но таких меньшинство.