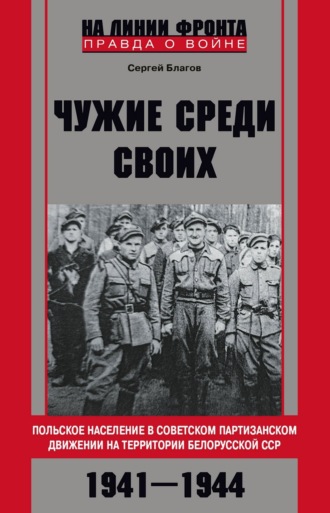
Сергей Благов
«Чужие среди своих». Польское население в советском партизанском движении на территории Белорусской ССР. 1941—1944
Глава 1
Поляки и советские партизаны на территории Белорусской ССР в 1941 – середине 1943 г
В комплексе исследований по проблематике участия поляков в советском партизанском движении в годы Великой Отечественной войны именно историю развития начального этапа можно назвать одной из самых слабо изученных страниц. В советские годы из-за сложности и неоднозначности темы ее старались рассматривать бегло, лишь обозначая основные острые моменты, либо вовсе избегали их, акцентируя внимание на том, что с первых дней войны все граждане Советского Союза включились в партизанскую борьбу[30]. После распада СССР главным образом среди польских авторов появились более категоричные оценки участия поляков, а точнее, их неучастия в антифашистской борьбе на стороне Советов[31]. Для того чтобы исследовать предпосылки к созданию польских партизанских отрядов, необходимо установить, в каких условиях находилось польское население, какими были его численность и настроения, действительный уровень вовлеченности поляков в партизанскую борьбу, а также действия советского руководства, направленные на расширение антифашистской борьбы в Белоруссии.
Поляки Западной Белоруссии
Партизанское движение чаще всего формируется за счет местного населения. От того, насколько оно расположено к участникам вооруженного движения сопротивления, зависит эффективность развития этого движения. В случае с поляками, проживавшими на начало Великой Отечественной войны на территории Белорусской ССР и составлявшими значительную часть местного населения, ситуация была крайне непростая.
В течение пары лет до вторжения немецких войск на территорию Советского Союза этнический состав Белорусской ССР серьезнейшим образом поменялся. К примеру, в течение 1939 г. из-за присоединения к СССР частей Виленского, Полесского, Белостокского и Новогрудского воеводств Польши польское население БССР увеличилось по меньшей мере в 20 раз. Сколько точно поляков добавилось к населению БССР за два неполных предвоенных года – вопрос до сих пор открытый. Проблема заключается в том, что последняя довоенная перепись населения на приобретенных территориях проводилась еще в 1931 г. К тому же в ее опубликованных результатах отсутствовал пункт «национальность». И здесь исследователи сталкиваются с актуальной для сегодняшней исторической науки проблемой установления этнической и национальной идентичности[32]. В данном случае приходится ориентироваться на такие вторичные показатели, как «вероисповедание» и «родной язык», а также учитывать все демографические процессы, проходившие на протяжении последующих 10 лет. В работах разных лет подсчеты велись по всем присоединенным к СССР территориям Польши. Численность местных поляков к осени 1939 г. в этих исследованиях колеблется от 3 до 5 млн человек[33]. Проанализировав данные Второй всеобщей переписи населения Польши 1931 г. по Виленскому, Полесскому, Новогрудскому и Белостокскому воеводствам[34], «Малого статистического ежегодника» 1939 г.[35], а также данные Всесоюзной переписи населения 1939 г.[36], в рамках этого исследования были проведены собственные подсчеты. В работе с данными всеобщей переписи населения Польши 1931 г. в исследовании под поляками подразумевались все польские граждане, назвавшие в качестве родного языка польский и принадлежавшие к католическому вероисповеданию. Безусловно, западные белорусы-католики также могли назвать польский язык родным, однако в данном случае можно говорить, скорее, об ассимиляции и утрате их национальной идентичности, тем более в условиях политики полонизации, которая проводилась в Западной Белоруссии в 20–30-х гг. XX в. При подсчетах был учтен 10 %-ный прирост населения восточных районов Польши, отмеченный в «Статистическом ежегоднике» 1939 г., а также демографические процессы, связанные с началом Второй мировой войны и пребыванием поляков в составе СССР в 1939–1941 гг. В результате было определено, что к началу Великой Отечественной войны на территории Белорусской ССР проживало около 2,1 млн граждан польской национальности. Более 2 млн из них приходилось на Западную Белоруссию[37]. Близкую цифру установили авторы фундаментальной работы «Население России в XX веке», указав, что на присоединенной в 1939 г. территории Западной Белоруссии проживало 2,341 млн поляков[38]. Однако в этих расчетах не учтены результаты предвоенной репрессивной политики СССР. Напротив, в подсчетах польских коллег эти цифры традиционно выглядят несколько ниже. Например, польские ученые Е. Седлецкий и П. Эберхарт установили, что на территории Белорусской ССР проживало 1,15–1,47 млн поляков[39]. Исследователь Б. Вёнцек, вероятно, просто не верно перевел отрывок из работы М. Юхневича и привел еще более скромную цифру – 863 тыс. поляков[40]. Надо учитывать, что в польской литературе традиционно приводятся высокие цифры жертв репрессий 1939–1941 гг., о чем речь еще пойдет в данной главе. Именно по этой причине польские исследователи занижают численность оставшегося населения. К слову, в современной отечественной литературе время от времени появляются и вовсе фантастические цифры. В действительности, даже если брать самые скромные расчеты, поляки составляли солидное национальное меньшинство – не менее 18 % от всего населения Советской Белоруссии.
Польское население было распределено неравномерно по территории БССР и представляло собой компактные группы проживания. Исключением служила Белостокская область, созданная из одноименного воеводства и части Варшавского воеводства, где проживало около половины всех новоиспеченных белорусских поляков. Самыми крупными анклавами польского населения также выступали Лидский, Столбцовский и Несвижский районы Барановичской области, Кобринский район Брестской области, район городов Брест и Пинск[41]. При этом необходимо иметь в виду, что на территории Белорусской ССР еще до присоединения западных областей проживало почти 60 тыс. граждан польской национальности[42], которых можно условно называть советскими поляками. Они проживали во всех центральных и восточных регионах Белоруссии и, в отличие от своих западных земляков, были полностью интегрированы в советское общество.
О событиях, происходивших в 1939–1941 гг. в Западной Белоруссии, в советской литературе писали немного. Классической для характеристики данного периода являлась формулировка: «Не полностью завершился процесс ликвидации всех эксплуататорских классов, только лишь началась перестройка на социалистический лад всей жизни»[43]. Под «ликвидацией всех эксплуататорских классов» подразумевались репрессии против местного населения, сопровождавшиеся арестами и выселением всех неугодных советскому режиму граждан в северные и восточные регионы РСФСР и в Казахстан. В числе антисоветских элементов оказались: актив политических, религиозных и общественных организаций, представители административных и силовых структур, кулаки и прочие «эксплуататоры», работники лесного хозяйства, а также члены их семей.
В отечественной и зарубежной историографии по сей день ведутся дискуссии по вопросам численности репрессированных граждан западных областей СССР. Польские авторы в своих подсчетах выходят за пределы цифры в 2 млн человек; число депортированных в них варьируется от 800 тыс. до 1,7 млн человек[44]. Современные российские исследования фиксируют около 110 тыс. арестованных в 1939 г. и 320 тыс. депортированных в 1940–1941 гг. По расчетам А.Э. Гурьянова, всего репрессиям в 1939–1941 гг. подверглись приблизительно 480 тыс. жителей всех западных областей СССР[45]. Уточняющие цифры по БССР можно найти в трудах российских, польских и белорусских исследователей. Так, в тюрьмы в 1939–1941 гг. были заключены более 48,5 тыс. граждан Западной Белоруссии[46], депортированы были 120 тыс. человек, 90 тыс. из которых были польской национальности[47]. С учетом приведенных данных можно предположить, что общее число арестованных и депортированных поляков Западной Белоруссии к началу Великой Отечественной войны находилось в пределах 150 тыс. человек.
В 1939–1941 гг. шла и упомянутая уже «перестройка на социалистический лад всей жизни». Проводилась активная замена польских кадров в органах управления, здравоохранении, образовании, культуре, транспортном секторе. В Западную Белоруссию были направлены тысячи специалистов из других регионов БССР и РСФСР, которых местные жители называли «восточниками». К примеру, за 1939–1940 гг. кадровый потенциал Белостокской области пополнили свыше 9 тыс. человек, 7 тыс. из которых были белорусами и русскими по национальности. В то же время в Брестскую область прислали около 6 тыс. новых специалистов. Три четверти от их числа также представляли белорусы и русские[48].
Существенными для положения местных поляков стали изменения, связанные с экономической сферой жизни – национализация банков, производств, а также частичная коллективизация. Последняя мера касалась крупных хозяйств так называемых осадников, польских переселенцев, получивших землю в восточной части Польши за военную службу. Органы НКВД к концу 1939 г. насчитали на территории Западной Белоруссии почти 3998 семей таких осадников. Всех их ждало выселение[49]. Процесс создания коллективных хозяйств на высвобождавшихся землях не носил до войны повсеместный характер. К примеру, в Малоритском районе Брестской области было организовано всего 6 мелких колхозов[50]. Даже в самом экономически депрессивном регионе – Пинской области, – где «левые» идеи были распространены еще до присоединения к СССР, небогатые крестьяне не спешили отказываться от своей собственности. Очевидец этих событий, коммунист по убеждениям Алексей Жилевич, в своих воспоминаниях заметил, что «проблема перехода от индивидуального к общественному коллективному хозяйству среди крестьян не была в должном уровне понята»[51]. С другой стороны, часть польской интеллигенции с одобрением встретила отказ от полонизации в сфере образования в Белоруссии, от которой страдали районы с преимущественно белорусским населением, как это было в Лидском районе Барановичской области[52]. Алексей Жилевич отмечал и другие положительные моменты, связанные с вхождением в состав СССР Пинской области: пришла борьба с неграмотностью, начало развиваться здравоохранение в сельской местности и культура (например, в деревнях впервые показали кино)[53].
В большинстве же своем факт присоединения восточных областей Польши к СССР местные поляки воспринимали как аннексию, потерю Родины, попытку очередного раздела, на этот раз Второй Речи Посполитой. Репрессии, деполонизация во всех сферах жизни, особенно изменения в экономической сфере, лишь усугубляли негативное отношение к новым властям. Уже осенью 1939 г. на территории западных областей Белорусской ССР активизировали деятельность различные польские подпольные организации, группы и кружки, к которым присоединились политические деятели, бывшие военные, представители интеллигенции и учащейся молодежи. Формы сопротивления они использовали самые разные – от саботажа до террористических актов. Развернула свою сеть подконтрольная правительству Польши в эмиграции организация Союз вооруженной борьбы (СВБ). В 1939–1940 гг. ее актив выделил под сопротивление четыре округа по названиям прежних воеводств – Виленский, Полесский, Новогрудский и Белостокский, определив комендантов, которые должны были руководить на местах конспиративной работой[54].
Деятельность польских подпольщиков достаточно быстро попала в поле зрения сотрудников НКВД. Уже в ноябре 1940 г. руководство союзной республики владело достаточным количеством информации о присутствии в БССР конспиративной сети Союза вооруженной борьбы и провело серию арестов[55]. Польское подполье Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. насчитывало, по разным оценкам, 8–10 тыс. участников. В Беловежской и Налибокской пуще действовали более десятка вооруженных партизанских отрядов. Однако отсутствие единого руководства, опыта подпольной борьбы и успешные действия органов НКВД привели к разгрому большинства очагов сопротивления. До начала войны, по официальным данным, было ликвидировано 188 польских организаций и групп, а также арестовано свыше 6 тыс. их участников[56]. Те, кому удалось избежать ареста или гибели, ушли в глубокое подполье.
Немецкая оккупация
С началом немецкой оккупации западных областей СССР, то есть с первых дней Великой Отечественной войны, подняли голову все силы, недовольные менее чем двухлетним нахождением под советским управлением. Польско-немецкий историк Богдан Мусял в своей работе «Советские партизаны. Мифы и действительность», ссылаясь на советские отчеты по партийной и партизанской линии и немецкие военные доклады, приводит примеры коллаборационизма советских граждан. Большая их часть приходится именно на западные области БССР. Из этих примеров следует, что большая часть польского населения симпатизировала немецкому вторжению, воспринимая его как акт освобождения, а также возможность вернуть прежнюю собственность и влияние. Так, в Вилейской области местные поляки выдавали немцам партийных деятелей и комсомольцев[57]. Есть в источниках и информация о нападениях на активистов-«восточников», прибывших в 1939–1941 гг., о выдаче укрывавшихся красноармейцев, сотрудников НКВД. Об этих событиях на территории Пинской области рассказывал в своих воспоминаниях и их очевидец Алексей Жилевич. По его словам, поддержали оккупационные власти те, кто непосредственно или косвенно пострадал от репрессий. «Численно группа такого рода предателей была не велика, но очень опасна, поскольку она хорошо знала территорию и людей, а также их степень участия в прогрессивных и радикальных организациях. В состав группы, предоставлявшей свои услуги в пользу оккупанта, входили… бывшие старосты, рецидивисты, чиновники сельских управ, лесники, богатые крестьяне, осадники, полицейские, духовные люди (православные священники), управляющие имений и некоторые их владельцы.»[58]
Установить по таким сообщениям численность или процентное соотношение коллаборационистов по отношению ко всему населению не представляется возможным. Однако некоторые авторы для аргументации своей точки зрения используют более категоричные в этом отношении немецкие источники. Вот, например, сообщение главы Службы безопасности СС Генерал-губернаторства от 27 июня 1941 г.: «Польское население, проживающее в российской области интересов, повсеместно выражает радость от вступления немецких войск. В некоторых деревнях даже возводят триумфальные арки в честь немецких частей»[59]. Немецкой стороне действительно в первые недели войны могло показаться, что именно на недовольное польское население в западных регионах СССР и надо делать ставку. Один из организаторов польской подпольной группы в Лидском районе Барановичской области Станислав Санцевич в своих воспоминаниях указал, что оккупационные власти попытались реанимировать польско-белорусские национальные противоречия: «Немцы решили возобновить старые антагонизмы на восточных [польских] землях таким образом, что всю территориальную администрацию, включая полицейскую службу, вверили избранным личностям, принадлежащим к польской национальности… Таким образом, позанимали они положения бургомистров, войтов, комендантов полицейских подразделений и т. п., наставленные враждебно в отношении белорусов, которых отождествляли с коммунистами»[60]. Однако немцы не учли, что для тех же поляков они оставались врагами, вторгшимися на их Родину еще 1 сентября 1939 г. Поэтому о преданности и искренности побуждений речи в данном случае идти не могло. Как подтверждение, воспользовались ситуацией активисты польского подполья из Союза вооруженной борьбы[61]. Они специально засылали на службу к немцам своих людей, чтобы обладать информацией о перемещении немецких частей и планах оккупанта.
Открыто антисоветское отношение со стороны поляков западных областей БССР, безусловно, не было повсеместным. Известны и примеры укрытия отступающих красноармейцев, оказания помощи раненым со стороны польского населения. Тот же Станислав Санцевич описал, как лично укрывал и выхаживал в своем доме раненого советского офицера[62]. И это далеко не единичный случай. Историк Мечислав Юхневич в своем исследовании собрал множество примеров доброжелательного отношения поляков Белорусской ССР к отступающим красноармейцам и первым советским партизанским группам. Местные жители, невзирая на национальность, выступали в качестве проводников, прятали и лечили раненых бойцов, находили и передавали им оружие, а некоторые уже с лета 1941 г. участвовали в организации и работе подпольных антифашистских комитетов и групп[63].
Начало партизанской борьбы
В начале этого раздела зададим справедливый вопрос: а было ли готово советское руководство к развертыванию партизанской войны летом 1941 г.? На протяжении 1920–1930-х гг. тема формирования партизанских кадров на случай потенциальной войны действительно стояла на повестке дня. В Белорусской ССР даже были подготовлены шесть отрядов по регионам общей численностью свыше 2 тыс. человек. Возглавляли эти подразделения талантливые руководящие кадры. Например, одним из командиров был В.З. Корж, который в дальнейшем возглавил партизанское движение в Пинской области[64]. Однако в конце 1930-х гг. в СССР были пересмотрены военно-теоретические взгляды на ведение потенциальных боевых действий: в случае войны рассматривался быстрый перенос боевых действий на территорию врага. Западные области вошли в состав БССР осенью 1939 г., поэтому никаких партизанских курсов на этих территориях не проводилось. Хотя в некоторых регионах опыт партизанской борьбы был. Например, в той же Пинской области такую тактику местное белорусское население применяло в годы Первой мировой войны и в начале 1920-х гг. против польских властей[65].
Впервые в годы войны вопрос об организации партизанского движения на территории Советского Союза официально прозвучал в директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Она была адресована руководству партийных и советских организаций прифронтовых областей. В ней давались указания, как действовать во вражеском тылу на оккупированных территориях. Пункт № 5 директивы гласил: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для партизанской войны всюду и везде…»[66] 3 июля 1941 г. председатель Государственного Комитета Обороны И.В. Сталин выступил по радио с обращением к советским гражданам, где лично призвал их выполнить положения из директивы от 29 июня[67]. Спустя 15 дней вышло специальное постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск», где уже более конкретно говорилось о том, кто и как должен формировать партизанские подразделения в тылу врага: «Немедля организовать боевые дружины и диверсионные группы из числа участников гражданской войны и из тех товарищей, которые уже проявили себя в истребительных батальонах, в отрядах народного ополчения, а также из работников НКВД, НКГБ и других»[68].
Для Белорусской ССР, оказавшейся в оккупации в первые две недели войны, сигналом к действию стала директива № 2 республиканского ЦК по развертыванию партизанской войны в тылу врага от 1 июля 1941 г., где были хоть и расплывчато, но указаны задачи партизан[69].
Поэтому на местах, особенно в западных областях БССР, в начале июля 1941 г. был дан старт организации партизанских отрядов, но работа эта шла не так активно, как того хотели в столице. Достаточно правдиво выглядит описание этого процесса из уст Эдуарда Нордмана, в то время одного из руководителей комсомольской организации Пинской области. Следуя партийным указаниям, в этом регионе 6 июля 1941 г. был создан подпольный обком, сформированы 17 партизанских отрядов. К ноябрю 1941 г. из них остался только один под командованием В.З. Коржа. К этому времени немцами уничтожен был и подпольный обком[70]. Этот пример характеризует общую ситуацию по республике. Причины неудач развития партизанского движения лежат на поверхности: отсутствовали подготовленные базы с запасами оружия и провианта, не хватало связи между отрядами, не было координирующего центра и, наконец, у большинства отрядов и групп отсутствовал опыт борьбы в тылу врага. Не стоит недооценивать и действия немцев, которые бросали против партизан крупные вооруженные силы, а также враждебную позицию части местного населения. До завершения Московской битвы у значительной части общества, находившегося в оккупации далеко от линии фронта, не было уверенности в том, что есть шанс на победу, они жили в постоянном стрессе, а единственной задачей для них было выживание и спасение жизней своих близких. Партизанская деятельность была слишком рискованным и опасным занятием. Это подтверждал и опыт первых советских партизанских подразделений. Они формировались из партийных и комсомольских активистов, а также бойцов добровольческих истребительных батальонов, «окруженцев» и других отбившихся от своих подразделений красноармейцев[71].


