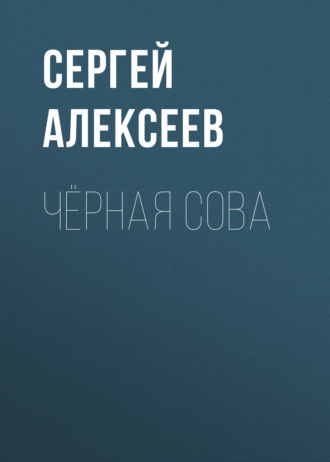
Сергей Алексеев
Чёрная сова
– Ты что так глядишь? – спросил напарника, провожая взглядом джип. – Какая женщина!… Ведь кто-то спит с такими…
– Я даже знаю, кто. – угрюмо выдавил Сева. – Местный шаман.
– Шаман?! – изумился Терехов. – Алтайский, что ли?
– Нет, вроде, наш. Это его вторая жена, зовут, Лагута. Недавно, говорят, третью взял себе…
Кружилин всегда знал на много больше, чем говорил, но тут вовсе ошарашил информацией и кроме того, подтвердил догадку о своей необъяснимой скрытности. Допытываться о чем-либо у Севы было занятием бесполезным.
Через несколько дней от его жалоб и нытья спасу не стало. Из-за своих болячек в очередной раз отстал и чуть не потерялся, проблудив где-то полдня и всю ночь. Заплутать геодезисту на открытом пространстве, с десятками ориентиров – стыд и срам, но сам признался, мол, леший водил.
– Может, не леший – лешачиха? – с намеком спросил Терехов.
Однажды из благородных побуждений он хотел спасти кришнаитку, обнаружив ее будто бы в состоянии глубокой медитации, то есть, без сознания, нарвался на скандал и после этого всех туристов женского пола обходил стороной. Поэтому, возможно, он и набычился, когда его ощупывала профессиональная медсестра и шаманская жена.
Подобные казусы с Севой случались регулярно, за что он потом страдал, клялся, что будет осторожнее, и опять куда-нибудь попадал. Терехов считал, что судьба его выбрала для собственной изощренной потехи, издеваясь над математическим талантом и подсовывая неразрешимые задачи.
Проблудив ночь, Сева едва приволокся с гнедым в поводу рано утром, но на удивление не ворчал, однако же заявил, что больше в жизни верхом не сядет. Пешком ходить он тоже не хотел и после не долгих раздумий выдал условие: вот если Терехов возьмет себе гнедого, а ему отдаст кобылицу, то он попробует еще раз. У Андрея к концу дня тоже болел шейный позвонок, однако застарелая эта боль давно стала привычной, иногда по утрам вставал с ней и ходил, по определению туриста, как свинья и в самом деле не видел неба. Пришлось отдать серую в яблоках, которая рысила мягко, иноходью, но Севе все равно скачка разбивала суставы. Поездив пару дней, он снова где-то проблудил ночь, и на утро опять стал плакаться. На его счастье в тот день вечером лошади сорвались в бега.
Каждый обихаживал свою конягу сам, а тут пока Терехов разжигал паяльную лампу, на которой готовили пищу, Сева вызвался расседлать и стреножить обоих скакунов. В эту ночь они и сбежали, неведомым образом освободившись от крепчайших пут из конского волоса. Напарник как-то навязчиво клялся и божился, что спутал хорошо, и отпускать коней у него и в мыслях не было. Серую кобылицу после не долгих розысков все же удалось найти и приманить сухарем с сахаром, за которым она бегал, как наркоман за героином. Гнедой жеребец не давался, невидимый бродил по округе и окликал свою привязанную на длинном скалолазном тросе, подругу.
Недели две геодезисты завьючивали ее и перевозили груз, поскольку менять стоянки приходилось чуть ли не каждый день, дабы сократить долгие пешие переходы и уберечься от случайных гостей, которые воровали дрова и все, что плохо лежит. Так что лагерь разбивали в пределах прямой видимости от объектов работы. А самым тяжелым предметом был вьючный ящик с документацией, где находился еще и походный сейф с секретными материалами, выданными опасливыми учеными под расписку.
Однако Сева опять отличился: привязал кобылицу за камень – на плато ни единого деревца! – и серая тоже сорвалась в бега вместе с седлом и притороченной к нему, сумкой, где помимо прочих вещей лежал единственный лазерный инструмент – дальномер. У Терехова не нашлось сил даже отругать его, только руками разводил, глядя на болезненного напарника. Мало того, что теперь таскали на себе тяжелый вьючник и весь скарб, еще ходили с чувством вины и материальной ответственности: за лошадей расписались в накладной "сдал – принял". А из-за потери дальномера с рулеткой бегали! Академия требовала привязку чуть ли не до сантиметра.
Тут еще Сева окончательно разболелся и слег…
На счастье геодезистов наконец-то вышел из отпуска Репей – начальник заставы Репьев, которого ждали всю экспедицию. Они с Тереховым друзьями никогда не были, но кроме того, что вместе учились в Голицинском погранучилище, этот человек по случайному стечению обстоятельств, сам того не ведая, сыграл значительную и неприятную роль в судьбе Андрея. Андрей, был на курс помладше, однако хорошо Жору Репьева знал, поскольку они оба пришли после срочной, сержантами, а таких курсантов сразу же назначали старшинами учебных рот. Тем паче, Жора уже был гордостью училища, висел на Доске Почета и его старательность в учебе приводилась, как пример.
Жорину фамилию и портрет Терехов узрел на Доске Почета в Кош-Агачской комендатуре и сначала немного ошалел: как так, до сей поры еще капитан, начальник заставы, когда уже в генералах ходить должен? Да тот ли это Репьев, с которым однажды встречали Новый год в подмосковном городке, в компании ткачих ковров? Всмотрелся в фотографию, вроде, тот, но какой-то взъерошенный, помятый, словно стоит на холоде и щурится от ветра.
Потом обрадовался – хоть с погранцами не будет проблем! А то в Академии предупреждали, что они отслеживают каждое передвижение ученых и создают много хлопот. Когда археологи здесь работали, то случайно залезли сначала в Китайскую запретную зону, потом в Монгольскую, и был приказ коменданта держать их на коротком поводке, дескать, там минные поля не убраны со времен противостояния с Китаем.
Но оказалось, Репей буквально за сутки раньше отбыл в отпуск и пребывает где-то в Краснодарском крае, будто строит там себе коттедж и будто ждет перевода на юг. Видно, у лучшего курсанта служба не задалась или сам не хотел продвигаться в старшие офицеры, дабы не удлинять срок выслуги и не отодвигать пенсию. В комендатуре народ был не словоохотливый, подозревающий, и почти никак не отреагировал на знакомство приезжего "ученого" с капитаном Репьевым и на то, что они однокашники. Для них вся Академия была туповатыми и нагловатыми "профессорами", которые не ходили строем, а залезли на плато, вытащили из могилы исколотую бабу и теперь сюда прет поток всяких туристов, полудурков, иностранцев со всех концов света – одна головная боль! Так бы служили себе тихо, мирно.
Ко всему прочему, Андрей случайно услышал разговор офицеров: как только Жора уехал в отпуск, с его заставы привезли солдата-срочника с сильнейшим алкогольным отравлением и чуть ли не белой горячкой. То есть, по всей вероятности, в хозяйстве некогда лучшего старшины учебной роты пьянствовали даже срочники. Кот из дома – мыши в пляс…
Репей заступил на службу в то время, как заболел напарник Сева. На Терехова начальник заставы сначала смотрел, как на пустое место, будто никак вспомнить не мог. В самом деле размышлял, узнать и выдавить из себя радость или не узнать, сослаться на забывчивость и сразу же отвадить холодным приемом. Но это было в порядке вещей: Жора Репьев еще в училище изображал из себя начальника и стремился всегда быть лучше всех. Впрочем, он и был лучше всех, красный диплом получил с правом свободного выбора места службы. Но при всем этом Репья в училище уважали, поскольку все видели, какими неимоверными трудами ему дается и физподготовка, и учеба, и общественная деятельность: Жора еще был комсомольским вожаком. А родной курс, на котором он старшинствовал, в буквальном смысле выл от его требовательности, за что и получил прозвище Репей. Он вставал до подъема и мастерил свое тело, таская тонны железа на самодельных качалках. В перерывах все бежали курить и дурака валять – Жора подходил к снарядам, сидел за учебниками, художественными книжками или рисовал стенгазету. У него было пристрастие к живописи. И когда комсомол тихо прикрыли вслед за партией, билета не выбросил, публично не отрекался и потому с молчаливого согласия продолжал верховодить в училищной молодежной среде. Командиры и преподаватели оценивали трудолюбие, пророчили большое будущее, мол, генералов видно уже в курсантских погонах…
Отглаженность и подтянутость у него сохранились с тех еще времен, однако физиономия была заметно помята. набрякли мешки под глазами и взгляд потускнел. Обычно Репей радушно принимал равных себе или тех, кто был на порядок ниже его по положению. Терехов всегда был ниже, тем паче, сейчас, после трех недель работы на плато зарос бородой, и похоже, его вид вводил в заблуждение.
– Так ты что, не служишь? – недоуменно спросил Жора, тем самым признавая Терехова.
– После выпуска попал под сокращение. – признался тот. – Всех троечников списали в запас.
Репей вроде бы даже обрадовался и насторожился одновременно:
– А как в археологи попал? В ученые?
– Да я не ученый. – испытывая тягостное чувство от такой встречи, проговорил Терехов. – Топограф. Еще до армии техникум закончил… Ну ты же помнишь, в училище занимался спортивным ориентированием? На марш-бросках курс водил, когда по лесам бегали. Вы блудили, а мы все время выходили в точку…
– Такого не помню. – зачем-то соврал Репей. – А вот как ты пел на сцене в клубе – помню. Оперный голос! Вокруг вертелись все женщины… И еще на пианино играл.
Он врал и даже угодить хотел: все самые лучшие женщины вертелись всегда возле облитого мышцами, Репьева.
– На рояле. – поправил Терехов. – У нас в училище рояль был, белый "Стенвей".
– Все равно… Тебе же пророчили консерваторию? И погоняло давали – Шаляпин!
– Не приросло погоняло…
– Сейчас не поешь?
– Если только за рулем, когда спать хочется.
– Мог бы служить, мог бы петь… А ты с теодолитом по горам?…
– Так получилось…
В голосе его послышалась зависть, сбившая с толку: Жора не знал, что еще спросить и что вспомнить, поэтому заскучал и сказал:
– Пошли, выпьем, что ли. Я краснодарского домашнего привез… Можно и водочки накатить по такому случаю.
А прежде даже от шампанского отказывался. За всю учебу в погранучилище был только один случай, когда однокашник напился и они тогда чуть не стали друзьями. Если точнее, родственниками, свояками. На новогодние праздники курсантов отпустили в увольнение и все старшины рот поехали в гости к родителю одного из них, который жил в подмосковном ковроткаческом городке и был в то время известным писателем. Цель была благородная – получить автографы, поэтому все купили книжки, однако опоздали на электричку. Это не смутило, совершили марш-бросок в одиннадцать километров, и потные, промороженные насквозь, едва поспели к полуночи. Гостеприимный писатель самолично преподнес каждому курсанту по стакану самогона, а потом сверху придавили новогодним шампанским и потянуло на подвиги.
В то время они уже хорошо знали три предмета – бегать, танцевать и драться. Старшины потанцевали с ткачихами в клубе, где Терехов не сходил со сцены и пел под бурные аплодисменты, потом сидели за столом и снова танцевали. Но наехала ватага каких-то залетных, требующих отдать половину девушек. А среди них было две сестрицы-близняшки, красоты редкостной, вокруг которых увивался Репьев, не зная, которую выбрать. Курсанты не уступили ни одной, даже самой не востребованной девушки, дружно разогнали эту банду, потом еще потанцевали и еще раз подрались, когда те явились с подкреплением и цепями. Опрокинули их машины и гнали до какой-то незамерзающей речки, где разбойники спаслись в воде. Этим они окончательно покорили местных невест, особенно блондинистых близняшек, которые поили курсантов шампанским и объяснялись в любви.
Терехов отлично помнил, что они с Репьем их и выбрали, а далее все было, как в тумане. Проснулись они одновременно, в одной комнате, в постелях с этими самыми совершенно одинаковыми сестрицами, имена которых даже не помнили, точнее, путали. И услышали голоса родителей, обсуждавших на кухне предстоящую общую свадьбу, мол, расходов меньше, а какие женихи – будущие офицеры! Правда, тоже путали имена, который и какой дочке достался. Терехов с похмелья не страдал, но с ужасом думал, что теперь придется жениться и рассматривал спящую девицу. А она была ничего, даже утром продолжала нравиться. Но Репьев не стал дожидаться когда проснуться невесты, на правах старшего шепотом отдал команду "делай, как я!", схватил свою одежду, растворил окно и выпрыгнул. Терехов выполнил команду не раздумывая, и только приземлившись в снег, стал считать этажи.
– Помнишь, как мы с тобой встречали новый год? – с ностальгией спросил Андрей, когда раскупорили оплетенную бутыль и молча пропустили по стакану.
Репьев не захотел гусарских воспоминаний, единственный раз их сблизивший.
– Как же, помню. – не глядя буркнул он. – Кажется, был четвертый этаж.
– Третий. – поправил Терехов.
И вдруг понял, отчего так мрачен некогда лучший курсант, гусар и великий трудяга. Репью сейчас более всего не хотелось признавать собственное поражение по всем статьям и выглядеть убогим вечным капитаном на захудалой алтайской заставе. Поддержать или даже приподнять его дух можно было не воспоминаниями, а единственным способом – самому стать жалким и немощным, чтобы однокашник почувствовал себя нужным, полезным и энергичным.
– У меня напарник заболел. – просительно сказал Терехов. – Помоги отправить в больницу.
– Это можно. – слегка вдохновился Жора и вызвал дежурного по заставе. – А что с напарником?
– Не знаю, головные боли, озноб, сухость во рту. Думает, от верховой езды. Сначала хребет заболел…
– Такая болезнь тут бывает. Похмельный синдром называется…
– Да мы на сухом законе. – возмутился Терехов, – У нас и жратва кончилась.
– Значит, наркотическая ломка. – спокойно заключил начальник заставы. – Симптомы очень знакомые.
Севу Кружилина и в самом деле трясла лихорадка. поэтому упаковали в спальный мешок, загрузили в раздолбанный командирский "Уаз" и повезли в Кош-Агач.
Догадка оказалась верной: роль зависимого просителя Репьева возвеличивала. Он воспрял, сам предложил несколько коробок армейских сухих пайков и два старых солдатских матраца: спать на тонкой подстилке становилось холодно. Далее великодушие однокашника начало иссякать. Он со скрипом согласился дать три охапки колотых дров и раз в три дня заворачивать к лагерю "ученых", дабы его перебазировать на новую точку – ссылался на старую технику. Мол, существование его заставы под большим вопросом, поэтому ни машин, ни нового вооружения. Командирский "Уаз" и в самом деле ходил лишь до комендатуры, зато дизельные "Уралы" ползали по всему плато в любую погоду. На территории заставы стоял армейский кунг с печкой, на колесах и замком на двери, но о его заимствовании на время Жора и слышать не захотел, обрекая однокашника на палаточное существование. Впрочем, как и отпустить хотя бы одного солдата, чтоб таскал рейку и мерную ленту, мол, строгий контроль за личным составом. Напишет матери, что продали в рабство – греха не оберешься, до пенсии не дослужишь. А вот отловить сбежавших коней, если они не ушли за кордон, Репей вызвался сам, потому как у него конюхом служил один алтаец-контрактник, перед которым эти животные будто бы на колени становились. И сам Репьев в училище числился лучшим наездником, его верховой портрет висел в седельном отделении конюшни.
– У нас тоже жеребец пропадал. – признался Жора. – Гнедой красавец, чистых кровей.
– И у меня гнедой, почти вороной. – загоревал Терехов. – И тоже чистокровный…
– Ничего, поймаем! Мой три года отсутствовал, уже списали. Думали, заграницу подался или казахи угнали, на племя. А когда Мундусова на службу взяли – нашел и привел. Духи, говорит, к себе забирали и вернули… Так что ты смотри, с духами осторожнее! И не потребляй с ними лишнего. А то опять прыгать придется или отваживать!
– Духи, это кто?
– Алтайцы!
Как позже выяснилось, относительного Севиной болезни он оказался прав, поставили острый похмельный синдром, подержали на капельнице, однако на всякий случай переправили в Горно-Алтайск. Оттуда пришло сообщение – у Севы сильнейшая наркотическая ломка! И тогда Сева Кружилин уже сам поехал в Новосибирск, сдаваться настоящим докторам, ибо с диагнозом был решительно не согласен. И особенно с предложением подписать бумаги о добровольном лечении от наркозависимости.
В общем, отношения с заставой у Терехова худо бедно наладились. Репей даже сам однажды приехал в гости, посмотрел на полевое житье-бытье однокашника, побродил по окрестностям и неожиданно пообещал в следующий раз притащить кунг – должно быть, проникся суровой судьбой топографа. "Урал" и в самом деле на точку завернул, но без кунга. Водитель перебазировал лагерь, выкинул на землю охапку дров и уехал, пообещав, что через три дня заедет снова.
А на утро Андрей обнаружил замерзающего туриста на "месте силы" и с похожим синдромом.
3
Вид и симптомы у найденного туриста были очень похожи, хотя этот не ездил верхом, сам вроде бы занимался лекарством, правил суставы, считал себя вегетарианцем, жизнь которых исключала наркотики. Но Терехов уловил сходство в поведении и том бреде, что нес несчастный костоправ. Когда Сева проблудил всю ночь и днем отсыпался, то начал говорить во сне, причем, весьма поэтично. Андрей не услышал всей складной истории, но некоторые фразы уловил и запомнил: напарник вещал о некой черной сове, что живет в каменной башне или на вершине некой горы. По ночам она вылетает из своего убежища и бесшумно реет над Укоком. Из-за своего цвета она почти невидима, и узреть ее можно лишь на фоне неба, когда крылья накрывают луну и звезды. А еще у совы есть лук, она стреляет отравленными стрелами, после чего уносит добычу к себе в башню. Терехов тогда особого внимания не обратил, решил, что Сева услышал где-то алтайский фольклор и теперь, под воздействием сильных переживаний и болезни бредит во сне.
Турист тоже плел какие-то небылицы про каменную башню, но жила там будто бы не сова – женщина по имени Ланда.
По закону подлости Терехов забрался на южную окраину плато, в верховье Ак-Алаха, где ждать оказии было бессмысленно, а ночевать в тесной палатке, да еще без спального мешка, невозможно. Проще было совершить марш-бросок до заставы, к утру вернуться на машине и сдать туриста наряду, пока он тут не окочурился. Вдвоем с Севой они спокойно помещались в одноместной палатке вместе с рюкзаками и инструментом, а этот объемный гость оккупировал не только спальник и солдатские матрацы, но и развалился посередине узкой полосы незанятого скарбом, пола, вертелся, елозил, опять молол какую-то чушь про "порталы", спорил с учителем Мешковым и звал теперь уже не Ланду, а некую черную сову по имени Алеф. Звал поэтично и с любовью, но от одной этой совы становилось жутковато. Не то, что уснуть, сидеть рядом муторно, да еще и резкий, обвальный дождь застучал по крыше. Похмелье искателя чудес проявлялось все больше, похоже, туриста мучили головные боли, отчего он скулил, зажимая виски, тыкался по углам и на зов не отвечал.
Терехов послушал эти пугающие звуки на фоне дождя, мысленно обложил гостя, но при этом не испытывая злости к нему: просто не хотелось в такую пору выходить на улицу. Взвесил нравственную причину – как-то неловко выдавать приблудного властям, коих он боится, однако мысль за нее не зацепилась. Как не прикидывал, но его состояние такое, что лучше передать погранцам. Тем паче, травоядный турист вроде скулить переставал, но и дышал как-то через раз. Такого у Севы не было, а этот, возможно, и в самом деле вышел из запоя и теперь схватил "белочку". Жаждущие обрести чудесную силу на плато не брезговали земными снадобьями, иногда по целой ночи пили водку, а иные и вовсе привозили с собой и жрали мухоморы, чтобы "просветлить" восприятие. Не исключено, и этот чем-нибудь просветлился.
Терехов пощупал пульс, потрогал вспотевший лоб, кажется, все нормально…
Когда совсем свечерело и дождь кончился, он с тоской достал из мешка армейскую прорезиненную химзащиту. По укокскому климату августа лучше одежды не придумать, к тому же, едва расстегнув палатку, чуть не захлебнулся от косого снежного заряда. Пока бежишь до заставы, а это верст двадцать, погода сменится еще несколько раз, и не в лучшую сторону как всегда…
Он выбрался наружу и сквозь ветер отчетливо услышал голос лошади – очень знакомый, с подвывом: так ржала серая, в яблоках. И в тот час промелькнула мысль: поймать, благо что узда и седло остались, и хоть шагом, но отвезти туриста на заставу. Кобыла крепкая, двоих выдержит, если что, привязать его поперек седла и в повод… Рассмотреть что-либо в белой, сумеречной круговерти было невозможно, однако кобылица стояла где-то близко и словно поддразнивала, звала, ритмично и почти беспрерывно, как заведенная. Терехов прихватил галеты, сахар, нашел узду и сразу спрятал запазуху.
Ипподромовские кони оказались умными и вольнолюбивыми: заседланные и с удилами в пасти вроде диковатые, но сними упряжь, сами к рукам лезут, даже мордами о плечо потереться норовят, особенно если у тебя сухарь или галета. Брать за чуб не даются, скалятся и уши прижимают, а только покажись с веревкой или уздой – близко не подойдешь!
Терехов пошел против ветра, на ржание, и чуть только не натолкнулся грудью на конский круп: попробуй, разгляди в вечерний снегопад серую лошадь в яблоках! Это что гнедую ночью или черную сову в потьмах… Кобылица стояла в двадцати шагах от палатки, так же головой против ветра, и кого-то звала из вечерней снежной мглы. Стояла, как вкопанная! Опасаясь спугнуть, он осторожно обошел ее сбоку, приготовил галеты и внезапно увидел узду на морде. Спущенный к земле, повод, вероятно, зацепился за припорошенные снегом, камни. Удача была редкостная, туристу во второй раз повезло! В первый миг Андрей даже не подумал, откуда взялась узда, если серая сбежала голенькой, но когда склонился, чтобы выдернуть зажатый повод, понял, что кобылица привязана за торчащий из земли, камень. Причем не на петельку, как шнурки на ботинках – на удавку, как вяжут алтайцы.
Он отвязал лошадь, намотал повод на руку.
– Попалась, тварь гулящая…
Ругнулся беззлобно, радостно, а сам непроизвольно и настороженно поозирался. Кобылица не обращала внимания даже на сахар, все еще тянулась против ветра и призывно ржала. Кто-то привел ее сюда, привязал и сам скромно удалился, скрылся в непогоди – видимость и десятка метров нет. И все же Терехов крикнул во мглу:
– Эй!?… Спасибо!
В такую пору в южной стороне Укока мог быть только конный наряд пограничников. Скорее всего, конюх-алтаец с заставы: никто другой бы одичавшую серую не поймал. А может и сам Репьев, поскольку он имел привычку лично проверять пограничные наряды, в одиночку разъезжая верхом на лошади. Однажды в сумерках рядом с палаткой проскакал в сторону монгольской границы и даже не остановился. В другой раз ночью пролетел по дороге мимо – Терехов едва отскочить успел, и узнал Жору по пограничной фуражке старого образца, с которой он не расставался. А было как раз полнолуние, на плато хоть иголки собирай, явно видел человека на дороге. Андрей фонариком еще светил, кричал вслед – начальник заставы унесся, как угорелый.
И сейчас Терехов спохватился, закричал:
– Стой! Погоди! Я вам нарушителя поймал! Заберите!
Взнуздал кобылицу и вскочил верхом. И порадовался, что серая на рыси идет иноходью: скакать без седла, да еще в скользких прорезиненных штанах, было опасно, отвыкшая лошадь порскала в стороны, норовя сбросить всадника и не хотела переходить в галоп. Андрей нахватался адреналину, кое-как проехал с полкилометра, когда снежный заряд опал, сразу же посветлело, и оказалось, не такой уж и поздний вечер. На видимом горизонте не было ни машин, ни пеших, ни конных. И следов тоже никаких: вероятно, лошадь привели и привязали еще до метели, в дождь…
Обратно он возвращался пешком, а поскольку не нашел, за что привязать кобылицу, то повода из рук не выпускал. Первым делом заседлал ее, потом растолкал уснувшего туриста.
– Вылазь, поехали!
Тот показался каким-то умиротворенным, почти нормальным, если бы не сказал безумной фразы:
– Лунной ночью ко мне прилетала черная сова. – вдруг заплакал и добавил сдавленно. – Она посадила меня на своего единорога и свезла в подземные чертоги!
– Ну и что? Как там?
– Я только в окна посмотрел. – признался турист. – Там есть окна, в параллельный мир… Я только заглянул!
– Лучше бы ты исчез в этом мире! – ругнулся Терехов. – Я бы с тобой сейчас не возился…
– Она не пустила! Велела уезжать…
– Правильно велела. – Андрей вытащил его из палатки и поставил на ноги. – Если ты на единороге ездил – на простом коне усидишь. Верхом когда-нибудь катался?
– В детстве, на пони… – подавляя всхлипы, признался он. – Но очень хочу научится… Ланда так здорово скачет на лошади!… Черная сова Алеф Мешкова на аркан взяла, а меня свела! Теперь я знаю, подземный мир существует!
Терехов опять вспомнил Севу, но пропустил этот бред мимо ушей.
– Вперед, казак!
– А мы куда едем?
– К Ланде. – наобум сказал Терехов. – А ты куда хочешь? К черной сове Алеф? Давай обувайся и в седло!
Турист увял, однако стал бестолково пихать ноги в мокрые ботинки. Похоже, еда и краткий сон немного восстановили рассудок, по крайней мере, понимал, где находится.
– Алеф затворила к себе дорогу. – тоскливо проговорил он. – Ущелье сошлось, река ушла в земные глубины. Мне ее не найти… Кстати, вам нужно ставить атлант. Вы чувствуете, как ваша голова сидит на шее?
– Нормально сидит, как у гуся! Главное, чтоб ты на коне усидел.
– Могу вам поставить! Я профессиональный костоправ.
– Если сейчас же не обуешься, я тебе сам кости вправлю, – беззлобно пригрозил Терехов.
– Тошнит и голова кружится. – пожаловался тот. – Вестибулярный аппарат…
– Пить меньше надо! – отрезал Андрей. – Шевелись, давай!
– Мы не пили! – чего-то испугался турист. – Точнее, я не пил… Между прочим, алкоголь, это яд. От мяса тошнит. Зачем ты дал мне консервированный труп? Черная сова Алеф запретила даже прикасаться к мертвечине!
– Чтоб сам не стал мертвецом. Одевайся живее, костоправ! Пока я тебе атланта не поставил.
– Ты меня отвези в Аршаты. – вдруг попросил травоядный. – Дальше я сам доберусь.
Селение Аршаты было на территории Казахстана…
– А ты сам откуда?
– Вообще-то из Астаны…
Граница с Казахстаном охранялась условно, а в горах и вовсе была даже не обозначена. Карт сопредельной территории не было, тащиться наугад, бездорожьем, да еще ночью – безумие. Турист наконец-то встал на ноги, натянул теплую куртку Севы Кружилина и осмотревшись, капризно надулся:
– Где мой единорог?… На этом коне не поеду!
– А куда ты денешься?
Кое-как запихав вегетарианца на круп танцующей кобылицы, Терехов сел в седло и они наконец-то поехали. Лошадь почуял и солидный груз на спине, и жесткую руку наездника, смиренно и тяжело пошла крупным шагом, только все еще озиралась и тихонько кого-то звала. Турист вцепился в заднюю луку седла и первые сотни метров мотылялся сзади, как мешок. Показалось, езда вытряхивала из него остатки дури, и выяснилось, он не плохо ориентируется на местности, поскольку начал спрашивать, почему едут на север, когда надо в Казахстан, на юг. Соображал, откуда дует ветер! Потом вдруг засмеялся и сообщил доверительно:
– Если на заставу едем, мне все равно ничего не будет! Деньги-то я спрятал! С меня взять нечего! Так что лучше в Аршаты. Там с тобой рассчитаюсь. Двести баксов дам и атлант вправлю.
Андрей принял это за бред и резко его осадил, приказал держаться крепче и не крутить головой, иначе мол, ссажу и топай пешим. Тут еще на благо Терехова, вегетарианца начало мутить, он закряхтел, заперхал горлом, норовя блевануть прямо на спину и получив тычка локтем, надолго успокоился.
Кобылица сама переходила то на рысь, то на шаг, дышала тяжеловато, однако все-таки везла. Снегу выпало на вершок и таять он не собирался, ледяной северный ветер гнал поземку, можно было очень легко перескочить дорогу. Пассажира все же вытошнило, пришлось остановиться, отчистить бок лошади и дать туристу снежный ком, чтоб закусил. Следить за направлением он уже был не в состоянии, жалобно скулил и опять понес бред про Ланду, которая будто бы скачет у них по пятам и надо от нее оторваться. Иначе, мол, обоим будет кирдык, поскольку черная сова стреляет из лука отравленными стрелами.
За час они одолели примерно половину пути, и подморенная серая выдохлась, начала останавливаться, с морды падала пена. Терехов спешился, пересадил туриста в седло, вставил ноги в стремена.
– Только держись крепче! – приказал, встряхивая безвольное, грузное тело. – Навернешься – каюк атланту!
Турист на окрики еще реагировал, вцепился в луку обеими руками, а Терехов взял кобылицу в повод и побежал. Наезженные грузовиками, колеи он в буквальном смысле узрел ступнями ног: был бы верхом – проскочил. Бежать по дороге было легче, чем по прибитой снегом, траве, болотистым участкам и каменным высыпкам, пассажир тоже, вроде бы приноровился к ритму, а облегчившуюся серую и вовсе приходилось переводить на шаг. Она словно чуяла близость заставы и шла теперь крупной рысью.
Подготовка, полученная в погранучилище на бесконечных марш-бросках по пересеченной местности, в ночное время и с ориентированием, пригодилась, когда в начале девяностых после выпуска Терехов оказался в запасе, а на работу брали разве что в бандитские охранные структуры. А он все же надеялся вернуться в погранвойска, полагал, что дело в государстве поправиться, офицеров вновь призовут на службу, поэтому не хотел пачкаться в криминальных ЧОПах. Была возможность поступить в консерваторию, поскольку природа наградила идеальным музыкальным слухом и неплохим голосом, но учиться больше не хотелось, да и уже первый сын Егор родился, семью надо было кормить. Вот тогда и достал почти забытый диплом топографа, легко устроился в одну из дочерних фирм Газпрома, думал, временно, на год-другой. Работать пришлось вахтовым методом, на Ямале, и в условиях, о которых мечтал с юности – в полевых экспедициях. Геодезиста, как волка, кормили ноги и выносливость: прежде чем прокладывать газопроводные нитки от скважин к насосным станциям, надо было прощупать подошвами многие сотни километров болотистой тундры. И он делал это с удовольствием: физические нагрузки неожиданным образом создавали радостное ощущение наличия души в теле.
И Терехов так втянулся в новую старую профессию, что спустя шесть лет, когда его вызвали в военкомат и предложили вернуться в вооруженные силы, он словно о барьер запнулся. Оказался не готов начинать другую, некогда желанную судьбу, да еще с лейтенантов, когда походная, экспедиционная, уже определилась и вросла в образ жизни. В армии это опять командиры, начальники, приказы и полное подчинение, когда тут воля вольная, особенно если ты уже доказал, что можешь работать самостоятельно, качественно – вообще никакого надзора! И зарплата со всеми надбавками на два порядка выше, чем офицерская: когда с женой разошелся, за три года квартиру купил в центре Новосибирска.







