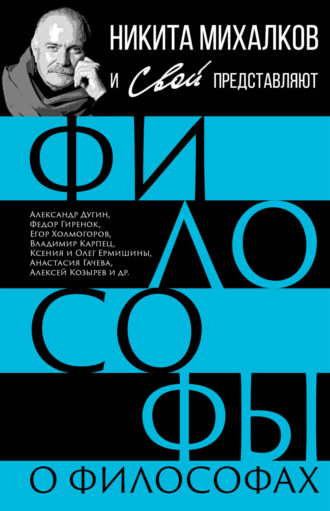
Сборник
Философы о философах
Герои против торгашей
Александр Дугин о Николае Бердяеве

Николай Александрович Бердяев
Бердяева можно назвать «философом замечаний». Опыты философии удавались ему в качестве отдельных самостоятельных фрагментов. Пытаясь превратить их в какую-то систему, он, как правило, сталкивался с неудачей. Но это не принципиально.
Некоторые философские системы, поначалу казавшиеся полноценными, развитыми (например, антология Лотце, труды неокантианцев), обернулись, по сути, содержательно пустыми тысячами страниц. А философы замечаний, афоризмов, фрагментов – скажем, Ницше – наоборот, до сих пор азартно исследуются. И в том, что Бердяев относится именно к этой категории, нет для него ничего уничижительного. Его надо правильно воспринимать – чтобы правильно понимать.
Особенности национальной свободы
Бердяев – философ свободы. И в этом смысле на него основательно повлиял Шеллинг. Точнее – трактат о человеческой свободе, о значении выбора суверенной человеческой личности.
В знаменитом эссе Батая «Суверенный человек Сада» показан европейский путь реализации свободы – как абсолютной вседозволенности. Этот путь характерен превращением человека в гиперсубъекта, который утверждается за счет того, что все остальные становятся гиперобъектами. Предметами, всецело покорными любым, пусть даже самым извращенным, поползновениям. Западноевропейская свобода абсолютизирует эго путем фундаментальной объективации всех остальных.
Свобода Бердяева совершенно иная. Мыслится одновременно и в шеллингианском смысле, и в православном контексте, а также в духе софиологии Владимира Соловьева.
Самое главное – это фундаментальное представление о человеке. Тот реализует свое, человеческое достоинство, делая выбор, абсолютно зависящий от его воли.
Свобода же заканчивается там, где наступает момент совершения выбора.
Выбирая между добром и злом, не имея никаких ограничений в структуре этого выбора, индивид впервые становится человеком, реализует себя как человек. Отнимите у него свободу, и вы лишите его человеческой природы, судьбы, превратите в механизм или животное.
Представление о человеческой свободе подразумевает согласие (или разногласие) с Богом в ситуации обретения важнейшей, основополагающей возможности – творить. Но Бог – абсолютный творец, а человек – субъект, обретающий право выбора.
Свобода – изначально божественное свойство. Человеческая свобода не тождественна божественной, однако тесно связана с божественным промыслом. Представляет собой, по сути, его зеркальное отражение.
Свобода человека в софийном, православном понимании не ведет к подавлению других людей. Она реализуется в высшем творчестве. И в высшем риске быть человеком. Вот это – очень русская черта философии свободы.
Это замечание Бердяева требует дальнейшего развития, осмысления. Является весьма необычной, далеко не само собой разумеющейся, глубинно-мистической, русской, православной интуицией. Очень нужной нам сегодня для построения философского русского Логоса.
Свобода есть риск перед лицом смерти. В этом ее экзистенциальное измерение. Однако Логоса без взгляда глаза в глаза со Смертью не обнаружишь.
Коммунизм непонятый
Второе важное замечание Бердяева – идея о религиозном смысле русского коммунизма.
Мы живем последние столетия в секулярном мире. Этот мир, не признающий религии в качестве социально-политической догмы и базовой установки, на Западе и на Востоке принципиально различен. Ибо секуляризации подвергаются разные религиозные модели, включающие в себя и политику, и антропологию, и онтологию, и представление о нормативном обществе, и все остальное.
Представление католичества о церкви включает в нее только клир, священников. Секуляризация католической теологии порождает политическую систему, в которой секулярным аналогом клира является государственный аппарат. Отождествление церкви с клиром, священством дает нам адекватное представление о государстве, воплощенном в его государственном аппарате. В какой-то мере это отражается на всей западноевропейской политической культуре Нового времени.
Вторая модель – протестантская. Церковь как некое искусственное творение верующих, которые сходятся в рациональном толковании священных текстов. Совокупность индивидуумов, понимающих или толкующих Священное Писание примерно одинаково. То есть секта, деноминация. Кстати, в протестантском контексте слово «секта» не имеет негативного значения. Такие церкви сами охотно называют себя «сектами». Разные люди с собственными, индивидуальными взглядами соглашаются между собой на создание более или менее устраивающей всех коллективной инстанции – это и есть «церковь» для протестантов.
Продукт секуляризации протестантизма – современное гражданское общество с его представлениями о либеральной политике. Та, в свою очередь, формируется на основании социального контракта граждан и впоследствии может пересматриваться, перекраиваться, видоизменяться в любую сторону.
Православный христианин Бердяев под «церковью» понимал совокупность всех крещеных людей. И тех, кто прошел первое посвящение через крещение, и тех, кому суждено было пройти второе посвящение через рукоположение – клир. То есть не просто верующих, а верующих посвященных.
Это совершенно другая модель понимания сущности церкви, сильно отличающаяся и от католической, и от протестантской.
Такая церковь строится сверху, через Святого Духа. Он снисходит на человека во время святого крещения, а также передается через рукоположение от апостолов, священства.
Если подвергнем секуляризации эту православную модель, то получим народное государство, включающее в себя как представителей политической власти (то есть аналог клира), так и всех остальных граждан. Нечто подобное Бердяев описал в работе «Истоки и смысл русского коммунизма».
Он говорит: посмотрите, коммунистическая идеология, победившая в России в 1917 году, представляет собой секуляризацию именно православного понимания государства. Да, это не религиозная и даже антирелигиозная идеология. И в то же время мистико-политическое учение.
Атеистическая? Безусловно. Но по-своему воспроизводящая традиционный и тотальный характер понимания церкви. Перенесенный на политическую, социальную систему.
Суть русского коммунизма – секулярная соборность. Чтобы определить наше отношение к нормативной русской политике, необходимо внимательнейшим образом прочесть упомянутую выше работу. И не только согласиться с критикой коммунизма, высказанной Бердяевым. Важнее не осудить или оправдать, а понять советский период нашей русской истории, осмыслить идею религиозного характера русского коммунизма, имевшую для Бердяева колоссальное значение.
Времена выбирают
Третье замечание, третья линия Бердяева, которая мне представляется предельно актуальной, – его идея, выраженная в работе «Новое средневековье». Вот это, пожалуй, тот самый текст, который можно воспринимать как великолепную программу для построения новой России.
Новое Средневековье – блистательный концепт. Каждое время имеет собственную структуру. Когда движемся во времени – воспроизводим структуру той или иной эпохи. В том, что эти эпохи сменяют друг друга, нет никакой фатальности.
Время не является линейным. Оно многозначное, многоуровневое. Мы можем пройти несколько направлений, или сделать несколько шагов по одной дороге, либо свернуть.
Время извилисто, способно делать круг, цикл. Сойти со своего пути и снова на него вернуться…
Средневековье – это вечная возможность, организация ценностной системы, общества, самой исторической темпоральности по особому религиозному иерархическому сценарию.
Бердяев говорит, что его допустимо рассматривать не как прошлое, а как возможное, наряду с модерном и современностью. В этом и состоит наша свобода: в возможности выбрать узор и структуру времени.
Возникает выбор сущностной парадигмы Средневековья, предполагающей религиозное, героическое, иерархическое общество. Вопреки материалистическому, бытовому, прагматическому, торговому строю, который доминирует в современности.
Что такое современность по Бердяеву? Это царство торгашей. Средневековье же – время героев. И даже несмотря на то, что торгаши периодически побеждают, герои, которые в таких случаях уходят в тень, все равно не исчезают до конца. И мы вправе ожидать реванша героев, их грядущей победы над торговцами, наступления эры доминации двух первых сословий – жрецов и воинов, священников и дворян.
Мы явно изжили коммунизм и отвергли либерализм. В постмодерн, в систему трансгендерного общества, в европейское разложение индивидуума на составляющие – в такое будущее нам явно не хочется. А альтернативы – будь то советская, националистическая или раннебуржуазная – сейчас невозможны. Поскольку от советского мы отказались, а во что со временем может развиться раннебуржуазное начало, видим по нынешней Европе. Национализм развалит Россию.
Сделать шаг назад – значит просто на время задержать тенденции. Двигаясь по пути либерализма, неизбежно придем к мультикультурализму, феминизму и однополым бракам, поскольку все это заложено в самой либеральной идеологии. Сегодня мы наблюдаем «высшую стадию» либерализма. Противопоставлять ей какие-то предшествующие, более приличные социальные формы – бесполезно и безответственно.
Новое Средневековье по Бердяеву как достойная России альтернатива современности является, на мой взгляд, оптимальным горизонтом.
Под знаком Софии
Алексей Козырев о Сергии Булгакове
(беседа с корреспондентом журнала «Свой»)

Сергей Николаевич Булгаков
СВОЙ: Осмысливая «прошлое, настоящее и будущее», обществоведы используют чаще всего три основных дискурса. Высший и наиболее сложный – философский, здесь затрагиваются духовный аспект, телеология и тому подобные вещи. Рангом ниже – сфера идеологии, идеальной политики. Еще ниже – реальная политика, то, что важно «здесь и сейчас», актуально для общества. Можно ли в творчестве Сергия Булгакова эти дискурсы органично соединить, перебросить лесенку от его философии к тому, что способствовало выстраиванию понятной для всех идейно-политической модели?
Козырев: Булгаков был человеком модерна. При вполне профессиональных экономических знаниях, при том, что он окончил юридический факультет Московского университета, готовился стать экономистом, аналитиком, политэкономом (и, в конце концов, им стал, даже написал две значительные книги – «О рынках при капиталистическом производстве» и «Капитализм и земледелие»; причем на вторую, как на серьезный анализ состояния дел в сельском хозяйстве, ссылался не кто иной, как Ленин), его все время тянуло куда-то «на сторону».
Он совмещал в себе множество ипостасей – мистика, философа, социолога, богослова (в конце жизненного пути). И в некотором смысле – писателя. Ибо в «Свете Невечернем» находим, наряду с экскурсами в учение об Абсолюте, проникновенные лирические зарисовки из «интимного дневника». В этом автор старался уподобиться своему другу, священнику Павлу Флоренскому, который, кстати говоря, тоже был человеком модерна, стремившимся сочетать самые разные сферы приложения своего таланта, собственного эго.
Политика в этот обширный круг интересов и специализаций тоже так или иначе входила. Булгаков в свое время прошел в Государственную думу 2-го созыва, заделался депутатом в качестве беспартийного христианского социалиста.
Звучит забавно – «беспартийный христианский социалист». То есть он все-таки занимал определенную идеологическую нишу, принадлежал к некой политической партии. Хотя та и была виртуальной – официально ее не существовало.
Из трех областей, которые Вы упомянули, принадлежность Булгакова к первой, философской, наиболее очевидна. Ко второй, идеологической – отчасти.
Реальная же политика была ему все-таки не близка. И в этом своем – думском – нисхождении философ потерпел неудачу. Позже описывал в «Автобиографических заметках», как «выворачивало» его от общения с коллегами-депутатами: «Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что они спасители России, к каждому слову их, немедленно становящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия, и вы получите 2-ю Государственную думу!» Вторая Дума, как известно, существовала недолго, менее четырех месяцев, затем была распущена.
СВОЙ: Негативный опыт тоже ценен…
Козырев: Хождение Булгакова в реальную политику мало того, что закончилось фиаско, но еще и оставило в душе крайне неприятный осадок. Он вспоминал о думской работе, повторюсь, чуть ли не с омерзением. Хотя как парламентарий вел себя отнюдь не пассивно, девять раз выступал с речами, старался по максимуму отрабатывать свой депутатский хлеб. Но все-таки «настоящим политиком» – человеком, способным быстро меняться, подстраивать взгляды под зов текущего момента, обладающим шкурой хамелеона, он не стал. Да и его попытка попробовать себя в роли идеолога, была, мягко говоря, не вполне удачной. Союз христианской политики, который Булгаков пытался организовать, так и не был учрежден.
В 1906 году он издавал в Киеве газету «Народ». Та должна была стать органом Союза, но по странному и забавному стечению обстоятельств выходила лишь всю Страстную седмицу. Последний номер – со светской проповедью издателя о Воскресении Христовом – появился на Пасху. Затем деньги закончились, и газета прекратила существование.
Тем не менее опыт философа, не чурающегося всего того, что происходит на улице, в полисе, в социуме, необычайно важен. Поэтому о Булгакове можно смело говорить как о политическом философе. Не следует путать это понятие с профессией политолога, политаналитика, призванного давать какие-то рецепты, создавать шаблоны политического поведения.
Политический философ – тот, кто осмысливает реальность с точки зрения самых высоких представлений об онтологии, о структуре бытия, смысле и философии истории, об антропологии – цельного представления о человеке, человеческой природе.
Стандарты классической философии, выработанные веками, позволяют всесторонне оценивать то, что происходит в повседневности. Причем – глубже, фундаментальнее, нежели это делают практики или политологи.
Творчество и жизнь Булгакова (как, впрочем, очень многое в нашей истории) уместно разбить на два этапа – до 1917-го и после.
Второй период, связанный с миссией священника и богослова, преподавателя Свято-Сергиевского института (в Париже), был, пожалуй, не так насыщен политической философией, как первый. Однако и без оной не обошлось. Достаточно тут вспомнить его, написанную в годы Второй мировой войны, работу «Расизм и христианство», где отец Сергий анализирует «Миф двадцатого века» нацистского идеолога Розенберга. И обращается (в контексте христианской философии истории, историософии) к очень сложным вопросам, поднятым войной, включая проблемы нации, нацизма, еврейства…
Это лишний раз доказывает, что Булгаков от своего креста политического философа никуда не ушел. Только та вершина, с которой Булгаков смотрел тогда на действительность, на реальные события, стала еще выше, еще действеннее для полноценного охвата.
СВОЙ: На момент написания работы «Расизм и христианство» это был сильный ответ Розенбергу с его русофобией, юдофобией и прочим?
Козырев: Тут уместно говорить не столько об ответе Розенбергу, сколько о совершенно ином пафосе. Библейская тема, которая здесь затрагивается, имеет мало общего с тем, что говорят и пишут, например, современные исследователи холокоста, идеологи толерантности и политкорректности. Для Булгакова особо важен мистический статус еврейского народа в истории, его избранность, а потом отвержение; отторжение Христа, нежелание признать Спасителя Мессией.
Русский же народ у Булгакова сравнивается… с Иудой. Еще в начале 1930-х отец Сергий написал очень сильный текст «Иуда Искариот – апостол-предатель». В этом очерке автор предлагает свою версию предательства Иуды. Суть ее примерно в следующем: представить себе, что эта измена произошла из-за денег, было бы слишком банально. Нет, говорит философ, у Иуды были свои взгляды, свои планы на особую судьбу Христа. При этом, изображая Иуду, Булгаков, можно сказать, срисовывал его с юношеского портрета себя самого: горожанин с пролетарской психологией, иудейский мессианист, почти марксист (держатель кассы апостольской общины), экономический материалист… Наделяет своего героя качествами этакого зелота Израильского царства, видевшего во Христе провозвестника и осуществителя своих политических чаяний, стремившегося Его подтолкнуть к тому, чтобы стать Царем Израилевым, освободить иудеев от римского господства.
Русский народ по Булгакову – это такой же заблудший апостол, который вместо чаяния Царства Божия устремился и в конце концов пришел к Третьему интернационалу, богоборчеству и цареубийству.
И, соответственно, вопрос: «Спасется ли русский народ?» для отца Сергия парадоксальным образом связывается с другим вопросом: «А спасется ли Иуда?» Может ли тот быть прощен? И в обоих случаях Булгаков отвечает: «Да».
СВОЙ: С ходу, при первом знакомстве с подобными сравнениями и не поймешь, на что это больше похоже – на некую весьма оригинальную форму русофилии или на ее прямую противоположность…
Козырев: Увидеть в Булгакове апологета русского национализма, конечно, сложно, однако и русофобом он, совершенно точно, никогда не являлся. Это был философ, который очень критически относился к нашему славянофильскому шапкозакидательству. При том, что сам был славянофилом и во многом сходился по воззрениям, к примеру, с Хомяковым, в известной мере повторял того синтетичностью увлечений, творческих опытов. Хомяков ведь тоже был универсал – и богослов, и поэт, и философ, и агроном, и гомеопат, а также изобретатель, архитектор и пр.
В чем ценность булгаковской мысли, касающейся русских людей? Прежде всего в том, что он призывает их к трезвению, избавлению от опасных иллюзий по отношению к самим себе. Предостерегает и наставляет: да, нам дана святыня, нам даровано большое богатство, но мы можем непомерно возгордиться и эти святые вещи опорочить, опозорить, окончательно потерять. А поэтому мы должны хорошо знать то, что храним и за что ответственны. Может быть, самый важный, самый славянофильский акт Булгакова – это создание им Парижской богословской школы, девизом которой стали слова: «Живое предание». (Кстати, так назывался периодический альманах, который издавался в Париже с 1930 года.) Христианство должно существовать не как музейная реликвия, но как сила, преображающая жизнь, воспитывающая, устрояющая, оказывающая воздействие и на экономику, и на предпринимательство, и на семью, и на быт, и на образование…
В этом смысле парижская школа как проект живой религии – того, что влияет на социальное бытие, чрезвычайно ценен в судьбе Булгакова. Безотносительно к тому, что эту школу иногда пытаются уличить в ереси, говорят, что софиология – это не что иное, как воскрешение гностицизма…
СВОЙ: Коль скоро Вы употребили термин, непосредственно относящийся к Софии, божественной Премудрости, давайте уточним, что софиология и софистика – не одно и то же. Да и нужно ли вообще говорить о Софии как о некоем самостоятельном субъекте в нашем дуалистическом мире, который делят между собой добро и зло, Бог и дьявол? Попросту говоря, все хорошее, правильное и праведное – от Бога, все дурное, пагубное – от сатаны… Насколько необходимо привнесение сюда нового, дополнительного понятия?
Козырев: София – понятие не новое. Оно библейское. Есть книги Премудрости. К ней мы обращаемся в псалмах. О ней говорят притчи Соломоновы, а точнее, сама Премудрость вещает в них от первого лица: Господь создал меня в начале путей своих, прежде века утвердил меня… Можно толковать эти слова аллегорически, но все же идея Софии как некоего мироустрояющего начала существует в очень многих религиозных традициях.
Христианское вероучение канонически сливается с идеей Логоса. Логос и София объединяются в образе Христа. Христианство также несет в себе некую гендерную религиозную двузначность. Христос – воплощенные Премудрость и Слово. Но есть еще и Богоматерь, которая выражает женское начало в христианской религии – милующее, милосердное, космологическое.
У Достоевского в «Бесах» Хромоножка говорит: «Богородица что есть, как мнишь?.. Мать сыра земля». Вот это измерение христианства, где мир приникает к Богу, где не просто Бог активно творит мир, но и последний «в небесах видит Бога» (по выражению Лермонтова), как раз и пытается выразить булгаковская софиология.
София – это наше единение с Богом, стремление мира к тому, чтобы обожиться, стать более совершенным.
Стремится ли сам мир к такому совершенству? С точки зрения среднестатистического обывателя, наверное, впору сказать: «Нет». Когда видим, к примеру, «боинги», падающие в результате то ли чудовищной провокации, то ли глупой нелепости, то ли фатальных ошибок, то ли воздействия каких-то злых демонов, определяющих мировую политику, нам хочется заявить: техногенная цивилизация ведет к апокалипсису. На что, кстати, постоянно намекает Голливуд, все больше и больше снимающий фильмов о том, что, мол, конец неизбежен, а посему давайте строить элизиумы на новых планетах, куда мы, в конце концов, переберемся. Ну, не все, конечно, но, по крайней мере, дети и кролики обязательно туда переселятся. Таким странным образом западное массовое искусство, будучи на разных мировоззренческих полюсах с нашим философом-космистом Николаем Федоровым, как бы возрождает его мечту о покорении космоса и распространении земной жизни на другие планеты…
СВОЙ: Апокалиптические или, по меньшей мере, антиутопические настроения в мировой философии XX века явно преобладали. Сергий Булгаков видел иные перспективы будущего мироустройства?
Козырев: Ему, софиологу, был свойствен известный исторический оптимизм. Он убеждал, и отчасти справедливо, в том, что в некоторых сферах человечество, безусловно, совершенствуется. Скажем, в технике, науке. Те постоянно развиваются, продвигаются вперед, позволяют совершать такие операции с человеческим организмом, которые раньше были невозможны, продлевают людям жизнь, излечивая их от прежде неизлечимых болезней. Вот это развитие мира в направлении к «чему-то» на наших глазах явно происходит.
Такую динамику и пытается описать Булгаков в трудах о Софии. София для мира, повторимся, – это приближение его к Богу, если угодно, обожение мира. Насколько философ был в этом прав? Апостол Павел в одном из своих посланий говорил: «Да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15). Это – цель истории, исторического процесса с христианской точки зрения. Не такое положение вещей, при котором все полетит в тартарары и нечто страшное, необратимое свершится назло заблудшему человечеству. А такое, которое поступательно, непрерывно ведет мир к добру, красоте, гармонии.
И в этом Булгаков был, пожалуй, даже чрезмерно оптимистичен. Интересно, что свои софиологические штудии он начинал с экономики, то есть София стала для него своеобразным инструментом экономической науки. Как трансцендентальный субъект хозяйства, «мировая хозяйка», по его выражению. Если обратим внимание на процесс производства с позиций марксизма и спросим: «Ради чего все это?» – то ответ будет примерно таким: «Чтобы выжить, удовлетворить неуклонно растущие материальные и духовные потребности людей». А дальше? Разве бесконечная гонка за ростом наших потребностей – это и есть настоящая цель экономического развития? Булгаков стремился выйти из плена этой навязшей в зубах парадигмы прогрессизма и эвдемонизма, то бишь прогресса ради прогресса и прогресса ради человеческого счастья. Здесь-то и «пригодилась» о. Сергию София, ставшая для него божественным субъектом, организующим хозяйство, ведущим его к более возвышенному укладу земной жизни.
СВОЙ: Организующим с момента начала всех начал? Абсолютно детерминирующим или же время от времени подправляющим результаты человеческой деятельности?
Козырев: Подобный вопрос в качестве этакого риторического упрека нередко задавали Булгакову его оппоненты. Современный философ Сергей Хоружий назвал эту детерминированность, идеалистический абсолютизм «ософиением без аннексий и контрибуций». Если София является божественной субстанцией, проникающей в мир, то ему, по сути, ничего не остается, кроме как прорасти в Софии, стать божественным. И тогда неизбежно возникает вопрос о человеческой свободе, человеческом произволе, о том, может ли человек сознательно выбрать не Бога, но зло.
В этом, наверное, и содержатся некоторые изъяны софиологии. Петр Струве называл ее «религиозным материализмом», а Николай Бердяев – «марксизмом, перенесенным с земли на небо», которое Булгаков «оросил трудовым потом». Все они были марксистами изначально (Струве, Булгаков и Бердяев начинали как мыслители с легального марксизма), и когда мы сей факт констатируем – нужно иметь в виду: это было не столько их ошибкой, сколько итогом стремления молодых людей к наиболее популярной и в то же время наиболее сложной, интеллектуальной, «продвинутой», как сейчас говорят, философии. Ибо марксизм пришел в 1890-е годы на смену народничеству.
Чем были особо примечательны в свое время народники? Они верили в народ, ходили в народ, просвещали его, пели «Вы жертвою пали», а то и бомбу кидали в царя, а иногда и то и другое делали одновременно. И вдруг пришли марксисты и заявили: «Стоп! Социология – это наука! В истории действуют объективные законы, непреложные закономерности, ее надо изучать так же, как химию и физику». Конечно, в этом заключается определенный соблазн и видится непростая интеллектуальная задача. Молодые философы ухватились за марксизм не как за возможную панацею или, скажем, безотказный алгоритм для решения всех задач, а как за доктрину, которая соблазняла своей научностью и прогностической функцией. Но потом увидели, что эта научность, эта математика была «с вынутым сердцем». Там побоку шли все духовные струи, которые призваны наполнять человеческое существо и во многом формировать историю. Последняя же часто развивается совершенно иррационально.
В какой-то момент Булгаков понял, что марксистских теорий явно недостаточно. Да и не только он – целое поколение начало постепенный переход «от марксизма к идеализму».
Поэтому, оглядываясь в прошлое, очень забавно бывает наблюдать за тем, как они, «ренегаты», как называл их Ленин, чутко отслеживали друг у друга в сочинениях нотки прежнего марксизма. В этом плане Булгаков, можно сказать, сменил один детерминизм на другой – экономический на телеологический, идеалистический, где идея является и целью, и субстанцией, и мотором истории. София – как раз идея. Мир должен реализоваться в Софии, проще говоря – в Красоте. Достоевский ведь тоже софиолог. Когда он заявил: «Красота спасет мир», – это было чисто софиологическое высказывание.
СВОЙ: В советские времена у нас, видимо, не случайно популяризировали образ хрестоматийного тургеневского «нигилиста», ибо взгляды Базарова на литературу, искусство, а уж тем более на абстрактное философствование были очень многим близки. Такими они, надо полагать, остаются и по сей день. Можно ли ответить всем сразу: а что, собственно, полезного о. Сергий Булгаков «сделал для народа»?
Козырев: Легко ответить на вопрос: «Зачем нужны гвозди?» Чтобы картину к стене прибить. Не очень трудно объяснить, для чего необходим трактор. Чтобы землю вспахать. Труднее растолковать, зачем существуют философия, литература, поэзия, богословие… Ну, наверное, чтобы вспахать землю наших душ, всесторонне приготовить нас к восприятию сложного мира. Заставить думать, не подхватывать информацию с поверхности, пытаться копать глубже. Зачем нужен человек с его уникальным жизненным путем, причем великий человек? Затем, чтобы чему-то нас научить.
Жизнь Булгакова, безусловно, поучительна. При всех своих исканиях, отказах от прежних взглядов ради новых, сменах парадигм он был очень искренним человеком, серьезно и ответственно мыслившим, не боявшимся перечеркнуть то, что в определенный момент счел отжитым и неправильным.
После того как ушел от марксизма, идейной опорой для него стал христианский социализм, от которого о. Сергий не отрекся до конца своих дней. Это был своеобразный христианский социализм, основанный на православном укладе, на вере в христианскую общину и на том, что ценности веры могут стать инструментом практики. В том числе – экономической. Вот почему Булгакова часто сравнивают с Максом Вебером.
Тот выдвинул идею протестантской этики, из которой рождается капитализм: мол, капитал – символ спасения; если я успешен в этой жизни, это значит, что Бог меня избрал. И в этом, с точки зрения Макса Вебера, основная причина зарождения капитализма. То есть начался он не с изменения средств производства, как утверждал Маркс, а с трансформации духовных потребностей человека.
Булгаков тоже написал несколько работ в подобном духе. Например, «Народное хозяйство и религиозная личность». Этот труд он посвятил памяти своего тестя Ивана Федоровича Токмакова, знаменитого крымского купца, чае- и кофепромышленника, весьма успешного человека. Философ поставил вопрос: а как требования религии реализуются на практике? То бишь у нас есть очень хорошая православная этика. Но живем ли мы по этой этике? Согласуемся ли с ней, когда занимаемся бизнесом? А относимся ли мы к другому человеку, бедному, нищему, голодному и холодному, следуя общепринятым этическим канонам? Или у нас налицо разрыв между хорошей этикой и плохой, грешной жизнью?
СВОЙ: Таким образом, согласно Веберу, этические стандарты стали важнейшей предпосылкой для экономически эффективной глобальной системы. А какова потенциальная эффективность православной этики, с точки зрения Булгакова?
Козырев: Он, конечно же, задавался схожим вопросом. Как религиозные ценности человека должны быть опосредованы, осуществлены в социальной практике? Ответы же на подобные вопросы дает именно практика, и, надо полагать, не Булгаков виноват в том, что оной его теория пока не подтверждается.
Христианский социализм – это некий третий путь. Не случайно в 1930 году булгаковскую «Философию хозяйства» перевели на японский язык. Япония внимательно наблюдала за тем, что происходило и на Западе, и в России, искала возможности своего, третьего, пути, отличного от либерального капитализма и советского большевизма. Булгаков там издавался как один из теоретиков искомых вариантов, автор книги, которая может дать намек на то, в чем же все-таки состоит этот самый третий путь. Ценность социализма философ никогда не отвергал, но видел идеал этой политической системы вовсе не в фаланстерах всем известных утопистов, а в ранних христианских общинах, киновиях-монастырях – в совместном труде, братском обладании собственностью, взаимопомощи.


