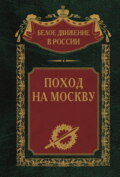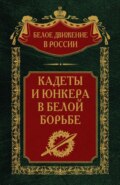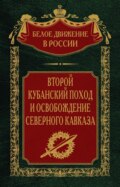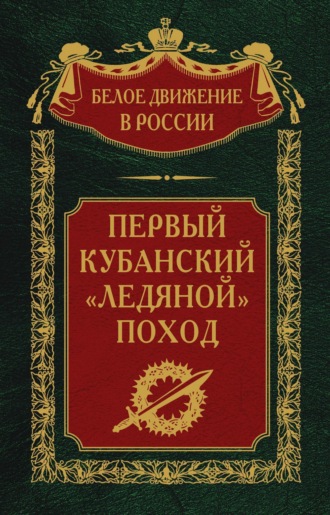
С. В. Волков
Первый кубанский («Ледяной») поход
Батарея полковника Третьякова редким огнем подготовляет штурм казарм. Цепи наши лежат словно вросшие в землю; нельзя поднять головы, чтобы тотчас же не задела одна из тысяч летящих кругом пуль. В глубокой канаве – Марков с Тимановским, штабом (три человека) и командой разведчиков. Он ходит нервными шагами, нетерпеливо ждет начала атаки. Приказ отдан, но части медлят…
– Ну, видимо, без нас дело не обойдется.
Вскочил на насыпь и бросился к цепям.
– Друзья, в атаку, вперед!
Ожило поле, поднялись добровольцы, и все живое бросилось к смертоносному валу – храбрые и робкие, падая, подымаясь, оставляя за собою на взрыхленном снарядами поле, на камнях мостовой судорожно подергивавшиеся и мертвенно неподвижные тела…
Артиллерийские казармы взяты. Когда известие об этом дошло до левого фланга, Неженцев отдал приказ атаковать. Со своего кургана, на котором Бог хранил его целые сутки, он видел, как цепь поднималась и опять залегала. Связанный незримыми нитями с теми, что лежали внизу, он чувствовал, что наступил предел человеческому дерзанию и что пришла пора пустить в дело «последний резерв». Сошел с холма, перебежал в овраг и поднял цепи:
– Корниловцы, вперед!
Голос застрял в горле. Ударила в голову пуля. Он упал. Потом поднялся, сделал несколько шагов и повалился опять, убитый наповал второй пулей.
Не стало Митрофана Осиповича Неженцева!..
Потрясенные смертью командира, потеряв раненым помощника Неженцева, полковника Индейкина, и убитым командира Партизанского батальона, капитана Курочкина, перемешанные цепи корниловцев, партизан и елисаветинских казаков схлынули обратно в овраг и окопы.
А к роковому холму подходил последний батальон резерва (2-й батальон партизан, перешедший с правого фланга. – А. Д.), и генерал Казанович с рукой на перевязи, превозмогая боль перебитого плеча, повел его в атаку. Под бешеным огнем, увлекая за собой и елисаветинцев, он опрокинул передовые цепи большевиков и уже в темноте по пятам бежавших двинулся к городу.
К ночи в штабе армии положение фронта определялось следующим образом. Бригада Маркова закрепляется в районе артиллерийских казарм. С партизанами Казановича связь потеряна, и о судьбе их ничего не известно. Корниловский полк, весьма расстроенный, занимает прежние позиции. Конница Эрдели отходит к Садам.
Утром 30-го, ко всеобщему сожалению, мы узнали, что успех боя был уже почти обеспечен и только ряд роковых случайностей вырвал его из наших рук.
Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял упорство, доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой линии, разительно превышали наши. Какова их действительная численность, не знали ни мы, ни, вероятно, большевистское командование. Разведка штаба определяла в боевой линии до 18 тысяч бойцов при 2–3 бронепоездах, 2–4 гаубицах и 8–10 легких орудиях. Но отряды пополнялись, сменялись, прибывали новые со всех сторон. Позднее в екатеринодарских «Известиях» мы прочли, что защита Екатеринодара обошлась большевикам в 15 тысяч человек, в том числе 10 тысяч ранеными, которыми забиты были все лазареты, все санитарные поезда, непрерывно эвакуируемые на Тихорецкую и Кавказскую.
Как бы то ни было, ясно почувствовалось, что темп атаки сильно ослабел.
В этот день генерал Корнилов собрал военный совет впервые после Ольгинской, где решалось направление движения Добровольческой армии. Я думаю, что на этот шаг побудило его не столько желание выслушать мнение начальников относительно плана военных действий, который был им предрешен, сколько надежда вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма Екатеринодара.
Собрались в тесной комнатке Корнилова генералы Алексеев, Романовский, Марков, Богаевский, я и Кубанский атаман полковник Филимонов. Во время беседы выяснилась печальная картина положения армии.
Противник во много раз превосходит нас силами и обладает неистощимыми запасами снарядов и патронов.
Наши войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части перемешаны и до крайности утомлены физически и морально четырехдневным боем. Офицерский полк еще сохранился, Кубанский стрелковый сильно потрепан, из Партизанского осталось не более 300 штыков, еще меньше в Корниловском (командиром его был назначен полковник Кутепов. – А. Д.). Замечается редкое для добровольцев явление – утечка из боевой линии в тыл. Казаки расходятся по своим станицам. Конница, по-видимому, ничего серьезного сделать не может.
Снарядов нет, патронов нет.
Число раненых в лазарете перевалило за полторы тысячи.
Настроение у всех членов совещания тяжелое. Опустили глаза. Один только Марков, склонив голову на плечо Романовского, заснул и тихо похрапывает. Кто-то толкнул его.
– Извините, ваше высокопревосходительство, разморило – двое суток не ложился…
Корнилов не старался внести успокоительную ноту в нарисованную картину общего положения и не возражал. За ночь он весь как-то осунулся, на лбу легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое, страдальческое выражение. Глухим голосом, но резко и отчетливо он сказал:
– Положение действительно тяжелое, и я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Как ваше мнение, господа?
Все генералы, кроме Алексеева, ответили отрицательно.
Мы чувствовали, что первый порыв прошел, что настал предел человеческих сил и об Екатеринодар мы разобьемся; неудача штурма вызовет катастрофу. Даже взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для охраны и защиты большого города. И вместе с тем мы знали, что штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно.
Наступило тяжелое молчание. Его прервал Алексеев:
– Я полагаю, что лучше будет отложить штурм до послезавтра. За сутки войска несколько отдохнут, за ночь можно будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка, быть может, станичники подойдут еще на пополнение.
На мой взгляд, такое половинчатое решение, в сущности лишь прикрытое колебание, не сулило существенных выгод: сомнительный отдых в боевых цепях, трата последних патронов и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента. Корнилов сразу согласился:
– Итак, будем штурмовать Екатеринодар на рассвете первого апреля.
Участники совета разошлись сумрачные. Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал:
– Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем.
После совещания мы остались с Корниловым вдвоем.
– Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?
– Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб.
– Этого вы не можете сделать. Ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся.
– Вы выведете…
* * *
В этот день, как и в предыдущие, артиллерия противника долго громила ферму, берег и рощу. Вдоль берега по дороге сновали взад и вперед люди и повозки. Шли из екатеринодарского предместья раненые – группами и поодиночке. Я сидел на берегу и вступал в разговоры с ними. Осведомленность их обыкновенно невелика – в пределах своей роты, батальона, понятие об общем положении подчас фантастическое, но о настроении частей дают представление довольно определенное: есть усталость и сомнение, но нет уныния – значит, далеко еще не все потеряно. С левого фланга по большой дороге проходят люди более подавленные и более пессимистически определяют положение; они, кроме того, голодны и промерзли.
Неожиданная встреча: идет с беспомощно повисшей рукой – перебита кость – штабс-капитан Бетлинг[73]. Спаситель «бердичевской группы генералов», начальник юнкерского караула в памятную ночь 27 августа. Притерпелось или пересиливает боль, но лицо веселое. Усадил его на скамейку, поговорили.
И этот храбрый офицер о штурме говорил в тот день как-то нерешительно:
– От красногвардейцев, когда идешь в атаку, просто в глазах рябит. Но это ничего. Если бы немного патронов, а главное – хоть немножко больше артиллерийского огня. Ведь казармы брали после какого-нибудь десятка гранат…
Как бы то ни было, там – в окопах, в оврагах екатеринодарских огородов, в артиллерийских казармах – люди живут своей жизнью, не отдают себе ясного отчета о грозности общего положения, страдают и слепо верят.
Верят в Корнилова.
А ведь вера творит чудеса!..
С раннего утра 31-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил:
– Теперь уже не стоит, завтра штурм.
Перебросились с Корниловым несколькими незначительными фразами – я не чувствовал тогда, что они будут последними.
Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя. Там тихо, в цепях не слышно огня, не заметно движения. Сел на берегу возле фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплее, дышит паром земля, внизу под отвесным обрывом тихо и лениво течет Кубань. Через головы то и дело проносятся со свистом гранаты, бороздят гладь воды, вздымают столбы брызг, играющих разноцветными переливами на солнце, и отбрасывают от места падения в стороны широкие круги.
Подсели два-три офицера. Но разговор не вяжется, хочется побыть одному. В душе – тягостное чувство, навеянное вчерашней беседой с Корниловым. Нельзя допустить непоправимого… Завтра мы с Романовским, которому я передал разговор с командующим, будем неотступно возле него…
Был восьмой час. Глухой удар в роще: разметались кони, зашевелились люди. Другой совсем рядом – сухой и резкий…
Прошло несколько минут.
– Ваше превосходительство! Генерал Корнилов…
Предо мной стоит адъютант командующего подпоручик Долинский[74] с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова.
Не нужно. Все понятно.
Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом, за которым он сидел. Силой взрыва его подбросило, по-видимому, кверху и ударило об печку. В момент разрыва гранаты в дверях появился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем Казанович и Долинский вошли первыми в комнату, она была наполнена дымом, а на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал… Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра.
Долинский не докончил еще своей фразы, как к обрыву подошел Романовский и несколько офицеров, принесли носилки и поставили возле меня. Он лежал на них беспомощно и недвижимо с закрытыми глазами, с лицом, на котором как будто застыло выражение последних тяжелых дум и последней боли. Я наклонился к нему. Дыхание становилось все тише, тише и угасло.
Сдерживая рыдание, я приник к холодеющей руке почившего вождя.
Рок – неумолимый и беспощадный. Щадил долго жизнь человека, глядевшего сотни раз в глаза смерти. Поразил его и душу армии в часы ее наибольшего томления.
Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли.
Вначале смерть Главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные старания: весть разнеслась словно по внушению. Казалось, что самый воздух напоен чем-то жутким и тревожным и что там, в окопах, еще не знают, но уже чувствуют, что свершилось роковое.
Скоро узнали все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили между собою шепотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нем, как в фокусе, сосредоточилось ведь все: идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердца храбрых начали закрадываться страх и мучительное сомнение. Ползли слухи, один другого тревожнее, о новых большевистских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности плена и гибели.
– Конец всему!
В этой фразе, которая срывалась с уст не только малодушных, но и многих твердых людей, соединились все разнородные чувства и побуждения их: беспредельная горечь потери, сожаление о погибшем, казалось, деле и у иных – животный страх за свою собственную жизнь.
Корабль как будто шел ко дну, и в моральных низах армии уже зловещим шепотом говорили о том, как его покинуть.
Было или казалось только, но многие верили, что враг знал уже о роковом событии. Чудилось им за боевой линией какое-то необычайное оживление, а в атаках и передвижениях большевиков видели подтверждение своих догадок. Словно таинственные флюиды перенесли дыхание нашей скорби в окопы врагов, вызвав в них злорадство и смелость.
* * *
«В тот же день 2 апреля, – говорится в описании «Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков»[75], – Добровольческая армия оставила колонию Гначбау, а уже на следующее утро, 3 апреля, появились большевики в предшествии разъездов Темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы «зарытые кадетами кассы и драгоценности». При этих розысках они натолкнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны, и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать оставшаяся в Гначбау по нездоровью сестра милосердия Добровольческой армии, которая, по предъявлении ей большевиками трупа для опознания, хотя и признала в нем генерала Корнилова, но стала уверять, что это не он. Труп полковника Неженцева был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова, в одной рубашке, покрытое брезентом, повезли в Екатеринодар.
В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор был переполнен красноармейцами – ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли – настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти Золотарев появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова. Но в то же время Сорокин оспаривал у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами. Появились фотографы; с покойника были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп. Но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела…
После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увезти труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем: он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях…
В один день не удалось докончить этой работы: на следующий день продолжали жечь жалкие останки; жгли и растаптывали ногами и потом опять жгли…
Через несколько дней после расправы с трупом по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессия, ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать «похороны Корнилова». Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег «на помин души Корнилова».
* * *
Жизнь шла своим чередом, не позволяла предаваться унынию и от горестных мыслей о тяжкой утрате возвращала к суровой действительности.
В тот момент, когда от берега Кубани понесли носилки с прахом командующего, его начальник штаба обратился ко мне:
– Вы примете командование армией?
– Да.
Не было ни минуты колебания. Официально по званию «помощника командующего армией» мне надлежало заменить убитого. Морально я не имел права уклониться от тяжелой ноши, выпавшей на мою долю в ту минуту, когда армии грозила гибель. Но только временно – здесь, на поле боя…
Поэтому, когда мне дали на подпись краткое сообщение о событии, адресованное в Елисаветинскую генералу Алексееву, с приглашением прибыть на ферму, я придал записке форму рапорта, предпослав фразу: «Доношу, что…» Этим я признавал за Алексеевым естественное право его на возглавление организации и, следовательно, на назначение постоянного заместителя павшему командующему.
Штаб перешел в конец рощи, где расположился на перекрестке дорог, под открытым небом, в ожидании генерала Алексеева и Кубанского атамана полковника Филимонова.
Приехал Алексеев и обратился ко мне:
– Ну, Антон Иванович, принимайте тяжелое наследство. Помоги вам Бог!
Мы обменялись крепким рукопожатием.
Вместе с Романовским Алексеев обсуждал проект приказа, причем оба остановились в нерешительности на одной технической детали: неписаная конституция добровольческой власти не знала иного определения ее, как термином «командующий армией». От чьего же имени отдавать приказ, как официально определить положение Алексеева? Романовский разрешил вопрос просто:
– Подпишите «генерал от инфантерии»… и больше ничего. Армия знает, кто такой генерал Алексеев.
Приказ гласил:
Ǥ 1
Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, в 7 ч. 30 м. 31 сего марта убит генерал Корнилов.
Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести ее позора.
Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине.
Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и славное командование ею известны всем нам.
Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, памятуя, что все мы несем свою лепту на алтарь Отечества.
Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову, нашему незабвенному вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!
§ 2
В командование армией вступить генералу Деникину».
* * *
В темную ночь армия уходила от Екатеринодара в неизвестное.
На походе я узнал, что из станицы Елисаветинской не удалось вывезти всех раненых. Начальник обоза доложил, что окрестности были уже заняты противником, перевозочных средств одной Елисаветинской не хватало, и пришлось оставить в ней 64 тяжело раненных[76] из числа безнадежных и тех, которые, безусловно, не в состоянии были бы вынести предстоящие форсированные марши. С ранеными оставлены врач, сестра и денежные средства.
2 апреля нам предстояло прорваться через линию Черноморской железной дороги – я наметил для этого станцию Медведовскую. Обозы были готовы с утра, и выступление предположено с таким расчетом, чтобы подойти к железной дороге в темноте. Но около полудня неожиданно со стороны Ново-Величковской обнаружилось наступление крупного отряда большевиков, и скоро колония с ее скученным добровольческим населением подверглась жестокому обстрелу десятка орудий; в то же время большевистская пехота начала охватывать нас с востока, стремясь запереть в излучине реки.
При таких условиях о скрытности движения и перехода через железную дорогу не могло быть и речи. И я решился на крайнее средство – отсидеться в Гначбау до темноты, с тем чтобы под покровом ночи скрыть свой марш и от гначбауского, и от медведовского противника. Обоз приказал сократить до минимума: изъять все лишние войсковые повозки, бросить лишние орудия, унеся затворы, испортив лафеты, так как для оставшихся 30 снарядов достаточно было и четырех орудий; беженцам оставить по повозке на 6 человек, остальные порубить. В голову обоза поставить лазарет.
Части 2-й бригады выдвинулись за окраину, залегли и приостановили наступление противника. Но артиллерийский обстрел колонии продолжался с исключительной силой.
Этот день останется в памяти первопоходников навсегда. В первый раз за три войны мне пришлось увидеть панику. Когда люди, прижатые к реке и потерявшие надежду на спасение, теряли всякий критерий реальной обстановки и находились во власти самых нелепых, самых фантастических слухов. Когда обнажались худшие инстинкты, эгоизм, недоверие и подозрительность друг к другу, к начальству, одной части к другой. Главным образом в многолюдном населении обоза. В войсковых частях было лучше, но и там создалось очень нервное настроение. Вероятно, среди малодушного элемента шли разные разговоры, потому что в продолжении пяти-шести часов в штаб приходили вести одна другой тревожнее. Получаю, например, донесение, что один из полка конницы решил отделиться от армии и прорываться отдельно… Что организуется много конных партий, предполагающих распылиться… Входит бледный ротмистр Шапрон[77], адъютант Алексеева, и трагическим шепотом докладывает, что в двух полках решили спасаться ценою выдачи большевикам старших начальников и добровольческой казны… Предусмотрено какое-то участие в этом деле Баткина… Что сводный офицерский эскадрон прибыл добровольно для охраны генерала Алексеева. От всякой охраны лично я отказался, но много позднее узнал, что тревожные слухи дошли до штаба 1-й бригады и полковник Тимановский (начальник штаба у Маркова. – А. Д.) придвинул незаметно к штабу армии «на всякий случай» офицерскую часть.
Люди теряли самообладание, и надо было спасать их помимо их собственной воли. Мы с Иваном Павловичем, который сохранял, как всегда, невозмутимое спокойствие, успокаивали волнующихся, спорили с сановными беженцами, добивавшимися права следовать чуть ли не с авангардом, и ждали с нетерпением наступления все примиряющих сумерек. Часовая стрелка в этот день, как всегда в таких случаях, передвигалась с необычайной медленностью…
Перед самым закатом приказал начать движение колонны на север, по Старо-Величковской дороге. Движение замечено было противником, и лощину, где проходит дорога, большевики начали обстреливать ураганным огнем. Но уже спускалась ночь, огонь стал беспорядочнее, голова колонны круто свернула вправо и пошла на северо-восток по дороге на Медведовскую.
Вырвались!
* * *
Еще во время остановки в Ильинской пришли хорошие вести с двух сторон.
Из кубанской станицы Прочноокопской – наиболее твердой и всегда враждебно относившейся к большевизму – явились посланцы с просьбой идти к ним, в Лабинский отдел. Они рассказывали, что, невзирая на неудачу, постигшую недавно восставших, вся тайная организация, охватывающая Лабинский, Баталпашинский, частью Майкопский и Кавказский отделы, сохранилась, что оружие спрятано, закопано в землю, что, наконец, сделаны все приготовления к захвату города Армавира, где имеются в изобилии в большевистских складах оружие и боевые припасы.
В то же время до нас доносились настойчивые слухи с Дона, что казачество там встало поголовно и что даже столица донская – Новочеркасск – в руках восставших.
Армия воспрянула духом окончательно.
Обозные стратеги волновались больше всех, роптали на долгую остановку и рвались дальше – к полуоткрывшимся окнам, в которых вдруг мелькнул свет. Но военно-политическая обстановка оставалась для штаба все еще далеко не ясной. Нужно было убедиться в серьезности всех этих сведений, чтобы решить, куда идти. От этого зависела дальнейшая судьба армии.
С этой целью на Дон, в станицу Егорлыцкую, был послан с разъездом полковник Генерального штаба Барцевич[78]. Одновременно, по просьбе Кубанского правительства и генерала Покровского, в его распоряжение предоставлен был отряд в составе до четырех кубанских и черкесских сотен, который должен был составить ядро восставших лабинцев. Отряд стал сосредоточиваться к югу, в станице Расшеватской, в ожидании решения общего плана операции.
Барцевич выехал из Ильинской, в несколько дней сделал лихой пробег в 200 верст (туда и обратно) и вернулся в Успенскую с сотней донских казаков в восторженном настроении.
– Дон восстал. Задонские станицы ополчились поголовно, свергли советскую власть, восстановили командование и дисциплину и ведут отчаянную борьбу с большевиками. Бьют челом Добровольческой армии, просят забыть старое и поскорее прийти на помощь.