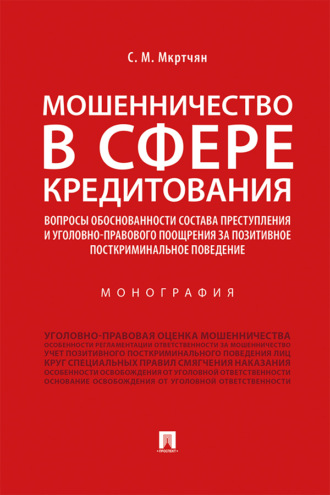
С. М. Мкртчян
Мошенничество в сфере кредитования. Вопросы обоснованности состава преступления и уголовно-правового поощрения за позитивное посткриминальное поведение
Появление ст. 1591 УК РФ представляется особенно удивительным на фоне предпринимаемых законодателями некоторых государств шагов, направленных на унификацию законодательного материала, предназначенного для борьбы с мошенническими действиями. В ранее действовавшей редакции УК Китайской Народной Республики содержалась ст. 193, предусматривающая уголовную ответственность за финансовое мошенничество, т. е. получение в банке или иной финансовой организации мошенническим путем кредита на сравнительно крупную сумму в целях незаконного владения капиталом при наличии нескольких, специально предусмотренных законом условий, а именно: использование фальшивых экономических контрактов, поддельных удостоверяющих документов, фальсификация факта импорта капитала, объекта или выдумывание иного несуществующего предлога, использование фальшивых документов на право собственности на недвижимое имущество в качестве гарантии или повторное использование заложенных материальных ценностей на сумму, превышающую их стоимость, в качестве гарантии, а также получение кредита иными мошенническими способами80. Однако в ныне действующей редакции Уголовного кодекса Китайской Народной Республики подобной статьи уже нет. Уголовное преследование кредитных мошенников должно осуществляться посредством применения общей нормы о мошенничестве (ст. 339 УК КНР)81. Необходимость подобной унификации признается и на межгосударственном уровне82.
Все сказанное позволяет заключить, что конструирование ст. 1591 УК РФ вряд ли можно считать результатом действительного учета законотворческого опыта зарубежных государств в области противодействия мошенничеству в кредитно-банковской сфере. Скорее ее [статьи] появление свидетельствует об обратном.
Между тем в иностранных законах на самом деле имеются нормы, используемые в борьбе с недобросовестностью участников кредитных и заемных отношений, которые отечественным законотворцем незаслуженно оставлены без внимания. Например, в некоторых зарубежных уголовных кодексах закреплены нормы, защищающие заемщиков от злоупотреблений со стороны кредиторов. Так, в гл. 36 УК Финляндии «Мошенничество и другое бесчестное поведение», наряду со статьей о мошенничестве (§ 1), имеется § 6 «Ростовщичество». Согласно этой статье лицо, которое, воспользовавшись финансовым или иным бедствием, должностной зависимостью, незнанием или легкомыслием другого, путем заключения контракта или другой сделки получает или требует для себя или другого экономического эффекта, который явно несоразмерен вознаграждению, наказуемо штрафом или тюремным заключением на срок не более двух лет. Ростовщиком также признается лицо, которое при предоставлении кредита принимает или требует для себя или другого проценты или другие экономические выгоды, явно несоразмерные обязательствам, выполняемым кредитором, по размеру предоставленного кредита, сроку его уплате или другим условиям кредитного договора (п. (1)), по объему кредитного риска, связанного с предоставлением кредита (п. (2)), по расходам, понесенным кредитором в качестве части проверочной процедуры при предоставлении кредита (п. (3)), по обычным расходам, понесенным при финансировании кредита (п. (4)), обычным общим расходам по предоставлению кредитных услуг (п. (5))83. Финский законодатель при этом считает ростовщичество таким же опасным преступлением, как и мошенничество. Интересно также то, что к квалифицированным составам ростовщичества (§ 7 «Тяжкое ростовщичество») отнесено совершение данного посягательства путем использования в бесчестных целях особой слабости или иного неустойчивого положения другого лица (п. (3))84. С помощью похожего квалифицирующего признака дифференцируется также уголовная ответственность за мошенничество (п. (4) § 2 «Тяжкое мошенничество»).
Уголовная ответственность за ростовщичество установлена и законодательством некоторых других государств. Так, согласно § 282 УК Дании наказанию подлежит тот, кто использует финансовые или личные затруднения другого лица, отсутствие знаний, безответственность или зависимость, вытекающую из договорных отношений, с целью получения выгоды или заключения договора на получение услуги, которые несоразмерны подлежащему исполнению обязательству или вообще не являются возмездными85. В соответствии с Уголовным кодексом Австрии названное преступление, конструктивным признаком которого является использование стесненного положения потерпевшего, его легкомыслия, неопытности или отсутствия у него способности к вынесению разумных суждений (§ 154 Уголовного кодекса Австрии86), наказывается так же сурово, как квалифицированные виды мошенничества (§ 14787), а такие его виды, как ростовщичество в виде промысла (п. (3) § 15488) и имущественное ростовщичество (§ 15589), влекут даже более строгую ответственность, чем квалифицированное мошенничество90.
Представляется, что упомянутые положения могли бы быть взяты на заметку российским законодателем для организации уголовно-правовой охраны интересов заемщиков от общественно опасных действий недобросовестных кредиторов. Это касается, в частности, поведения служащих кредитных организаций, пользующихся тяжелым материальным положением граждан, которые вынуждены согласиться на высокие проценты ввиду острой нужды в денежных средствах, а равно действий работников финансового учреждения, вводящих клиентов в заблуждение относительно объема процентов и иных дополнительных услуг, связанных с кредитованием. Не менее опасными, думается, являются участившиеся случаи мошенничества с использованием доверия потерпевших, которых склоняют к заключению кредитных договоров под видом договоров купли-продажи косметики, лекарственных средств и т. п. Довольно часто указанные действия сопровождаются уверениями относительно наличия у потерпевших каких-либо заболеваний, которые могут быть «излечены» только посредством применения «чудодейственных лекарств». Посредством построения состава, сходного с конструкциями ростовщичества, а также конструирования квалифицированного состава мошенничества (ст. 159 УК РФ) путем включения признака «совершение преступления с использованием затруднительного материального положения либо иной жизненной ситуации, в которых находится потерпевший» можно было бы эффективно противодействовать подобным посягательствам на интересы заемщиков.
Определенный интерес в качестве материала для заимствования представляет и § 150 УК Австрии «Мошенничество в состоянии нужды». В соответствии с названным параграфом наказание за мошенничество, не относящееся к тяжкому или совершенному в виде промысла, существенно смягчается (лишение свободы на срок до 1 месяца или денежный штраф в размере до 60 дневных ставок), если оно осуществлено в состоянии нужды и причинило незначительный вред91. Отказ современного российского законодателя от использования для дифференциации ответственности за хищения такого привилегирующего признака, как совершение преступления в состоянии крайней нужды либо в следствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, препятствует обеспечению ранжированного подхода к уголовно-правовой оценке фактов мошенничества, в том числе кредитного, существенно различающихся между собой по уровню общественной опасности.
Содержание настоящего параграфа позволяет сформулировать следующие выводы.
1. В ходе проведенного исследования не нашла подтверждения состоятельность доводов инициаторов дополнения УК РФ ст. 1591, заключающихся в том, что появление закрепленной в данной статье уголовно-правовой нормы является результатом учета законотворческого опыта развитых в экономическом и юридическом отношении стран. Аналогов специального состава мошенничества в сфере кредитования, описываемого ныне в Уголовном кодексе России, в иностранном законодательстве обнаружить не удалось. Судя по изученным нормативным актам, большинство государств предпочитает бороться с хищениями кредитных средств, совершаемых путем мошеннических действий, с помощью норм, обладающих высоким уровнем абстракции (Франция, Швейцария, Швеция, Япония, Нидерланды, Польша, Дания, Финляндия, Китай и др.).
2. Понятия типа «кредитное мошенничество», «мошенничество в сфере кредитования», «мошенничество в отношении кредитора» и т. п. либо вовсе отсутствуют в уголовных законах зарубежных государств (УК Австрии, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и др.), либо используются, как правило, для обозначения преступного поведения, отличного по природе от посягательства, ответственность за которое предусмотрена ст. 1591 УК России, а именно: мошеннических действий при банкротстве (Уголовный закон Израиля, УК Финляндии, Швеции и др.), недобросовестного (незаконного) получения кредита (УК Латвии, Литвы, Дании и др.). В некоторых иностранных уголовных законах указанные или подобные лексические единицы призваны отражать более широкий круг обманных деяний, осуществляемых в отношении финансового учреждения (Свод законов США), либо всего лишь один из способов осуществления объективной стороны общего состава мошенничества (УК Бельгии), а то и состава с еще более широким содержанием (УК Канады). В уголовных кодексах некоторых зарубежных государств используются словосочетания, которые при дословном, несистемном переводе на русский язык могут быть интерпретированы как «нарушение кредита» или «злоупотребления, связанные с кредитом», однако на самом деле статьи, озаглавленные подобным образом в русскоязычном переводе соответствующих нормативно-правовых актов иностранных государств, содержат нормы об уголовной ответственности за преступления против деловой репутации или доверия в сфере экономической деятельности (УК Австрии, Южной Кореи) и не имеют ничего общего ни с мошенничеством в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ), ни с общей нормой об уголовной ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ), ни с хищениями в целом.
3. Специальной нормы о кредитном мошенничестве, подобной законоположению, содержащемуся в ст. 1591 УК РФ, нет даже в тех зарубежных уголовных кодексах, в которых содержатся статьи, посвященные мошенничеству, совершаемому в некоторых областях экономики (УК Эстонской Республики), либо выделяются целые структурные элементы, аккумулирующие конструкции преступных деяний, осуществляемых посредством обмана (УК Канады, Нидерландов и др.).
4. Параграф 265b УК ФРГ не следует считать аналогом ст. 1591 УК РФ. Между названным параграфом и § 263 германского уголовного закона, закрепляющим ответственность за мошенничество, более сложные отношения, нежели отношения специальной и общей нормы, характерные для ст. 1591 и 159 УК РФ. Во-первых, § 265b не рассчитан на случаи реального причинения вреда кредитору. В подобных ситуациях он поглощается § 263. Во-вторых, в отличие от кредитного мошенничества по УК РФ, кредитный обман, согласно § 265b, не включает в качестве необходимого признака умысел на совершение хищения. С помощью названного параграфа, следовательно, может быть осуществлена уголовно-правовая оценка как покушения на мошенничество, так и неудачной попытки совершения деяния, именуемого в УК РФ незаконным получением кредита.
5. Появление ст. 1591 УК РФ представляется особенно удивительным на фоне осуществляемой законодателями некоторых государств унификации нормативного материала о мошенничестве, в результате которой специальные составы финансового мошенничества и т. п. исчезают из уголовных законов (УК Китайской Народной Республики).
6. Отечественным законодателем незаслуженно оставлены без внимания некоторые содержащиеся в иностранных уголовных законах нормы, защищающие заемщиков от злоупотреблений со стороны кредиторов, в частности, нормы, устанавливающие ответственность за ростовщичество, включающее в качестве конструктивного признака использование различных вариантов особо уязвимого положения заемщика (УК Финляндии, Дании, Австрии, ФРГ и др.), либо усиливающие ответственность за мошенничество, совершенное подобным способом (УК Финляндии). Между тем подобные формы недобросовестного поведения кредиторов, обладающие повышенной общественной опасностью в условиях обнищания значительной части населения, представлены в России отнюдь не единичными фактами.
7. Определенную пользу для оптимизации дифференциации уголовной ответственности за мошенничество могло бы принести российскому правотворцу заимствование законодательного опыта тех государств, в уголовных кодексах которых для смягчения уголовной ответственности за мошенничество (хищение) используется признак «совершение преступления в состоянии (крайней) нужды» (УК Австрии и др.). Подобное хищение представляет значительно меньшую опасность, чем такого рода преступление, осуществляемое при обычных обстоятельствах.
§ 1.3. Сфера кредитования как область распространения мошеннических действий в современной России и проблемы обоснованности конструирования специального (привилегированного) состава мошенничества, совершаемого в данной сфере92
Обоснованность конструирования ст. 1591 УК РФ резонно оценивать с позиции необходимости создания специальных норм, устанавливающих ответственность за те или иные варианты мошеннического поведения, при наличии статьи, обладающей высоким уровнем абстракции (ст. 159 УК РФ)93. В качестве причин возникновения специальных норм справедливо называют потребность в конкретизации уровня опасности деяний или личности виновного с установлением более суровых или мягких по сравнению с общей нормой санкций, а также необходимость подчеркнуть преступность каких-то определенных действий, актуализировать борьбу с той или иной разновидностью деяний путем конкретизации признаков наказуемого поведения94. На первый взгляд может показаться, что из этих положений исходили и инициаторы дополнения Уголовного кодекса ст. 1591–1596. В пояснительной записке к соответствующему проекту подобное изменение уголовного закона аргументируется с помощью следующих доводов: противодействие увеличению числа мошеннических действий в указанных сферах, надлежащий учет современного уровня развития общественных отношений в упоминаемых секторах экономики, разработка мер охраны интересов граждан от посягательств мошенников, а также обеспечение эффективного и единообразного применения норм о мошенничестве95. Подобные тезисы, судя по всему, убедили некоторых авторов в целесообразности построения специальных составов мошенничества96. Из того, что «дифференциация различных видов мошенничества» осуществлена «в целях учета особенностей экономических отношений, обеспечения на должном уровне защиты интересов граждан» исходит также и С. Л. Нудель97. В целом одобрительно к появлению ст. 1591 относится также М. Ю. Шаляпина. «Кредитно-банковская сфера в современной России, – пишет она, – активно развивается и совершенствуется. Но, к сожалению, в настоящее время именно она оказалась одним из наиболее слабых и уязвимых мест для криминальных посягательств. По нашему мнению, именно с данным обстоятельством связано введение новых статей в УК РФ, а именно – ст. 1591, предусматривающей уголовную ответственность за мошеннические действия, связанные с кредитованием»98. Казалось бы, большинство правоприменителей также в целом положительно отнеслось к появлению специальной нормы, посвященной мошенничеству в сфере кредитования. На это, например, указывают некоторые цифры, полученные в ходе произведенного в рамках настоящего исследования опроса. Так, 62,6 % респондентов (67 человек), отвечая на вопрос «Как Вы считаете, с чем связано выделение мошенничества в сфере кредитования в качестве самостоятельного состава преступления (ст. 1591 УК РФ)?», отметили, что ст. 159 УК РФ не справлялась с предупреждением мошенничества в кредитной сфере.
Однако проведенное исследование позволяет заметить следующее. Первое. Поводы принятия анализируемого законодательного решения, изложенные в упомянутой пояснительной записке, все же несколько отличаются от тех обстоятельств, с которыми юридическая наука связывает появление специальных норм. Второе. Цели, обнародованные в названном документе, видимо, не достигнуты.
Подобные замечания вовсе не обусловлены стремлением умалить значимость сферы кредитования. Как раз повышенное внимание законодателя к этой хозяйственной сфере абсолютно понятно. Она обладает качеством, выделяющим ее из других областей экономики: кредитование призвано обеспечить условия для комфортного развития других отраслей хозяйствования путем перераспределения временно свободных ресурсов между ними99. Вряд ли поэтому справедливо критиковать законодателя за конструирование ст. 1591 только на том основании, что он проявил невнимание к охране общественных отношений в других сферах социальной жизни, которым мошенничеством причиняется не меньший вред100. Не вызывает сомнения и тот факт, что в области кредитования мошеннические действия получили широкое распространение: максимальная открытость кредитно-банковского сектора, высокая вероятность и относительная легкость получения значительной прибыли обусловливают повышенный интерес к сфере кредитования со стороны недобросовестных лиц. Сказанное подтверждают имеющиеся статистические данные. Как говорится в пояснительной записке, в России ежегодно осуждалось более 2,5 тыс. лиц, и при этом в указанном документе отмечалась значительность доли мошенников, совершивших свои преступления в сфере кредитования (более 10 %)101. Однако вряд ли такого рода обстоятельства можно считать достаточными для обоснования необходимости создания рассматриваемой статьи Уголовного кодекса. Ее появление следовало считать оправданным, если бы имело место хотя бы одно из двух условий, а именно: 1) общая норма (ст. 159) не учитывала значимость или появление новых общественных отношений, требующих повышенной защиты; 2) практические работники выражали сомнения относительно преступности деяния, подпадающего ныне под действие ст. 1591 УК РФ. Но и то, и другое условия, думается, отсутствовали.
Несмотря на то, что в последнее время большинство кредитных организаций используют при осуществлении банковской операции по кредитованию физических и юридических лиц современные технологии (сотовую связь, возможности сети Интернет), сама суть указанной операции не изменилась: кредитование во всех случаях предполагает заключение кредитного договора между банком или иной кредитной организацией и гражданином по поводу передачи денежных средств при условии соблюдения принципов срочности, платности и возвратности. Соответственно, не появилось никаких новых социальных связей, сутью которых является передача кредитных средств под проценты. Существовавшая до конца 2012 года санкция ч. 1 ст. 159 УК РФ не нуждалась в кардинальной коррекции, поскольку не обладала таким негативным свойством, как чрезмерная разница между минимальным и максимальным пределом устанавливаемого наказания. Это доказывает и тот факт, что после вступления в силу анализируемого закона названная санкция не претерпела серьезных изменений. По крайней мере ее пределы практически не изменились. С квалификацией мошенничества под прикрытием кредитного договора (а именно об этом идет речь в ст. 1591 УК РФ) у практических работников никаких особых сложностей не возникало. В подобной ситуации уголовное дело возбуждалось по ст. 159102. Неслучайно при внимательном ознакомлении с результатами проведенного в рамках настоящего исследования анкетирования практических работников обнаруживается, что правоприменитель, на самом деле, не столь уж и убежден в том, что в появлении ст. 1591 имелась настоятельная необходимость. Во-первых, значительная часть опрошенных практических работников (37,4 %, т. е. 40 человек) при ответе на уже озвученный выше вопрос выбрали отрицательный вариант ответа, указав, что предыдущая редакция УК РФ не нуждалась в изменении, она могла применяться к различным проявлениям мошенничества, в том числе в современных условиях. Примечательно и то, что лишь один из 67 человек, давший утвердительный ответ, решил объяснить причины выбора, отметив, что ст. 159 не учитывает «территориальную отдаленность потерпевшего от мошенника». Показательными в этом отношении являются и ответы на другой заданный респондентам вопрос, а именно: «Как вы считаете, с чем связано выделение мошенничества в сфере кредитования в качестве самостоятельного состава преступления (ст. 1591 УК РФ)?». Отнюдь не самыми популярными на данный вопрос были следующие варианты ответа: «А) с необходимостью адекватного учета особенностей кредитных отношений» (39 человек, что составляет 36,4 % опрошенных), «Б) с необходимостью защиты имущественных интересов кредиторов от хищений при потребительском кредите» (19 человек, т. е. 17,8 % опрошенных), «В) с необходимостью снижения числа правоприменительных ошибок при квалификации соответствующих деяний» (22 человека, т. е. 20,6 % опрошенных). А вот самым востребованным оказался ответ Г) – «с непродуманным решением законодателя» (46 человек, т. е. 42,2 % опрошенных)103.
Отчасти необоснованностью самого решения сконструировать состав мошенничества в сфере кредитования объясняется отсутствие каких-либо успехов в достижении тех целей, которые ставились при его [решения] принятии. Обращает на себя, в частности, внимание, что появление самостоятельной статьи, предусматривающей уголовную ответственность исключительно за мошенничество в сфере кредитования, не улучшило статистических показателей. Например, с квалификацией по ст. 1591 УК РФ в 2013 году на территории Краснодарского края возбуждено 31 уголовное дело. В 2014 году в производстве органов предварительного следствия края находилось уже 292 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных данной статьей. Кроме того, была изменена квалификация со ст. 159 УК РФ на ст. 1591 УК РФ по 26 уголовным делам104. Неблагоприятная картина с указанным видом мошенничества наблюдается и в Волгоградской области. Так, на территории региона в 2012 году было зарегистрировано 5 мошенничеств в сфере кредитования, в 2013 – 221, в 2014 – 312. В 2015 и 2016 годах наметилась тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 1591 УК РФ (295 и 173 мошенничества в сфере кредитования соответственно), однако в 2017 году было зарегистрировано уже 254 таких преступления105. Подобная весьма неутешительная динамика рассматриваемого вида преступления вряд ли может быть объяснена исключительно популяризацией кредитных услуг среди граждан в современных условиях и активизацией деятельности банков и иных кредитных организаций по выдаче кредитов, хотя эти обстоятельства не следует сбрасывать со счетов. Дело не в том, что граждане стали чаще брать кредиты, а в том, что они стали еще менее прилежно исполнять кредитные договоры. Ведь, как справедливо заметил Н. Иванов, «посредством создания специальных составов мошенничества законодатель собственными руками предоставил преступнику возможность выбрать себе наказание»106.
Не оправдалось, видимо, и стремление инициаторов законопроекта посредством конкретизации в Уголовном кодексе Российской Федерации составов мошенничества в зависимости от сферы правоотношений, в которой они совершаются, снизить количество случаев совершения ошибок и злоупотреблений во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, а также «способствовать повышению качества работы по выявлению и расследованию таких преступлений, правильной квалификации содеянного органами предварительного расследования и судом».107 На первый взгляд может показаться, будто данные проведенного опроса указывают на то, что появление ст. 1591 значительно облегчило работу правоприменителя. Ведь на вопрос «Как Вы считаете, способствовало ли включение в УК РФ ст. 1591 облегчению процесса квалификации соответствующих преступных деяний?» положительно ответило большинство респондентов (64 человека, 59,813 % опрошенных). Однако, скорее всего, это ложное впечатление. Об этом свидетельствуют данные того же опроса. Так, отвечая на упомянутый вопрос, значительная часть респондентов (33,6 %, т. е. 36 человек) выбрала абсолютно противоположный вариант ответа («нет, так как введение ст. 1591 в УК РФ усложнило квалификацию кредитного мошенничества, обострились вопросы конкуренции норм и совокупности преступлений»). При этом из всех опрошенных на вопрос «Как Вы считаете, какой вариант модернизации уголовного законодательства в сфере борьбы с кредитным мошенничеством наиболее предпочтителен?» лишь 9 человек (8,4 %) не заявили о необходимости исключения ст. 1591 УК РФ или ее усовершенствования. В Пояснительной записке инициаторы внесения изменения не указали, какие именно проблемы квалификационного характера им представлялось возможным решить посредством введения новой нормы. Но если имелась в виду проблема соотношения мошенничества с другими составами преступлений, то ее решение в итоге законодательных новелл только осложнилось. Это касается, например, поиска ответа на вопрос о необходимости квалификации мошеннических действий по совокупности со ст. 327 УК РФ, если содеянное сопряжено с использованием заведомо подложного официального документа108, а также отграничения мошенничества от незаконного получения кредита109. Более того, произведенная законодателем в 2012 году дифференциация ответственности за мошенничество породила немало новых весьма непростых вопросов квалификации деяний подобного рода. Здесь стоит упомянуть лишь несколько проблем, над которыми ломают головы теоретики и практики с момента появления ст. 1591 УК РФ. Это и проблема выбора между данной статьей и ст. 159 УК РФ при квалификации хищения кредитных средств путем представления документов на чужое имя110, и вопрос о возможности применения ст. 1591 УК РФ к случаям, когда мошенник не представляет кредитору никаких ложных либо недостоверных сведений о своей платежеспособности и т. п., а лишь ограничивается ложными заверениями относительно исполнения принимаемых на себя обязательств111, и проблема размежевания заведомо ложных и недостоверных сведений112.
Закономерно, что ст. 1591 УК РФ чаще всего оценивается критически, а расчет на то, что подобные поправки способны свести к минимуму неправильную квалификацию мошенничества, характеризуется как наивный113.
Представляется, что возникновение названных и целого ряда других проблем связано как с неудачным употреблением средств юридической техники, так и с нарушением содержательных принципов конструирования составов преступления.
Нельзя, например, не обратить внимание на несоответствие между наименованием ст. 1591 и содержанием диспозиции ее части 1. Название «Мошенничество в сфере кредитования» способно охватить широкий круг мошеннических действий, совершаемых в пределах функционирования рассматриваемого сектора экономики. С точки зрения лексикологии и этимологии кредитование представляет собой деятельность по передаче имущества, основанную на доверии к другому лицу114. Объем названного понятия еще больше расширяется в виду использования его в сочетании со словом «сфера», под которым понимается «область, пределы распространения чего-нибудь», а также «область действия, <…> среда, обстановка»115, т. е. согласно названию ст. 1591 УК РФ в объект мошенничества, признаки которого в данной статье указаны, входят любые общественные отношения, связанные с получением или предоставлением кредита, отношения, которые обеспечивают реализацию указанных действий. К расширительному толкованию термина «кредитование» склонны некоторые представители научной общественности. Так, в экономической литературе под кредитованием понимается совокупность кредитных отношений116, вид банковской деятельности или даже банковская операция117, разновидность финансирования хозяйствующих субъектов за счет кредитных ресурсов118, а иногда указанное понятие отождествляют с финансированием (лизинг, эмиссия облигаций, факторинг и форфейтинг, инвестирование и т. п.). Подобное отождествление с точки зрения экономической науки ничему не противоречит, так как в основе связей между субъектами в рамках кредитования лежат кредитные отношения, которые, по мнению экономистов, формируются «при предоставлении денежных средств или материальных ценностей во временное пользование другому лицу на условиях платности, срочности и возвратности»119. Такой формулировкой могут охватываться и договоры кредита и займа, и иные обязательственные отношения, например, финансовая аренда, финансирование под уступку денежного требования, выпуск облигаций, оборот векселей и т. д.
Расширительное (экономическое) понимание термина «кредитование» проникает и в юриспруденцию. Указанное обусловлено развитием двух направлений: с проникновением публично-правового аспекта (отрасли финансового, банковского права) и с частноправовой основой (гражданское право). В рамках публично-правового направления кредитование понимается как предоставление (выдача) кредитов120, деятельность по предоставлению кредитов или соответствующая финансовая услуга121, одна из банковских операций, осуществляемых кредитными организациями в рамках такого направления деятельности, как «размещение денежных средств»122. В некоторых научных работах кредитование отождествляется с понятием размещения денежных средств123. А. В. Закупень отмечает, что широкое понимание кредитования («предоставление кредитором заемщику соответствующей денежной суммы или иных материальных ресурсов с последующим их возвратом и возмещением самим заемщиком или третьим лицом») объединяет не только отношения по предоставлению «денежных средств по договорам займа и кредита, но и отношения по возмездному приобретению денежных требований и ценных бумаг, осуществлению вкладов (депозитов), выплат по договору поручительства и банковским гарантиям и др.»124.
Дело в том, что здесь используются термины, употребление которых в совокупности существенно сужает сферу применения рассматриваемой нормы УК. Сочетание «кредитор – банк – заемщик – денежные средства» применяется для описания только одного гражданско-правового договора – кредитного, который иногда именуется денежным или банковским, т. е. договора, признаки которого изложены в ст. 819 ГК РФ125. Нельзя в этой связи согласиться с С. В. Смолиным, интерпретирующим термин «кредитор» в значении, употребляемом в ст. 307 ГК РФ (кредитор в широком смысле)126, так как корреспондирующими по отношению к кредитору правами и обязанностями в употребляемом в ст. 1591 УК РФ значении располагает не должник, а заемщик. Кроме того, в ст. 819 употребляется формулировка «банк или иная кредитная организация (кредитор)», а в ст. 1591 «банк или иной кредитор», что предполагает общность указанных субъектов, иначе зачем законодателю конкретизировать именно банк в качестве одного из возможных потерпевших от указанного преступления, если вполне можно было ограничиться указанием на потерпевшего посредством применения слова «кредитор». Наконец, вместе с терминами «заемщик», «кредитор» и «банк» в диспозиции ст. 1591 УК РФ употребляется термин «денежные средства» как понятие, указывающее на предмет соответствующего преступления. Таким образом, исходя из буквального толкования законодательного определения мошенничества в сфере кредитования, предусмотренного в ч. 1 ст. 1591 УК РФ, таковым законодатель признает исключительно мошенничество под прикрытием кредитного договора, причем совершаемого лицом, получающим кредит. Следует отметить, что Пленум Верховного суда Российской Федерации, судя по всему, придерживается именно этой позиции. Так, в новом постановлении, посвященном вопросам квалификации мошенничества, присвоения и растраты, высший судебный орган страны отмечает, что «по смыслу закона кредитором в статье 1591 УК РФ может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации)» (абз. 3 п. 13)127.


