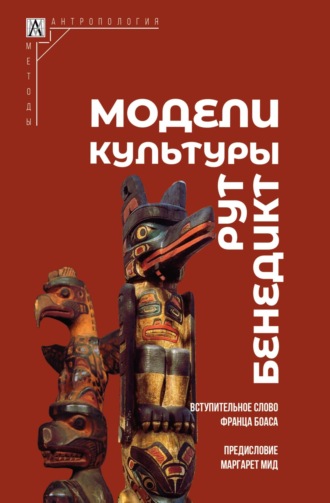
Рут Бенедикт
Модели культуры
Поэтому наиболее показательный материал для изучения разновидностей культуры и культурных процессов содержится в обществах, исторически наименее связанных с нами и друг с другом. Благодаря обширной сети исторических контактов крупные цивилизации распространились по огромной площади, и поэтому культуры примитивных обществ остаются нашим единственным источником. Они словно лаборатория, в которой у нас есть возможность изучать все многообразие традиций человека. В силу относительной изоляции во многих примитивных обществах на протяжении веков формировались особые неповторимые культурные черты. Такие общества преподносят нам необходимую информацию о многочисленных возможных разновидностях общественных механизмов, и для понимания всякого культурного процесса необходимо тщательное их изучение. Это единственная доступная нам лаборатория по исследованию общественных порядков.
У такой лаборатории есть и другое преимущество. Вопросы ставятся более простым языком, чем в крупных западных цивилизациях. Облегчение способов передвижения, международная теле- и радиосвязь, широкое распространение печатных изданий, появление соперничающих между собой профессиональных организаций, религиозных культов и целых классов, ставших во всем мире одинаковыми, придали современной цивилизации излишнюю запутанность, так что приемлемый ее анализ возможен лишь в том случае, если намеренно разбить исследование на искусственно созданные части. Но такой анализ по частям неприемлем, поскольку невозможно управлять стольким количеством внешних факторов. Исследование любой группы предполагает также исследование людей из противоположных разнородных групп с самыми разными принципами, общественными устремлениями, формами семейных отношений и нравственностью. Взаимосвязь между этими общностями так многогранна, что всецело оценить ее не представляется возможным. В первобытном обществе культурная традиция достаточно проста для того, чтобы уместиться в знаниях взрослых ее представителей, а способы поведения и нравственность подчинены одной явно выраженной общей схеме. В такой простой среде мы можем оценить взаимосвязь этих характерных черт так, как это невозможно было бы сделать в спутанном клубке нашей цивилизации.
Призывы заострить внимание на примитивных культурах не имеют ничего общего с тем, как этот материал использовался традиционно – для воссоздания истории нашего развития. Антропологи прошлого пытались расположить все многообразные культурные особенности в порядке становления: от самых ранних форм к высшей точке развития в рамках западной цивилизации. Между тем у нас нет никаких оснований полагать, что, если вместо нашей собственной религии изучать местные австралийские верования, мы обнаружим первобытные культы, или что изучение общественного строя ирокезов даст нам представление о брачных традициях наших далеких предков.
Из-за навязанной нам убежденности в том, что все человеческие расы – это один вид, мы думаем, что у всех людей на Земле за плечами одинаково продолжительная история. Вероятно, в некоторых примитивных племенах модели поведения более приближены к первобытным, нежели в цивилизованном обществе, однако все относительно, и наши догадки могут оказаться как верными, так и ошибочными. Нет никаких оснований приравнивать какой-нибудь современный примитивный обычай к первобытным моделям поведения. Методологически получить приблизительные знания об истоках мы можем лишь одним способом: изучить, как распространялись те немногочисленные культурные особенности, которые представлены в человечестве повсеместно или почти повсеместно. Некоторые из них хорошо известны: в любом обществе можно найти анимизм и экзогамию. Столь разнообразные представления о душе и загробной жизни вызывают еще больше вопросов. Представленные практически повсеместно, подобные верования мы обоснованно можем считать изобретениями глубокой древности. Это не значит, что их стоит принимать за биологически обусловленные черты, поскольку люди изобрели их чрезвычайно рано, в «колыбели» человечества, и эти черты заложили основу для всего человеческого мышления. В конечном счете, они могут быть в той же степени общественно обусловлены, как и любой местный обычай. Но они уже давно проявляются в поведении человека подсознательно. Они старинны и распространены повсеместно. Но все же это не значит, что наблюдаемые сегодня модели поведения суть исконные модели поведения первобытных времен. Равно как это не значит, что посредством их изучения мы сможем воссоздать первоначальные культурные формы. Можно попытаться выделить неизменное ядро верования и отделить от него местные его разновидности. Однако вполне вероятно, что та или иная особенность восходит к какой-нибудь ярко выраженной местной культурной форме, а не к первоначальному, менее распространенному усредненному значению всех изучаемых черт.
Поэтому использование примитивных обычаев с целью обнаружить, каким был первоисточник, есть отвлеченное теоретизирование. Так можно обосновать происхождение от каких угодно истоков, как взаимоисключающих, так и взаимодополняющих. Из всех возможных способов применения антропологического материала, в данном способе одно отвлеченное умозаключение сменяло другое быстрее всего, и по сути своей ни в одном случае невозможно привести никаких доказательств.
Также довод использовать примитивные общества с целью изучить виды общественного строя не подразумевает под собой возвращение к идеализации первобытности. Мы не предлагаем поэтизировать менее развитые народы. В эпоху неоднородности норм и сбивающего с толка шума механизмов культура того или иного народа кажется нам привлекательной по многим причинам. Но наше общество не сможет излечиться от своих недугов, вернувшись к идеалам, которые первобытные народы сберегли для нас. Для этнологического исследования тянущийся к простодушной первобытности мечтательный утопизм одинаково часто оказывается и помощью, и помехой.
В наши дни тщательное изучение первобытных обществ представляет важность скорее потому, что, как уже было отмечено, они дают нам материал для исследования культурных форм и процессов. Они помогают нам понять разницу между реакциями, характерными для местных культурных традиций, и реакциями общечеловеческими. Помимо этого, они помогают оценить и понять колоссальную важность роли культурно обусловленного поведения. Культуру, со всеми составляющими ее процессами и функциями, необходимо осветить как можно подробнее, и плодотворнее всего будет искать ответы в культуре дописьменных обществ.
Глава 2
Разнообразие культур
I
Вождь индейцев-диггеров[11], как их называют в Калифорнии, много рассказывал мне о том, как жил его народ в былые времена. Он был христианином и среди своего народа считался главным по выращиванию на орошаемых землях персиков и абрикосов. Когда он рассказывал о шаманах, которые на его глазах во время медвежьего танца перевоплотились в медведей, его руки тряслись, а голос дрожал от волнения. В далекие времена могущество его народа не имело себе равных. Больше всего ему нравилось говорить о пище, которую они добывали в пустыне. Каждое выкорчеванное растение он нес в руках с любовью и неизменным осознанием его важности. В те времена его народ питался, по его словам, «здоровьем пустыни» и ничего не ведал о содержимом консервных банок или ассортименте мясной лавки. Именно из-за таких новшеств его народ в наши дни и выродился.
Как-то раз, без какой-либо преамбулы, Рамон принялся описывать процесс перемалывания мескита и приготовления супа из желудей. «В начале, – сказал он, – Бог дал каждому народу по чаше, глиняной чаше, и из этой чаши они испивали свою жизнь». Я не знаю, встречался ли этот образ в каком-то традиционном обряде его народа или же был выдуман им самим. Трудно себе представить, что он услышал нечто подобное от белых, с которыми был знаком в Баннинге. Они не были склонны к обсуждению нравов разных народов. Во всяком случае, в сознании этого скромного индейца такая метафора была ясной и обладала глубинным смыслом. «Все они черпнули воды, – продолжил он, – но чаши их были разными. Наша чаша теперь разбита. Ее больше нет».
Наша чаша разбита. То, что придавало значимость жизни его народа – домашние ритуалы принятия пищи, обязательства в хозяйственной системе, передача из поколения в поколение обрядов деревни, одержимость в медвежьем танце, представления о том, что правильно, а что нет – все это сгинуло, а вместе с ним и облик и смысл жизни его народа. Этот пожилой мужчина был еще полон сил и во взаимоотношениях с белыми выступал вожаком. Он говорил не о том, что его народ каким-либо образом может исчезнуть. Но он имел в виду утрату чего-то столь же ценного, как сама жизнь – всю совокупность норм и верований его народа. Остались другие чаши жизни, может, в них даже была та же вода, но утрата была безвозвратна. О том, чтобы что-то подточить или приладить там и тут, не могло быть и речи. Этот образец был основой всего, единым целым. Он принадлежал лишь им.
Рамон самолично испытал то, о чем говорил. Он оказался на стыке двух культур, чьи ценности и образ мыслей были несопоставимы. Это тяжелая участь. У нас, в нашей западной цивилизации, все обстоит иначе. Мы воспитаны в духе единой многонациональной культуры, и наши общественные науки, психология и теология неизменно пренебрегают той истиной, что была явлена в метафоре Рамона.
Течение жизни и давление среды, не говоря уже о богатстве людского воображения, предлагают нам бесчисленное множество возможных ориентиров, и нам представляется, что общество может следовать любому из них. Формы собственности с социальной иерархией, которая может зависеть от имущества; предметы материальной культуры и технология их изготовления; многочисленные грани половой жизни, заботы о ребенке и того, что за этим следует; объединения и культы, которые могут формировать устройство общества; товарный обмен; божества и кара небесная. Все это и еще многое другое часто сопровождается детальной проработанностью культурных паттернов и обрядов, что забирает на себя всю энергию культуры, оставив совсем немного для формирования каких-то других черт. Стороны жизни, которые нам кажутся наиболее важными, другие народы вниманием обходят, хотя культура их, развернутая в другом направлении, отнюдь не бедна. Или, напротив, общая для наших культур черта может быть настолько сильно развита, что нам она покажется причудливой, гипертрофировано фантастической.
В культурной жизни так же, как и в речи: крайне необходимо выбрать ограниченный набор элементов. Количество звуков, которые мы можем воспроизвести при помощи наших голосовых связок, ротовой и носовой полостей, практически безгранично. Три-четыре десятка звуков, свойственных английскому языку – это ограниченный набор, который не совпадает с набором даже таких близкородственных языков, как немецкий и французский. Общее число звуков, используемых в различных языках мира, никто даже не осмелится подсчитать. Но каждому языку необходимо иметь свой набор звуков и придерживаться его, ведь иначе есть риск, что он никому не будет понятен. Язык, пользующийся даже несколькими сотнями возможных и реально засвидетельствованных звуков, не может употребляться для общения. С другой стороны, непонимание языков, далеких от родного, во многом проистекает из попыток соотнести чужую фонетическую систему с нашей и использовать это соотношение в качестве ориентира. Мы распознаем лишь один звук «к». Если у другого народа существует пять разных звуков «к», воспроизводимых в разных точках гортани и рта, зависящие от этих различий особенности синтаксиса и лексики будут недоступны нам, пока мы их не освоим. У нас есть звуки «д» и «н». Между ними может иметь место промежуточный звук, и, если нам не удастся распознать его, мы будем писать то «д», то «н», создавая различия, которых не существует. Осознание такой многочисленности возможных звуков в наборе каждого конкретного языка есть первичное предварительное условие для всякого лингвистического анализа.
Так же и в культуре: нам надо представить себе большую дугу, на которой расположены явления, потенциально представляющие важность и обусловленные либо жизненным циклом человека, либо окружающей средой, либо различными видами его деятельности. Культура, в которой присутствует хотя бы значительная доля этих представляющих важность явлений, столь же невразумительна, как и язык, который использует все щелкающие, смычные, гортанные, губные, зубные, шипящие и горловые звуки от глухих до звонких и от ротовых до носовых. Культурное самосознание зависит от набора некоего количества отрезков этой дуги. Любое человеческое общество обладает подобным набором культурных институтов. Со стороны всегда кажется, что всякое чужое общество пренебрегает основами и сосредотачивается на чем-то несущественном. В одной культуре денежные ценности почти не признаются, в другой они составляют основу любого поведения. В одном обществе технологиями пренебрегают даже в тех сторонах жизни, которые, казалось бы, обеспечивают его выживание. В другом обществе, столь же простом, технологические достижения имеют сложную структуру и с высокой точностью соответствуют ситуации. Одно общество возводит внушительную культурную надстройку на представлении о переходном возрасте, другое – о смерти, третье – о загробной жизни.
Особый интерес представляет отношение к переходному возрасту, ведь и наша цивилизация уделяет ему особо пристальное внимание, и мы также обладаем обширными познаниями о других культурах. Наличие в нашей цивилизации целой библиотеки психологических исследований подчеркивает неизбежность волнения, свойственного наступлению половой зрелости. В нашей традиции она воспринимается как психологическое состояние, которому внутренние вспышки и бунтарство свойственны так же, как брюшному тифу – жар. Эти факты не подлежат сомнению. Для Америки они естественны. Вопрос скорее в их неизбежности.
Даже самое поверхностное исследование того, как различные общества смотрят на переходный возраст, показывает неминуемость одного факта: даже в тех культурах, в которых это явление занимает центральное место, возраст, которому они уделяют особое внимание, может быть самым разным. Так, с самого начала становится ясно, что нормы, регулирующие вступление в возраст половой зрелости – неподходящее название, если мы говорим о биологической половой зрелости. Они признают половую зрелость именно в социальном ее значении, а церемонии посвящения суть признание, тем или иным образом, нового положения ребенка – он становится взрослым. Данные процессы наделения человека новыми работами и обязанностями столь же разнообразны и культурно обусловлены, как и сами эти работы и обязанности. Если единственным почетным долгом мужчины считаются военные подвиги, посвящение в воины будет проходить позднее и не так, как в обществе, в котором положение взрослого главным образом предоставляет право танцевать, изображая божества в масках. Для того чтобы понять эти нормы вступления в возраст половой зрелости, нам необходимо не столько проанализировать сущность обрядов перехода, сколько выяснить, с чем разные культуры связывают начало взросления и каким образом они признают новое положение человека. Церемония посвящения обусловлена не биологическим созреванием, а тем, что для данной культуры означает быть взрослым.
В центральной части Северной Америки зрелость подразумевает участие в войне. Обретение славы на войне есть цель всякого мужчины. Неизменное возвращение к теме взросления юношей, равно как и подготовка к тому, чтобы в любом возрасте ступить на тропу войны, представляет собой магический ритуал для обретения успеха на войне. Они пытают не друг друга, а самих себя: срезают с рук и ног полоски кожи, отрубают себе пальцы, таскают тяжелые грузы, прикрепленные к мышцам груди или ног. Наградой им служит особая доблесть на поле брани.
В то же время в Австралии положение взрослого означает становление частью исключительно мужского культа, главной особенностью которого является недопущение к нему женщин. Всякая женщина, услышавшая во время церемонии звуки сакральной гуделки, должна быть предана смерти, и даже знать об этих обрядах ей не положено. Обряды посвящения подростков представляют собой детальный и символический разрыв уз, связывающих их с женщинами. Он символизирует становление мужчины независимым и в полной мере ответственным членом общества. Для достижения этой цели они проводят жестокие сексуальные обряды и наделяют себя таким образом сверхъестественной защитой.
Таким образом, физиологические проявления переходного возраста, даже если на них и обращают внимание, в первую очередь, осмысляются с социальной точки зрения. Однако при исследовании норм, регулирующих вступление в возраст половой зрелости, становится очевидно: физиологически, наступление половой зрелости у мужчин и женщин – это разные вещи. Если бы в культуре акценты расставлялись так же, как в физиологии, церемонии посвящения у девочек были бы более примечательными, чем у мальчиков. Однако же это не так. Данные церемонии подчеркивают социальный аспект явления: во всех культурах полномочия, приобретаемые со взрослением, у мужчин гораздо шире, чем у женщин, и как следствие, что видно из вышеприведенных примеров, обществам больше свойственно отмечать этот период у мальчиков, а не у девочек.
Впрочем, половое созревание у девочек и мальчиков в одном племени может отмечаться одинаково. Например, во внутренних районах Британской Колумбии, где обряды посвящения подростков служат магической подготовкой для любого рода деятельности, девочки вовлечены в них наравне с мальчиками. Мальчики скатывают с гор камни и пытаются обогнать их на пути к подножию, чтобы продемонстрировать свое проворство, или же кидают игральные палочки, чтобы преуспеть в этой игре. Девочки же таскают воду из далеких источников или роняют камни под полами платья, символизируя таким образом, что их дети родятся с той же легкостью, с какой камешки падают на землю.
В таком племени, как нанди, живущие на озерных территориях Восточной Африки, девочки и мальчики также проходят через равноправные обряды посвящения, но поскольку главенствующая роль в культуре принадлежит мужчине, периоду подготовки мальчиков уделено больше внимания. В этом племени обряды посвящения подростков представляют собой суровое испытание – те, кто уже признан взрослыми, испытывают тех, кого только предстоит признать таковыми. Подросткам предстоит стоически выдержать изощренные пытки, связанные с процедурой обрезания. Для мужчин и женщин обряды различаются, но происходят они по одной и той же схеме. В обоих случаях на церемонию надевают одежду своих возлюбленных. Во время проведения этих процедур внимательно следят за тем, чтобы лица испытуемых не содрогнулись от боли, а награду за мужество с великой радостью поднесут им их возлюбленные, бегущие навстречу, чтобы вернуть часть своего одеяния. И для мальчиков, и для девочек эти обряды знаменуют вхождение в новый статус, согласно их полу: мальчик становится воином и может взять свою возлюбленную, девочка же вступает в брачный возраст. Испытания подростков суть испытания перед браком, вознаграждение за которые даруется им их возлюбленными.
Бывает и так, что обряды посвящения подростков сосредоточены на половом созревании девочек, а на мальчиков распространяться не могут. Самый простой пример подобных обычаев – обряд откармливания девушек в специальных домах в Центральной Африке. В этой местности красота практически тождественна ожирению, поэтому во время полового созревания девочку изолируют, порой на годы, кормят сладкой и жирной пищей, запрещают много двигаться, а тело ее тщательно натирают маслами. За это время она учится своим будущим обязанностям, и ее заточение заканчивается всеобщим показом ее полноты, после которой следует свадьба с гордым женихом. Для мужчины достижение к свадьбе подобного рода привлекательности вовсе не обязательно.
Обычно представления, на которых строятся нормы вступления девочек в возраст полового созревания и которые едва ли способны распространяться на мальчиков, связаны с менструацией. Мысль о том, что во время менструации женщина становится нечистой, широко распространена, и в некоторых местах ядром всех связанных с этим представлений стала первая менструация. В таких случаях обряды посвящения девочек в корне отличаются от тех, что мы рассмотрели выше. Среди индейцев кэрриэр[12] в Британской Колумбии страх и ужас перед женским половым созреванием достиг своих пределов. Уединение девочки на три-четыре года называется «погребением заживо», все это время она живет одна в дикой среде, в шалаше из веток, вдали ото всех проторенных троп. Она таит в себе угрозу для любого, кто лишь мельком взглянет на нее, а ее шаг оскверняет дорогу или реку. Лицо и грудь ее покрывает большой головной убор из дубленой кожи, опускающийся сзади до самой земли. Ее ноги и руки перетянуты повязками из сухожилий, защищающими ее от заточенного в ней злого духа. Она сама в опасности и представляет опасность для всех остальных.
Церемонии посвящения девочек, связанные с представлениями о менструации, часто выглядят так, что с точки зрения конкретного человека кажутся прямой противоположностью. У священного всегда есть две стороны: оно может быть источником гибели или источником благословения. В некоторых племенах считается, что первая менструация у девочек – это могущественное благословение высших сил. Я наблюдала у апачей, как сами жрецы проползали на коленях перед чередой торжественно стоящих маленьких девочек, чтобы они благословили их своим прикосновением. К ним приводят стариков и приносят младенцев, чтобы избавить их от болезней. Девочек-подростков не изолируют, как какой-то источник угрозы – их холят, как истинный источник благословения высших сил. Поскольку, как у кэрриэр, так и у апачей, обряды посвящения девочек основываются на поверьях, связанных с менструацией, они не распространяются на мальчиков, так что посвящение мальчиков, напротив, проходит легко и включает в себя простые испытания и способы доказать то, что они стали мужчинами.
Поэтому даже у девочек поведение в подростковом возрасте диктуется не физиологическими его проявлениями как таковыми, а социально связанными с ними супружескими или магическими нормами. В одном племени эти убеждения делают подростковый возраст безмятежно одухотворенным и благодетельным, а в других – столь опасно оскверненным, что ребенку приходится предупредительно кричать, чтобы другие обходили его в лесу стороной. Как мы уже увидели, подростковый возраст у девочек также может быть явлением, которому культура не придает никаких обязательных норм. Даже там, где юношеству уделяется пристальное внимание, как, например, в большей части Австралии, обряды могут ознаменовать вступление в мир взрослых мужчин и мужское участие в жизни племени, а женский период полового созревания протекает без какого-либо формального признания.
Однако все эти явления не дают ответа на главный вопрос. Разве не во всех культурах людям приходится справляться с буйством этого естественного возрастного этапа, даже если они не выражают его в обрядах? Этот вопрос изучала на Самоа доктор Маргарет Мид. Там жизнь девушки разделена на четко обозначенные периоды. Первые годы ее жизни проходят в небольших соседских группках сверстников, в которые мальчиков строго-настрого не допускают. Уголок деревни, в котором она проживает, несет в себе особую важность, мальчики же для нее – исконные враги. У женщины лишь одна забота – уход за ребенком, но вместо того, чтобы приглядывать за ним дома, она берет малышку с собой, и в играх ее ничто не стесняет. За пару лет до переходного возраста, когда девочка уже достаточно сильна для выполнения более трудных задач и достаточно взрослая для освоения более искусных техник, группка девочек, с которыми ей доводилось играть и в которой она выросла, перестает существовать. Она облачается в одежду женщины и посвящает себя работе по дому. Этот период жизни для нее довольно скучен и не несет в себе никаких потрясений. Половое созревание не влечет за собой никаких перемен.
Спустя несколько лет после достижения зрелости в ее жизни начнутся приятные годы случайных и свободных любовных связей, и она постарается как можно сильнее продлить эту пору, пока ей не придет пора вступать в брак. Половое созревание как таковое не отмечено никаким признанием cо стороны общины, изменениями в отношении к ней или ожиданиях от нее. Предполагается, что ее девичья застенчивость сохранится на протяжении еще нескольких лет. Жизнь девочки на Самоа не затронута представлениями о психологическом аспекте половой зрелости, и половое созревание приходится на расслабленную и безмятежную пору, во время которой не проявляются никакие конфликты юности. Таким образом, переходный возраст обходят стороной не только в культурном плане, без каких-либо церемоний, но и на эмоциональную сторону жизни девочки и отношение к ней жителей деревни он никак не влияет.
Другим общественным явлением, которое культура может освещать, а может и игнорировать, является война. Там, где войны ведутся активно, у них могут быть самые разные цели, способы их ведения могут различаться в зависимости от государства, и законы у них могут быть самые разные. Как в случае с ацтеками, война может служить способом взятия пленников для религиозных жертвоприношений. Поскольку испанцы воевали на уничтожение, с точки зрения ацтеков они нарушали правила игры. Ацтеки в ужасе отступили, и Кортес вошел в столицу победителем.
В разных точках мира есть еще более причудливые взгляды на войну. Для наших целей достаточно будет отметить те места, в которых две общественные группы вообще не устраивают взаимного кровопролития. Лишь вследствие нашего близкого знакомства с понятием войны нам кажется очевидным, что в отношениях между двумя племенами состояние войны и состояние мира должны чередоваться. Разумеется, такие представления весьма распространены во всем мире. Но, с одной стороны, для некоторых народов допустить вероятность состояния мира невозможно, поскольку в их представлении это будет равносильно причислению своих врагов к разряду людей, которыми они по определению быть не могут, даже если отлученное племя принадлежит той же расе и культуре.
С другой стороны, для иных народов в равной степени невозможным будет допустить вероятность состояния войны. Расмуссен описывает, с каким замешательством эскимосы восприняли его рассказ о наших обычаях. Эскимосы прекрасно понимают, что значит убить человека. Если он стоит на твоем пути, ты взвешиваешь свои силы, и, если ты готов пойти на это, ты убиваешь его. Если ты силен, общественное наказание тебе не грозит. Но им чужда мысль о том, что одна эскимосская деревня может пойти войной на другую эскимосскую деревню, или одно племя – на другое, или что одна деревня может наброситься на другую из засады, как на легкую добычу. Ко всем убийствам относятся одинаково, и их не делят на категории, как у нас: те, которые можно оправдать, и те, которые караются смертью.
Я и сама пыталась поговорить о войне с индейцем, проживающим на территории испанских миссий в Калифорнии, однако это было невозможно. Их непонимание войны было глубинным. В их собственной культуре отсутствовал фундамент, на котором это понятие могло бы существовать, а их попытки разобраться в нем свели великие войны, которым мы готовы ревностно посвящать себя, к уровню уличных потасовок. Так сложилось, что у них отсутствовала культурная модель, которая бы провела границу между этими явлениями.
Даже несмотря на то, сколь много война значит для нашей цивилизации, мы вынуждены признать, что эта черта противообщественна. В хаосе, что разразился после мировой войны, все доводы военного времени, утверждавшие, что война воспитывает в человеке мужество, альтруизм и духовные ценности, приобрели оттенок фальши и чего-то оскорбительного. Война в нашей культуре служит столь же показательным примером того, до каких губительных пределов способна дойти черта, отобранная культурой. Если мы и оправдываем войну, то лишь потому, что народы всегда оправдывают присущие им черты, а не потому, что война обладает какими-то достойными признания заслугами.
Война – не единственный пример. По всему миру и на всех уровнях сложной конфигурации культуры мы можем увидеть образцы чрезмерного и, в конце концов, противообщественного развития той или иной культурной черты. Отчетливее всего такие примеры видны там, где устоявшиеся обычаи идут вразрез с биологическими стимулами. Общественная организация имеет в антропологии довольно узкое значение в силу того, с каким единодушием все общества, основываясь на типе взаимоотношений между людьми, выделяют группы, между членами которых брак воспрещен. Ни один народ не рассматривает в качестве возможных партнеров всех женщин. Это происходит не из стремления, как часто полагают, предотвратить близкородственные, в нашем понимании, связи, поскольку во многих уголках мира в жены предопределена двоюродная сестра, часто дочь брата матери. Категории родственников, на которых этот запрет распространяется, разные у разных народов, однако в наложении ограничений все общества схожи. Ни одна человеческая идея не обрела столь постоянной и детальной проработки, как идея о кровосмешении. Группы, в рамках которых половая связь будет считаться кровосмешением, часто выступают важнейшими действующими единицами племени, и обязанности каждого индивида в отношении других членов группы определяются типом их родcтвенных связей. Эти группы выступают единицами религиозных церемоний и экономического обмена, и невозможно преувеличить значимость той роли, которую они сыграли в истории общества.
На некоторых территориях отношение к табу на кровосмешение сдержанное. Несмотря на ограничения, значительное число женщин может выступать для мужчины-родственника в качестве возможной жены. У других группа, на брак с которой наложено табу, расширена при помощи общественного мифа и включает в себя великое множество людей, общего предка которых невозможно проследить, и выбор супруга, как следствие, становится крайне ограничен. Этот общественный миф ясно отражается в словах, используемых для обозначения взаимоотношений. Вместо разделения на прямое и боковое родство, как это происходит у нас, когда мы разграничиваем отца и дядю, брата и двоюродного брата, одно понятие буквально означает «мужчин из группы (родственной, территориальной и т. д.) и поколения моего отца». Не происходит разделения на прямое и боковое родство, зато производятся другие различия, нам чуждые. Некоторые племена восточной части Австралии пользуются крайней формой так называемой классификационной системы родства. Братьями и сестрами они называют всех членов общины своего поколения, с которыми они состоят в каких-либо отношениях. У них нет категорий двоюродного родства или чего-либо подобного; все родственники одного поколения приходятся друг другу братьями и сестрами.


