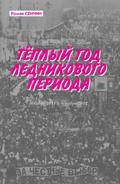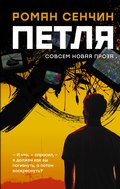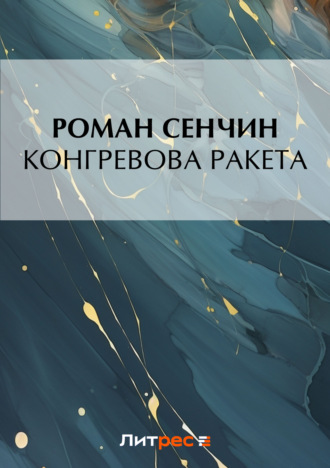
Роман Сенчин
Конгревова ракета
Но кто же это такой – Калинович?
Яков Васильевич Калинович, выпускник Московского университета, приезжает в уездный город Энск и занимает должность вышедшего в отставку Петра Михайлыча Годнева.
Автор не дает подробный портрет главного героя, но чувствуется, что это человек симпатичный, видный, серьезный, обученный хорошим манерам… Но вот какой, хоть и вежливый, но все же допрос устраивает он Петру Михайлычу при первой же встрече с ним:
– А что, здесь хорошее общество?
– Хорошее-с… Здесь чиновники отличные, живут между собою согласно; у нас ни ссор, ни дрязг нет; здешний город исстари славится дружелюбием.
– И весело живут?
– Как же-с! Съезжаются иногда друг к другу, веселятся.
– Не можете ли вы мне назвать некоторых лиц? <…>
– Это всё чиновники; а помещики? – спросил Калинович.
– Помещиков здесь постоянно живущих всего только одна генеральша Шевалова.
– Богатая?
– С состоянием; по слухам, миллионерка и, надобно сказать, настоящая генеральша: ее здесь так губернаторшей и зовут.
– Молодая еще женщина?
– Нет, старушка-с, имеет дочь на возрасте – девицу.
– А скажите, пожалуйста, – сказал Калинович после минутного молчания, – здесь есть извозчики?
– Вы, вероятно, говорите про городских извозчиков, так этаких совершенно нет, – отвечал Петр Михайлыч, – не для кого, – а потому, в силу правила политической экономии, которое и вы, вероятно, знаете: нет потребителей, нет и производителей.
Калинович призадумался.
– Это немного досадно: я думал сегодня сделать несколько визитов, – проговорил он.
Петр Михайлыч предоставляет Калиновичу свой экипаж, впрочем, увидев который, тот предпочитает передвигаться по городу пешком… Визиты неудачны, и в доме Годневых герой романа оказывается от безысходности. Сходится с Настенькой потому, что более подходящие ему девушки недоступны. Калинович дворянин, но не имеет ничего, он воспитывался в доме человека, который разорил его отца, на правах комнатного мальчика…
Калинович влюбчив. Он влюбляется в дочь князя Ивана, в баронессу. Причем мысли его, с одной стороны, циничны, а с другой – вполне обыкновенны: «Вот кабы этакой ручкой приходилось владеть, так, пожалуй бы, и Настеньку можно было забыть!»
Но каждому из нас приходят в голову бог знает какие мысли, а вот поступки мы стараемся дурные не совершать. Калинович совершает одну подлость за другой, понимая, что он совершает. «Мы, однако, князь, ужасные с вами мошенники!..» А потом, благодаря этим подлостям, став сначала вице-губернатором, а потом и губернатором, начинает, как мы сегодня говорим, бороться с коррупцией. Хотя это не борьба, а месть. Месть некоего опущенного, который вдруг стал бугром.
В первую очередь мстит Калинович тем, кто помог ему подняться, и неслучайно его, усилиями этих людей (Полины, князя Ивана), очень быстро увольняют «от службы с преданием суду за противозаконные действия как по управлению своему в звании вице-губернатора, так и в настоящей своей должности». Хорошо хоть, что на каторгу не отправили…
Да, Калинович совершает целую череду отвратительных, бесчестных поступков, но отрицательным героем, антигероем его не назовешь. На этом настаивает автор, утверждая, что Калинович не пропащий, что в реальной жизни есть люди много хуже его – у героя романа есть совесть, а у многих других ее нет: не было или же умерла.
Кстати, об «авторе». Время от времени он напоминает о себе, так себя и называя: автор. Но это не совсем автор, а скорее повествователь.
Такой повествователь есть в «Мертвых душах» Гоголя, неотступно присутствующий невидимкой рядом с Чичиковым. Но там он появляется в основном с лирическими отступлениями – о кушаньях, дорогах, дамах. У Писемского повествователь тоже все время рядом с героями и время от времени выступает из их тени, чтобы напрямую пообщаться с читателем.
Голос этого повествователя не задушевен, не лиричен, а горек и строг. Это строгость не учителя или обличителя, а такого же грешного, как и большинство персонажей книги, потому и к поступкам Калиновича повествователь относится с пониманием.
Выше я приводил его слова о двух любовях, живущих в душе его героя. А вот размышление о свадьбах, которое и сегодня может шокировать:
Кто не согласится, что под внешней обстановкой большей части свадеб прячется так много нечистого и грязного, что, уж конечно, всякое тайное свидание какого-нибудь молоденького мальчика с молоденькой девочкой гораздо выше в нравственном отношении, чем все эти полуторговые сделки, а между тем все вообще «молодые» имеют какую-то праздничную и внушительную наружность, как будто они в самом деле совершили какой-нибудь великий, а для кого-то очень полезный подвиг.
Или такое объяснение заигрывания Калиновича с соседкой по купе в поезде:
Здесь мне опять приходится объяснять истину, совершенно не принимаемую в романах, истину, что никогда мы, грубая половина рода человеческого, не способны так изменить любимой нами женщине, как в первое время разлуки с ней, хотя и любим еще с прежнею страстью. Дело тут в том, что воспоминания любви еще слишком живы, чувства жаждут привычных наслаждений, а между тем около нас пусто и нет милого существа, заменить которое мы готовы, обманывая себя, первым хорошеньким личиком.
Повествователь в «Тысяче душ» – отдельный, самостоятельный персонаж. Правда, никак не влияющий на ход событий, на сюжет. Подобного повествователя мы можем встретить не в одном произведении русских классиков. Например, в «Бесах». А в «Палате № 6» Чехова такой, иногда появляющийся повествователь без социального положения, без своей физиономии, без желания что-то изменить, зато подробно и бесстрастно рассказывающий нам истории доктора Андрея Ефимыча и тех, кто содержится в палате, придают повести настоящий ужас… Жаль, что из современной литературы повествователь такого рода почти исчез: произошло четкое деление на первое и третье лица, – или «я», или «он»…
В романе Писемского десятки замечательных персонажей. Многие из них лишь намечены, – это, так сказать, рассада, а не взрослые литературные растения, которые мы видим в книгах Гончарова, Достоевского, Островского, Тургенева, Толстого, Лескова. Но, кажется, эти авторы многое почерпнули в «Тысяче душ». (Историки литературы могут ткнуть меня носом в тот факт, что Достоевский, после прочтения двух первых частей, в письме отчитывал брата за то, что тот восторгается «золотой посредственностью», и нигде в бумагах Федора Михайловича нет упоминаний о третьей и четвертой частях романа, но это, на мой взгляд, не доказательства того, что ему эти части не были известны, а персонажи, приемы Писемского, по крайней мере двух первых частей романа, отброшены и забыты.) У персонажей «Великого Пятикнижия» (и не только там) Достоевского мы запросто можем встретить черты и Настеньки, и Калиновича, и Медиокритского, князя Ивана, Белавина, Иволгина, Полины, Григория Васильева, Амальхен (кстати, блестяще предвосхитившей знаменитую Эллочку-людоедку и всех этих блондинок в шоколаде).
Большинство произведений, увидевших свет в последующие после публикации «Тысячи душ» годы, развивают мотивы романа Писемского или спорят с ними. Скорее всего, невольно; но это не так уж важно… Известно, что «Обломов» писался Гончаровым очень долго. Но по стечению обстоятельств опубликован он был в 1859 году… Каким счастливым был все-таки читатель того времени – не успел закончить «Тысячу душ», а тут уже «Обломов» начал печататься, «Дворянское гнездо», за ними – «Накануне», «Гроза» (пьесы в те времена считались полноценными произведениями словесности, а не заготовками для спектаклей), потом – «Отцы и дети», «Что делать?». Впрочем, и тогда безустанно говорили, что русская литература измельчала, опошлилась, чуть ли не погибла…
В «Тысяче душ» и «Обломове» полярные герои. Калинович всеми неправдами лезет на верх социальной лестницы, Обломов не может подняться с кровати; Калинович, покиснув после окончания университета без места в Белокаменной несколько лет, едет на службу в глухую провинцию, Обломов же, приехав в Петербург для великих дел, мечтает о глухой и милой провинции; Калинович – автор опубликованной повести, а Обломов не может составить письма домовому хозяину. Ольга у Гончарова тянет Обломова наверх, к деятельности, брак с Настенькой же сулит Калиновичу размеренную уездную жизнь, опасность стать «всегда довольным», как ее папаша; Калиновича увольняют с преданием суду в тот момент, когда он в шаге от того, чтобы навести в губернии законный порядок, а Обломов бежит в домик Пшеницыной, когда кажется, что его вот-вот «оживят»…
И завершение жизни у обоих героев хоть и внешне схожее – тихие годы рядом с любящей женщиной, – на самом деле совсем разное. Калинович, «сломанный нравственно, больной физически… решился на новый брак единственно потому только, что ни на что более не надеялся и ничего уж более не ожидал от жизни», а Обломов в домике Пшеницыной обретает семейное счастье и покой (не без эпизодических житейских проблем). Наконец, Калинович и Настенька завершают свои дни, похоже, бездетными, а у Ильи Ильича рождается сын Андрюша.
Обломова опекает и не раз спасает Штольц, у Калиновича есть ангел-хранитель и змей-искуситель в одном лице – князь Иван. Князь Иван очень нехороший тип, но и Штольца никак нельзя назвать симпатичным.
И еще одна любопытная параллель – Захар в романе Гончарова и Гаврилыч по прозвищу Тёрка из «Тысячи душ». Вот уж родные братья! Тёрка старший, а Захар, подушевней, помягче, младший…
Важно взглянуть, кто нам рассказывает историю жизни Обломова. Это не автор-бог и повелитель своих персонажей. И даже не тот прячущийся, но внимательный повествователь, как в «Тысяче душ». В последних строках «Обломова» мы узнаём, что рассказал об Илье Ильиче (и о себе заодно) Штольц. Но! Но не нам, а «литератору, полному, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами». Эта цепочка гениальна. Гончаров разом дважды дает понять читателю, что рассказ субъективен, что истины в нем нет – Штольц оценивает Обломова со своей колокольни, а литератор – со своей… Интересно, когда Гончарову пришла такая идея – до чтения «Тысячи душ» или после?..
И в заключение – о сатире.
Классифицировать писателей по жанрам дело занятное, но вредное. Вот когда-то, в начале творческой жизни, занесли в разряд сатириков Зощенко, и как бы он ни пытался позже писать серьезно и о серьезном, его продолжали воспринимать как автора, который смешит и покалывает… В сатирики занесен Салтыков-Щедрин, и до его главных произведений – публицистики – мало кто добирается, а добравшись, чаще всего, разочаровывается: ну, это как-то скучно уже, не то…
Сатириком считается даже Гоголь. А Достоевского, Толстого, Гончарова прочно отнесли к «серьезным». Психологический реализм и тому подобное… Но эти да и другие писатели позапрошлого века использовали приемы сатиры, сатирическую окраску повествования при любом удобном случае. Не стал исключением и роман Писемского. Особенно это проявилось в сцене празднования именин князя Ивана, где дворянство на несколько минут соприкасается с народом. Потрясающе. Прочитайте.
Да и целиком роман достоин чтения. На вид только он устрашающе толст и напоминает кирпич, а под обложкой кипит настоящая, сложная, опасная, страстная жизнь, действуют пусть не тысячи, но десятки и десятки интересных и оригинальных душ, созданных Писемским.
…По воспоминаниям современников, Алексей Феофилактович периодами крепко пил. Знакомые пытались уговаривать, чтоб не злоупотреблял. Писатель отвечал: «Понимаешь ты, я без этого не засну! Не могу я спать без этого. Они – вот те, о ком я вам читал, не дают мне спать. Стоят вокруг меня и предо мной всю ночь и смотрят на меня, – и живут, и не дают мне заснуть! И не могу я без этого – понимаешь?» Знакомясь с книгами Писемского, веришь, что это была не отмазка алкоголика, а правда – человеческая рассада, некрепкая, без длинных стеблей и корней, стояла вокруг него и не давала заснуть. Читателей она тоже не оставляет равнодушными, не забывается, не выходит из головы. Это касается не только персонажей «Тысячи душ», но и «Тюфяка», «Ипохондрика», «Питерщика», «Горькой судьбины», «Взбаламученного моря», «В водовороте», «Мещан», «Батьки», «Финансового гения»… Целый мир, который не следует прятать во втором ряду своего книжного шкафа.
2016
Смыкание полюсов
Появление книги известного литературного критика, оригинального прозаика Павла Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая» меня, признаюсь, не обрадовало. Нет, книга получилась замечательная – давно я не читал с таким увлечением, давно не узнавал столько нового и важного. Но… Как бы это сформулировать… Уход из Ясной Поляны Льва Толстого и события вокруг этого – беспроигрышная тема. Есть в такого рода литературе несколько беспроигрышных тем. Например, последний год жизни Достоевского, последний год жизни Чехова. Умирающий Гоголь – сорокалетний призрак минувшей пушкинской эпохи…
Исследователь, обладающий писательским даром, наверняка напишет на любую из этих тем отличную книгу, и обязательно будут открытия, и есть пространство для размышлений, ассоциаций, параллелей. И мало кто отважится обрушиться с критикой на мысли автора, – ведь смерть и Достоевского, и Чехова, Гоголя, Толстого – это не просто смерть больших писателей, а некий символ, грань, перелом в общественной жизни, который совпадал с переломом истории России.
Умер Гоголь, и вскоре началась Крымская война, спровоцировавшая наступление нового этапа в жизни России (многие уверены, что после смерти Николая I, ускоренной поражением в Крымской войне, стала гибнуть и Россия); умер Достоевский, а через месяц убили Александра II, и началась гражданская война, которая через неполные сорок лет превратилась в небывалую в мировой истории братоубийственную бойню; «задохнулся» Чехов, и спустя несколько месяцев лопнула кровью Первая русская революция; убежал из дому Толстой, умер на глухой станции, и русское общество осиротело, потеряло последние ориентиры, покатилось в тартарары…
Множество противоречивых документов, свидетельств сохранила история о тех временах, об этих титанах, и кто бы ни взялся писать на эти темы, окажется по-своему прав.
Честно говоря, я был уверен, что, написав «Бегство из рая», Павел Басинский не то чтобы бросит толстовскую тему (нет, к Толстому он статьями возвращается постоянно), но не станет тратить время и силы на новую большую книгу. Но – ошибся. Недавно появилась новая – «Святой против Льва».
Тема на сей раз нельзя сказать, что абсолютно неисследованная, но – опасная: отношения Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого. Скорее даже, не отношения друг к другу, а к православной церкви.
В девяностые – начале нулевых это был один из предметов спора у кое-как начитанной, пробующей размышлять молодежи (имею в виду здесь не только молодежь по возрасту, но и по духовному развитию). И обязательно спор очень быстро перерастал в ссору, чуть до драк не доходило. А может, и доходило… Позже эта молодежь повзрослела, и спорить о таких предметах стало как-то глупо, что ли, а может, бессмысленно. Ясно, что каждый останется при своем. Так зачем ругаться?
Павел Басинский написал книгу деликатно, или – точнее – осторожно, не дав по-настоящему полно высказаться ни отцу Иоанну, ни Льву Толстому, не выразив свое, авторское, мнение. Но тем не менее книга получилась не просто познавательной, а острой, может быть, и взрывоопасной.
В среде нашей, скажем так, интеллигенции много взрывоопасных проблем, по которым она не найдет общего языка, не станет единым организмом. И Церковь – одна из них. Иоанн Кронштадтский и Толстой находились на разных полюсах отношения к Церкви, но в чем-то эти полюса, как водится, смыкались. По-моему, эти точки смыкания и попытался найти Павел Басинский.
Большая часть пятисотстраничного труда «Святой против Льва» посвящена детству, взрослению, семье, среде, духовным поискам героев. Это своего рода подводка, объяснение, почему они в итоге оказались «против». Друг напротив друга в общественном представлении. И, выбрав одного, человек отрицал другого. Что, в общем-то, по сути, добивается любое религиозное учение: невозможно верить в Иисуса и Будду, Магомеда и Кришну одновременно… Так же и с Кронштадтским и Толстым. Недаром оба вольно или невольно породили то, что православная церковь назвала сектами: первый – иоаннитов (признана сектой в 1909 году), второй – толстовцев («особая секта» с 1897 года).
Отношение Церкви к Толстому общеизвестно, но и деятельность Иоанна Кронштадтского поначалу вызвала у тогдашнего обер-прокурора Святейшего синода Победоносцева тревогу, граничащую с жаждой расправы.
Прочитав в одном из номеров «Нового времени» «Благодарственное заявление» отцу Иоанну и описание чудесных исцелений по его молитвам, Победоносцев первым делом пишет директору своей канцелярии.
Победоносцев – Ненарокомову:
Посмотрите, что напечатано в «Новом Времени» сегодня наряду с объявлениями о театрах и пр.
Думаю, тут не без греха священник. Что за человек и в чьем ведомстве?..
Подробностей расследования этого дела Святейшим синодом автору книги найти не удалось, но по косвенным свидетельствам от сурового наказания необычный священник находился в одном шаге. Вполне мог быть заточен, например, в Суздальский монастырь, как еретик. Но Победоносцев, видимо, решил, что ему выгоднее иметь в лице отца Иоанна этакого народного батюшку, к которому идут страждущие и получают облегчение и исцеление… А ко всему необычному Победоносцев относился более чем настороженно. Его отношение к Толстому тому ярчайшее подтверждение.
В книге немало страниц уделено этой фигуре, державшей в ежовых рукавицах не только Церковь, но и духовную жизнь России на протяжении четверти века. К сожалению, автор не показал, как эти рукавицы подвигали Россию к катастрофе гражданской войны.
В итоге Победоносцев проиграл – его хоть и с почетом, но отправили в отставку (или, точнее, вынудили отправиться) после Октябрьского манифеста 1905 года. Известно, что обер-прокурор был возмущен этим манифестом, не мог понять, что это такое – «свобода совести, свобода собраний, свобода слова». Все его жизненные принципы рухнули в одно мгновение.
Впрочем, и на обычных людей, да и на государственных мужей этот манифест Николая II упал, как камень на голову. Даже министр внутренних дел узнал его содержание в одно время с обывателями. Начались волнения, Первая русская революция получила новый заряд; Победоносцев от этого заболел и вскоре скончался, оставив без присмотра Россию с отцом Иоанном и писателем Толстым…
Противостояние Иоанна Кронштадтского и Толстого, – со стороны первого яростное и громогласное, со стороны второго – почти молчаливое в отношении самого священника, но не менее яростное в отношении того института, который отец Иоанн защищал, – продолжалось почти тридцать лет. Отец Иоанн отстаивал незыблемость догматов, таинств, традиций (впрочем, нередко становясь новатором, реформатором), а Толстой выступал не только против обрядовости, но и не признавал божественной природы Христа.
Не стану цитировать ни того ни другого, тем более что не только цитаты, но и статьи обоих героев обильно представлены в книге Павла Басинского. Задамся лучше вопросом: а во что и как верили православные христиане в России вплоть до 20-х годов XIX столетия, да и в большинстве своем верят и сейчас?
У Павла Басинского проблема «русского религиозного просвещения» отмечена. Он напоминает, что «первое издание четырех Евангелий параллельно на русском и церковнославянском языках» было напечатано Российским Библейским обществом только в 1818 году. «К 1826 году, когда по указу Николая I деятельность Библейского общества была приостановлена, вышло около миллиона экземпляров книг Священного Писания на двадцати шести языках народов России». А «полная русская Библия, текст которой с этих пор называют синодальным», вышла из печати лишь в 1876 году!
Но история перевода и издания Библии на русский язык заслуживает отдельной книги с такими изломами сюжета, которые невозможно выдумать нарочно. Например, в 1826 году перевод первых книг Ветхого Завета был не только подвергнут критике, но и сожжен весь тираж… Или такой излом: переводу и изданию Библии на русском языке противодействовало в первую очередь само духовенство. Митрополит Серафим, к примеру, назначенный в 1824 году председателем Библейского общества, тут же представил доклад Александру I, в котором откровенно говорил, что общество необходимо закрыть. Этот император доклад проигнорировал, но его преемник тут же приостановил деятельность общества «впредь до Высочайшего соизволения». Соизволения этого не последовало, и тогда распространением Нового Завета занялись российские протестанты. Святейший синод переводил и издавал Библию, но крошечными тиражами…
Цифры «около миллиона экземпляров книг Священного Писания», изданных до 1826 года, которую называет автор «Святой против Льва», я не нашел в других источниках. Зато встретил в них другую цифру – свыше полумиллиона на сорока одном языке, в «том числе свыше 40 тыс. экз. Нового Завета на русском языке». А что такое 40 тысяч экземпляров? Капля в море православных. Представить себе Новый Завет в избе грамотного крестьянина середины XIX века невозможно.
Сторонники Победоносцева и сегодня одной из главных его заслуг называют реформу церковно-приходского образования, в результате которой за двадцать лет число церковно-приходских школ увеличилось с 273 до 43 696, в которых училось почти два миллиона детей. Но с тем, что Святейший синод ограждал простых людей от Библии, они – сторонники – не очень-то и спорят.
А как иначе, как не ограждать? Я уверен, что любой, прочитавший хоть несколько страниц Нового Завета, не может не стать еретиком и сектантом. Пусть даже тайно, в душе.
Лев Толстой, с точки зрения официальной Церкви, стал явным еретиком, даже хуже, – человеком, не признающим (точнее, многократно заявлявшим, что не «понимает») Троицу, божественную природу Иисуса Христа. И «Определение Святейшего синода», констатирующее отпадение Толстого от «Церкви Христовой», по мнению Павла Басинского, написанное мягко и «умно» (Церковь «скорбела об отпадении от нее ее члена», утверждала, что молится, «да подаст ему Господь покаяние и разум истины», а не предавала анафеме), с одной стороны, уместно и справедливо, но, с другой, общество восприняло это «Определение…» именно как отлучение. И разлом русского общества усилился, непримиримость двух лагерей обострилась (переход отдельных людей из лагеря в лагерь только подливал масла в огонь полыхавшего уже пожара).
Через четыре года случилось Кровавое воскресенье, затем появился Октябрьский манифест… Церковь в совершенно новых условиях продолжала оставаться прежней. И после Октября 1917-го именно она стала главной целью русского бунта. Ведь не китайцы, евреи и латышские стрелки, которых сегодня делают основной силой красного террора, в те дни убивали священников, громили и оскверняли церкви, а вчерашние православные… В итоге большевикам с левыми эсерами пришлось брать под защиту церкви и духовенство – бунт нужно было держать в рамках… С институтом же Церкви большевики решили разобраться постепенно. И не случись нападение Гитлера, то, скорее всего, православие в нашей стране было бы полностью уничтожено к 1950-м годам. Да и сегодня еще нельзя говорить о возрождении в России православной культуры.
Конечно, любые изменения в жизни Церкви могут ее разрушить, погубить, превратить в нечто иное. Но и полная статичность тоже губительна… Судя по деятельности и Иоанна Кронштадтского, и Льва Толстого, они, предчувствуя будущую трагедию, каждый по-своему, с разных полюсов, пытались спасти не только православие, но и Россию.
Необходимость что-то делать, чтобы спасти, не давала покоя мыслящим людям задолго до появления этих ярчайших фигур рубежа столетий. По существу, «Определений», подобных тому, какое вынес Синод по отношению к Толстому, должно бы выноситься множество…
Отец Иоанн своей жизнью показывал, что Церковь может исцелить верующего от недуга, помочь в беде, в том числе и деньгами (Басинский приводит множество примеров, когда священник запросто отдавал первому же просителю две-три тысячи рублей); он стремился, грубо говоря, сблизить Церковь как институт (а точнее – подгосударственное ведомство) и простых верующих. Но верующих искренне… К примеру, Салтыкову-Щедрину, относившемуся к Церкви и лично к отцу Иоанну иронически, он помочь не сумел, а сотням искренне верующих – да.
Да, ему нужны были верующие по-настоящему, не сомневаясь, и потому, видимо, он с таким негодованием выступал против тех, кто эту веру подтачивает. Павел Басинский порой не решается цитировать слова отца Иоанна о Льве Толстом:
Это не полемика, а брань, недостойная не только священника, но и просто христианина. Почему «недостойная»? Если верить евангелистам, то и сам Христос не стеснялся в выражениях по отношению к тем, кто не верил в него или занимался лжеучительством…
Отец Иоанн боролся с Толстым больше десяти лет. За несколько месяцев до собственной смерти, в дни, когда русское общество готовилось отметить восьмидесятилетие Льва Толстого, он написал молитву, в которой были такие слова: «Господи, умиротвори Россию ради церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хулителя Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих последователей…
Кстати, он не раз обращался к Господу с подобными просьбами. Причем забрать просил в том числе и тех священников, которых считал разрушителями крепости Церкви – к примеру, митрополита Антония (Вадковского), автора смягченной редакции «Определения…», духовника императорской фамилии Иоанна Янышева и «прочих неверных людей»…
Примечательно, что Иоанн Кронштадтский неизменно вставал на сторону государства, когда государству возникали угрозы, а точнее, государственному строю. Видимо, он понимал: любая смута в государстве подточит, а то и погубит и Церковь. А ему нужна была сильная, богатая Церковь. И он делами выступал за дальнейшее «сращение Церкви и государства» (цитата из книги «Святой против Льва»), строил величественные соборы, основывал монастыри (почему-то всё женские), не сторонился роскоши, хотя, по свидетельству современников, тяготился ею.
Нынешнюю Церковь критикуют, что и она после всего, несмотря ни на что, тоже срастается с государством. Но Церковь, судя по всему, живет другими временными измерениями, и для нее не только патриарх Тихон, но и времена Ивана Грозного, Петра Первого не такое уж отдаленное прошлое. Тогда Церковь вставала на дороге государей, видя жестокость их действий, и к чему это приводило… Церковь наверняка не хочет повторений.
Иоанн Кронштадтский выступал как новатор, но это новаторство хоть и было осторожным, постепенным, вызывало неудовольствие и подозрение у вышестоящего «начальства». Павел Басинский довольно подробно останавливается на советах отца Иоанна прихожанам чаще причащаться, на общих исповедях, Доме трудолюбия, чудесных исцелениях, которые многими иерархами, особенно поначалу, воспринимались как мошенничество… В представлении народном отец Иоанн почитался святым при жизни, а спустя восемь десятилетий после кончины был канонизирован Русской православной церковью… Сама Церковь, чуть не погибнув в 1920—1960-е, возродилась и стала, судя по всему, еще богаче и крепче, чем сто лет назад, но праведных в ее организме, как и сто лет назад, кажется, очень и очень мало…
Толстой же стремился вернуть Церковь во времена первых десятилетий христианства, когда Иисус Христос воспринимался живым, земным человеком, когда внешнего было очень мало, зато внутренняя вера была небывало сильна. Когда каждый христианин был готов смертью смерть попрать. В том мире, в котором жил Толстой, он не видел настоящего христианства, зато наблюдал постоянные отступления от Христовых заповедей.
Ключевым моментом его реального отпадения от Церкви (и одновременно начала войны с государством) стала, вероятно, казнь революционеров, взорвавших Александра II. Вскоре после их ареста Толстой написал Александру III письмо, в котором обратился к нему «как человек к человеку» с просьбой не «убивать» людей.
Павел Басинский недаром несколько раз в книге возвращается к этому письму – оно явилось толчком Толстому и порвать с Церковью, и видеть в «царях и министрах» врагов народа.
Впрочем, само письмо (то есть его сохранившийся черновик) написано вполне миролюбиво, хотя и вызывающе, так как Толстой «откровенно предлагал императору сделать выбор между божьим и кесаревым, при этом само собой предполагалось, что статус царя – не божий»… Александр не ответил Толстому – один экземпляр письма перехватил Победоносцев, второй, брошенный (а может, и не брошенный) Страховым в дворцовый почтовый ящик, тоже, видимо, не дошел до адресата… Революционеров повесили – Церковь поддержала казнь, – в России, по существу, началась та гражданская война, которую Толстой и предрекал в своем письме.
Постепенно слог статей Толстого становился жестче и жестче, они всё больше напоминали ультиматум…
Мы помним из всей философии Льва Толстого один принцип: «непротивление злу насилием». Но если полистать его статьи, то станет ясно: в физическом уничтожении царей и их помощников он не видел ничего страшного. Правда, не находил и пользы:
Короли и императоры давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновенно становится на ее место. Король умер, – да здравствует король! Так зачем же убивать их?
Только при самом поверхностном взгляде убийство этих людей может представляться средством спасения от угнетения народа и войн, губящих жизни человеческие».
Дальше Толстой дает совет:
И потому не убивать надо Александров, Николаев, Вильгельмов, Гумбертов, а перестать поддерживать то устройство обществ, которое их производит. А поддерживает теперешнее устройство обществ – эгоизм людей, продающих свою свободу и честь за свои маленькие материальные выгоды.
История показала, что общество услышало Толстого, и в феврале 1917-го сами монархисты бросились к Николаю II с требованием отречься от престола. Но уже и отречение не спасло от братоубийственной бойни – узел ненависти затянулся слишком сильно. Пришлось разрубать…
Толстой верил в человека. Верил, что если его не бить, не заставлять убивать другого, не развращать, не дурачить, «оставить в покое», то он проживет свою жизнь счастливо, умно, с пользой народу. С одной стороны, чтобы человеку стало так житься, нужно, по Толстому, совсем немного, а с другой стороны, требовалось изменить не только человеческое общество, но и человеческую природу.