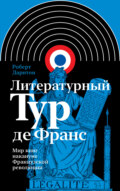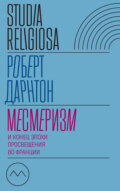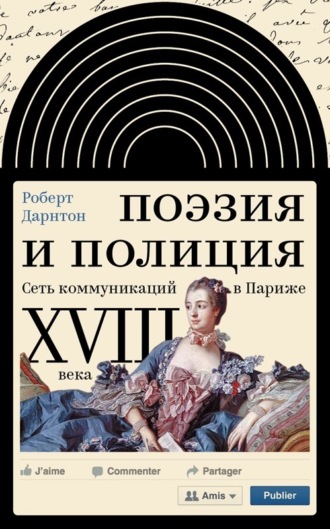
Роберт Дарнтон
Поэзия и полиция. Сеть коммуникаций в Париже XVIII века
Глава 3
Сеть коммуникаций
Диаграмма, изображенная на следующей странице, основана на тщательном изучении архивных материалов и показывает, как работает сеть коммуникаций. Каждое стихотворение – или популярную песню, так как в записях некоторые из них названы chansons и упоминается, что их пели на определенную мелодию[10], – можно проследить его движение от человека к человеку. Но настоящее течение должно быть шире и сложнее, так как цепь передачи информации часто прерывается в одном месте и снова появляется в другом.
Например, если прослеживать связь с конца, в порядке арестов – от Бони, арестованного 3 июля 1749 года, к Эдуару, арестованному 5 июля, Монтаню, арестованному 8 июля, и Дюжасу, тоже арестованному 8 июля, путь раздваивается после Аллера, арестованного 9 июля. Он получил стихотворение, за которым охотилась полиция, – обозначенное номером 1 и начинающееся словами «Monstre dont la noir furie», – по основной линии, которая идет сверху вниз в левой части диаграммы; он также получил три других стихотворения от аббата Кристофа Гийара, занимающего узловое место в примыкающей к основной линии сети. Гийар, в свою очередь, получил пять стихотворений (два из них идентичные) от троих других людей, которые получили их от своих знакомых. Так, стихотворение 4, начинающееся словами «Qu’une bâtarde de catin» («То, что грязная шлюха…»), пришло от семинариста по имени Тере (обозначен в нижнем правом углу) к аббату Жану Ле Мерсье, потом к Гийару и Аллеру. А стихотворение 3, «Peuple jadis si fier, ajourd’hui si servile» («Народ некогда гордый, теперь раболепствует»), от Ланглуа де Жерара из Верховного суда попало к аббату Луи-Феликсу де Босанкуру, а от него к Гийару. Но стихотворения 3 и 4, согласно информации из допросов, появлялись и в других точках и не всегда продолжали свой путь по цепи (№ 3 вроде бы остановилось на Ле Мерсье, № 2, 4 и 5 – на Аллере). На самом деле стихотворения могли разойтись очень далеко по куда более сложным схемам, чем вмещает одна диаграмма, и большинство из четырнадцати арестованных за распространение поэзии, скорее всего, сильно приуменьшили свою посредническую роль, чтобы не брать на себя бóльшую вину и защитить знакомых.
Так что диаграмма дает лишь скупое указание на схему распространения, ограниченное природой документов. Но она точно показывает большой сегмент круга общения, а записи допросов из Бастилии предоставляют много информации о среде, в которой распространялись стихи. Все четырнадцать арестантов происходили из среднего класса парижского и провинциального общества. Это были выходцы из уважаемых семей, имевших хорошее образование, обычно из среды адвокатов, преподавателей и докторов, хотя некоторых можно было назвать мелкими буржуа. Секретарь прокурора Денни Луи Журе был сыном мелкого чиновника («mesureur de grains»), отец секретаря нотариуса Жан Габриель Транше был инспектором на Центральном рынке («contrôleur du bureau de la Halle»), а отец студента-философа Люсьена Франсуа дю Шофура – бакалейщиком («marchand epicier»). Другие происходили из более известных семьей, которые объединились для их защиты и стали использовать свои связи и писать просительные письма. Отец Аллера, торговец шелком, писал к генералу-лейтенанту полиции одно прошение за другим, пытаясь обратить внимание на хороший характер своего сына и обещая предоставить рекомендации от его преподавателей и священника. Родственники Ингимберта де Монтаня уверяли, что он прекрасный христианин, чьи предки верно служили церкви или армии. Епископ Анже прислал рекомендацию, говорившую в пользу Ле Мерсье, который был примерным студентом в местной семинарии и чей отец, армейский офицер, не находил себе места от волнения. Брат Пьера Сигорня, молодой преподаватель философии в Коллеж Дю Плесси, напоминал об уважении к их семье «благородной, но несчастливой»[11], а директор колледжа подчеркивал ценность Сигорня как преподавателя:

Стрелочки указывают на тех, кто получил стихи.
Даты означают даты арестов.
Схемы распространения шести стихотворений
Репутация, которой он обладал в университете и во всем королевстве, в силу своего литературного таланта, его методики и важности тем, затронутых в его философии, привлекла в наш коллеж много школьников и пансионеров. Неуверенность в его возвращении лишает нас надежды на их прибытие в этом году и даже вынуждает некоторых уехать, что причиняет огромный ущерб коллежу… Я пишу это ради общего блага и будущего литературы и науки[12].
Разумеется, этим письмам нельзя полностью доверять. Как и ответы на допросах, они должны были заставить подозреваемого выглядеть идеальным гражданином, неспособным на преступление. Но из полицейских досье и не кажется, что речь шла об идеологически заряженных собраниях, особенно если сравнить их с досье янсенистов, которых полиция тоже пыталась поймать в 1749 году и которые не скрывали своего отношения к делу. Допрос Алексиса Дюжаса, например, показывает, что его и его друзей поэтические качества стихотворения интересовали не меньше, чем содержащаяся в них политическая сатира. Он сказал полиции, что услышал оду на ссылку Морепа (поэма 1), обедая с Аллером, студентом-юристом восемнадцати лет, в его комнате на рю Сен-Дени. В этом респектабельном зажиточном доме, где всегда был готов стол для молодых друзей Аллера, беседа пошла о литературе. В какой-то момент, согласно полицейскому отчету о допросе Дюжаса, «его (Дюжаса) отозвал в сторону Аллер, студент-юрист, гордившийся своими литературными талантами, и прочитал ему стихотворение против короля». Дюжас взял с собой переписанное стихотворение, сделал свою копию и читал его вслух студентам в разных ситуациях. После прочтения в обеденном зале коллежа он дал стихотворение переписать аббату Монтаню, который передал его Эдуару, чью копию получил Бони[13].
Пересечения в досье создают впечатление какого-то подполья духовных лиц и служащих, но никак не политического заговора. Очевидно, молодые священники, собирающиеся получить степень, любили шокировать друг друга стихотворениями, извлеченными «из-под полы» своих сутан. Можно было бы заподозрить их в янсенизме, потому что эта философия в 1749 году проникала повсюду (янсенисты обладали радикальными августинианскими взглядами на благочестие и теологию и были обвинены в ереси папской буллой «Unigenitus» в 1713 году). Но ни одно стихотворение не выражало симпатий к делу янсенистов, а Бони даже пытался обелить себя, яростно их осуждая[14]. Кроме того, священники часто выглядели скорее эстетами, чем фанатиками, и нередко интересовались скорее литературой, чем политикой; не только молодой Аллер стремился прослыть литератором. Когда его обыскивали в Бастилии, то обнаружили при нем два стихотворения – одно, осуждающее короля (номер 4), и другое, написанное в дополнение к паре подаренных перчаток. Он получил оба от аббата Гийара, пославшего перчатки и сопроводительное стихотворение – сочиненные им поверхностные «стихи на случай» – вместо уплаты долга[15]. Гийар получил еще более приземленные строки (номер 3) от Ле Мерсье, который в свою очередь слышал, как Тере читал их в семинарии. Ле Мерсье переписал стихотворение и добавил критические ремарки внизу страницы. Он был возмущен не содержанием, а формой, особенно в строфе, осмеивающей канцлера д’Агессо, где ужасным образом рифмовались слова «décrépit» и «fils»[16].
Молодые аббаты делились стихами со своими друзьями с других факультетов, особенно с юридических, а также с учениками, заканчивающими «philosophie» (последний год в средней школе). Их сеть опутала самые известные коллежи в Парижском университете – включая Луи-ле-Гран, дю Плесси, Наварр, Аркур и Байо (но не убежденно янсенистский Коллеж дю Бовэ) – и вышла за пределы Латинского квартала («le pays latin», как презрительно назвал его д’Аржансон). Допрос Гийара показал, что он получил свой набор стихотворений от священнослужителей, но распространял его среди людей светских, в числе которых был не только Аллер, но и юрист, и советник суда провинции Ла-Флеш, и жена парижского трактирщика. Передача информации шла через запоминание, записки и цитирование в местах дружеских встреч[17].
Прослеживая распространение стихов, полиция все дальше удалялась от церкви. Они добрались до судьи Верховного суда (Ланглуа де Жерара), секретаря прокурора Верховного суда (Журе), секретаря прокурора (Ладури) и секретаря нотариуса (Транше). Полиция вышла на еще одну группу студентов, по всей видимости, собиравшуюся вокруг молодого человека по имени Вармон, который заканчивал свое обучение философии в Коллеж д’Аркур. У него собралась приличная коллекция мятежных стихов, включая стихотворение № 1, которое он выучил и читал в аудитории Дю Шофуру, тоже студенту-философу, который передал его дальше по пути, в конце концов приведшему к Бони. Вармона спугнул арест Дю Шофура, о котором он узнал от Жана Габриеля Транше, секретаря нотариуса, который был к тому же полицейским осведомителем и потому имел доступ к внутренней информации. Но Транше не смог замести следы, так что он тоже отправился в Бастилию, а Вармон залег на дно. Через неделю Вармон, по всей видимости, выдал себя полиции, но был отпущен после дачи показаний о своих вольнодумных знакомых. В них входила небольшая группа служащих и студентов, двоих из которых арестовали, но они не смогли предоставить следующих зацепок. На этом этапе документы иссякают, а полиция, судя по всему, опускает руки, потому что след стихотворения № 1 становится таким неявным, что его больше нельзя отличить от всех стихов, песен, эпиграмм, шуток, сплетен и расхожих фраз, передававшихся по сети городских коммуникаций[18].
Глава 4
Идеологическая угроза?
Из-за того, что погоня за поэзией уводила полицию в столь разных направлениях, складывается ощущение, что следствие свелось к серии арестов, которые могли бы продолжаться бесконечно, так и не дойдя до самого автора. Куда ни глянь, повсюду оказывался кто-то читающий или поющий едкую сатиру на двор и короля. Это безобразие распространялось среди молодых интеллектуалов внутри духовенства и особенно прочно укоренилось в оплотах традиционной интлеллектуальной строгости, таких как коллежи или юридические конторы, где дети буржуа заканчивали свое обучение и профессиональную практику. Неужели полиция почувствовала гнильцу в самом сердце Старого режима? Возможно – но стоило ли к этому относиться как к мятежу? В досье упоминается множество беззаботных аббатов, юристов и студентов, желающих показать свое остроумие и с удовольствием передающих политические слухи в стихотворной форме. Это была опасная игра, куда более опасная, чем им казалось, но вряд ли она угрожала Французскому государству. Почему же полиция отреагировала так сурово?
Единственным заключенным, проявившим хоть какое-то серьезное неповиновение, был профессор философии в Коллеж дю Плесси – тридцатиоднолетний Пьер Сигорнь. Он вел себя не так, как другие. В отличие от них он все отрицал. Он дерзко ответил полиции, что не сочинял стихов, никогда не имел их копий, не читал вслух и не собирается подписывать протокол допроса, так как считает его незаконным[19].
Поначалу бравада Сигорня убеждала полицию, что они наконец нашли своего поэта. Никто из задержанных, кроме него, не колебался, указывая на свой источник информации, частично благодаря методам допроса: полиция заявляла, что тот, кто не сможет сказать, откуда получил стихотворение, станет подозреваться в том, что сочинил его сам, – и будет наказан соответственно. Гийар и Боссанкур уже подтвердили, что Сигорнь при разных обстоятельствах надиктовал им два стихотворения по памяти. Одно из них, № 2 «Quel est le triste sort des malheureux Français» («Как ужасна судьба злополучных французов»), имело восемьдесят строк; другое, № 5 «Sans crime on peut tranhir sa foi» («Сторонясь преступлений, можно предать свою веру»), имело десять строк. Хотя заучивание наизусть было популярно и хорошо развито в XVIII веке и некоторые другие заключенные по этому делу также были вовлечены в эту практику (Дю Терро, например, прочитал стихотворение № 6 Вармону по памяти, а тот запомнил его, пока слушал), такой выдающийся объем удержанной в памяти информации мог свидетельствовать об авторстве.
Однако ничто не говорило о том, что Сигорнь хоть как-то связан с основным произведением, за которым охотилась полиция: «Monstre dont la noir furie». Он просто занимал узловое место в схеме распространения, и полиция поймала его случайно, просто следуя по цепи от одного человека к другому. И хотя они хотели найти не его, это была крупная добыча. В своих отчетах полицейские описывают его как подозрительного типа, человека остроумного («homme d’esprit»), известного своими передовыми взглядами на физику. На самом деле Сигорнь был первым преподавателем ньютонианизма во Франции и его «Institutions newtoniennes», опубликованные двумя годами ранее, до сих пор занимают почетное место в истории физики. Профессору вроде него незачем было читать студентам бунтарские стихи. Но почему Сигорнь, в отличие от других, так дерзко отказывался говорить? У него не было записанных стихотворений, он знал, что его заключение будет более долгим и жестоким, если он не будет сотрудничать с полицией.
И, видимо, он действительно серьезно пострадал. После четырех месяцев в камере его здоровье настолько ухудшилось, что он решил, будто его отравили. Согласно письмам, которые посылал генерал-лейтенанту его брат, вся семья Сигорня – его пятеро детей и двое престарелых родителей – потеряли бы средства к существованию, если бы ему не позволили вернуться на работу. Его отпустили 23 ноября, но сослали в Лотарингию, где он провел остаток своей жизни. «Letter du cachet», пославшее его в Бастилию 16 июля, стало смертельным ударом для его университетской карьеры, но он так и не сломался. Почему?[20]
Полвека спустя Андре Морелле, один из философствующих молодых аббатов, собиравшихся вокруг Сигорня, еще хранил в памяти этот эпизод и даже одно из связанных с ним стихотворений. Морелле написал в своих мемуарах, что это стихотворение было сочинено другом Сигорня, неким аббатом Боном. Сигорнь отказывался говорить, чтобы спасти Бона и, возможно, некоторых студентов, которые находились под его влиянием. Один из них, Анне Робер Жак Тюрго, был близким другом Морелле и таким же студентом, готовящимся к церковной карьере. Тюрго попал под чары красноречивого ньютонианизма Сигорня в Коллеж Дю Плесси и тоже подружился с Боном; так что он тоже мог попасть в Бастилию, если бы Сигорнь заговорил. Вскоре после «дела Четырнадцати» Тюрго решил избрать административную карьеру; двадцать пять лет спустя он стал генеральным контролером финансов при Людовике XVI и выступил за то, чтобы сделать Сигорня настоятелем монастыря[21].
В студенческие годы у Морелле и Тюрго был еще один общий друг, шестью годами старше их и философствовавший куда смелее Сигорня: Дени Дидро. Они внесли свой вклад в «Энциклопедию» Дидро, которая должна была быть издана в разгар «дела Четырнадцати». Но издание было отложено, так как Дидро тоже исчез в тюрьме Шато де Венсен 24 июля 1749 года, через восемь дней после того, как Сигорнь попал в Бастилию. Дидро не писал вызывающих стихов о короле, зато написал антирелигиозный трактат «Письмо слепых в назидание зрячим», который пересекся со стихотворениями в ходе их распространения. № 5 было продиктовано Сигорнем Гийару и послано Гийаром Аллеру вложенным в «книгу, озаглавленную “Письмо слепых”»[22]. Продиктованные студентам-философам ведущим экспертом по Ньютону, стихи передавались вместе с антирелигиозным трактатом главного Энциклопедиста. Морелле, Тюрго, Сигорнь, Дидро, «Энциклопедия», «Письмо слепых», закон обратных квадратов и сексуальная жизнь Людовика XV беспорядочно переплетались друг с другом в каналах связи Парижа XVIII века.
Значит ли это, что город был заминирован и готов взорваться? Конечно нет. Ни в одном досье нельзя уловить запах зарождающейся революции. Аромат Просвещения – да; намек на идеологическую неприязнь – безусловно; но никакой угрозы государству. Полиция часто арестовывала парижан, которые открыто оскорбляли короля. Но в этом случае они устроили облаву по всем коллежам и кафе Парижа; и когда они поймали какое-то количество молодых аббатов и юристов, то обрушились на них со всей силой абсолютной власти короля. Зачем? Чтобы задать вопрос, который Эрвинг Гоффман, судя по рассказам, считал начальным пунктом всех исследований в науке: «Что происходит?»
Операция кажется особенно загадочной, если обратить внимание на то, как ее проводили. Инициатива шла от самого могущественного человека во французском правительстве – графа д’Аржансона, так что полиция выполняла приказ с величайшим тщанием и соблюдая секретность. После кропотливых приготовлений они хватали одного подозреваемого за другим, и их жертвы исчезали в Бастилии, лишенные всякой связи с внешним миром. Проходили дни прежде, чем их друзья и родственники узнавали, что с ними случилось. Глава Коллеж де Наварр, где учились два подозреваемых студента, писал отчаянные письма генерал-лейтенанту, спрашивая, не находила ли полиция их тела. Это были примерные студенты, неспособные на преступление, он настоятельно просил: «Если вам известно что-то об их судьбе, во имя Бога, скажите, живы они или мертвы. Из-за этой неясности мое положение еще хуже, чем у них. Их уважаемые друзья и родственники спрашивают меня каждый час о том, что с ними случилось»[23].
Такая скрытность позволяла полиции следовать по цепочке, не спугнув автора. Как и в случае с Бони, они использовали разные ухищрения, чтобы заманить подозреваемых в экипаж и мгновенно умчать их в Бастилию. Обычно они давали жертве пакет и говорили, что его передает человек в экипаже, желающий обсудить с ними некое дело. Никто из подозреваемых не смог устоять против искушения любопытством. И все они бесследно исчезли с улиц Парижа. Полицейские превозносили свой профессионализм в отчетах д’Аржансону, а он поздравлял их с успехами. После первого ареста он приказал Беррье удвоить старания, чтобы власти могли «по возможности достичь источника этой мерзости»[24]. После второго ареста он снова стал подгонять генерал-лейтенанта: «Месье, мы не должны позволить нити ускользнуть от нас теперь, когда она в наших руках. Напротив, мы должны добраться до ее начала, как бы высоко она ни вела»[25]. После пяти арестов д’Аржансон ликовал:
Месье, это дело расследовали, прилагая все внимание и сообразительность; и если мы зашли так далеко, то просто обязаны довести его до конца… Вчера вечером, на рабочем заседании с королем, я предоставил ему полный отчет о течении этого дела, о котором не упоминал со времени ареста первого из них, преподавателя у иезуитов. Мне кажется, король был очень доволен тем, что уже сделано, и хочет, чтобы мы довели все до конца. Этим утром я покажу ему письмо, которое вы написали вчера, и так буду поступать со всей информацией по делу[26].
Людовик XV, довольный первой серией арестов, подписал для полиции еще несколько «lettres de cachet». Д’Аржансон регулярно докладывал ему о ходе расследования. Он прочитал доклады Беррье, вызвал его в Версаль 20 июля на срочное совещание перед королевским «lever» (церемониальным началом дневных занятий короля) и послал за копиями всех стихотворений, чтобы тот не оказался с пустыми руками перед аудиенцией[27]. Такого внимания на самом высшем уровне было достаточно, чтобы вызвать к жизни все репрессивные инструменты государства. Но, опять же, что вызывало такое беспокойство?
На этот вопрос нет ответа в документах из архива Бастилии. Строить предположения об этом можно, только выйдя за рамки сети коммуникаций, намеченной выше. Схема передачи информации между аббатами и студентами может быть точна на определенном этапе, но она лишена двух ключевых элементов: связи с элитой, стоящей выше этих буржуа, и связи с простым народом, стоящим ниже. Эти две черты хорошо видны в записи того же времени о том, как распространялись в обществе политические стихи:
Подлый придворный кладет их (очерняющие стихи) на музыку и, трудами простых слуг, наполняет ими рынки и уличные лавки. С рынков они попадают к мастеровым, которые передают их тому же аристократу, который их сочинил и который, не теряя времени, бежит в Ой-де-Бёф (место встреч в Версальском дворце) и шепчет другому тоном законченного лицемера: «Вы их читали? Вот эти. Их поет простой народ в Париже»[28].
Несмотря на предвзятость, это описание свидетельствует о том, что двор мог внедрять сообщения в сеть коммуникаций и получать их из нее. То, что эта информация шла в обе стороны, зашифровывалась и расшифровывалась, подтверждает и замечание в дневнике маркиза д’Аржансона, брата министра. 27 февраля 1749 года он записал, что какой-то придворный упрекнул Беррье, генерал-лейтенанта полиции, за то, что он до сих пор не нашел источник стихотворений, очерняющих короля. Что случилось? Неужели он не знает Париж столь же хорошо, как его предшественники? «Я знаю Париж настолько, насколько возможно его знать, – ответил Беррье, согласно записи. – Но я не знаю Версаля»[29]. Другое указание на то, что стихи могли быть написаны при дворе, есть в дневнике Шарля Колле, поэта и драматурга из Опера-Комик. Он комментировал многие стихотворения, оскорбляющие короля и мадам де Помпадур в 1749 году. На его наметанный взгляд, только одно из них могло быть написано «профессиональным автором»[30]. Остальные пришли из придворных кругов – он мог сказать это по их неуклюжей рифмовке.
Мне дали расхожие стихотворения против мадам де Помпадур. Из шести только одно чего-то стоит. Более того, по их неряшливости и злобе очевидно, что их писали придворные. Нет ни следа поэтического дарования, к тому же нужно бывать при дворе, чтобы знать некоторые детали, упомянутые в стихотворениях[31].
Короче говоря, большая доля стихов, распространяющихся по Парижу, была написана в Версале. Их благородное происхождение может объяснить призыв д’Аржансона к полицейским идти за каждой нитью, «как бы высоко она ни вела», и утрата интереса к делу в тот момент, когда все следы растворились среди студентов и священников. Но придворные часто развлекаются сочинением язвительных стихов. Они занимаются этим с XV столетия, когда остроумие и интриги цвели в ренессансной Италии. Почему же это дело вызвало такую необычную реакцию? Почему д’Аржансон вел себя так, как будто оно имеет огромное значение и требует срочных тайных совещаний с самим королем? И что такого в том, что придворные, которые вообще-то и изобрели этот тип поэзии, смогли устроить так, что ее цитировали простые парижане?