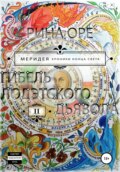Рина Оре
Ноль рублей в месяц. Первый эпизод
– Водки хочешь? – настороженно спросила своего гостя Марья.
– Эээ… – задумался Иван. – Не знаю, честно говоря… Не особо… и так объелся. Спасибо вам самое больщое-большущее, милая барышня. Ничего вкуснее, чем ваша картошка, в жизни не ел.
«Милая барышня» молча его разглядывала.
– Мне в огород надо, – наконец сказала она. – Полоть картошку.
– Помочь?
– Сама справлюсь. Сиди пока. Жди.
«Странная она, но пусть – имеет на это право…»
Марья ушла. Иван посидел за столом, потом, желая сделать что-нибудь доброе в ответ на угощение, помыл миску в кадушке, стоявшей у стены на узком столике (почему-то он точно знал, что это заготовлена была вода для мытья посуды). «Деревенский я, что ли?..»
Тут открылась дверь – дед Афанасий принес стеклянный, современный, «мейд ин Чайна», чайник – в нем плескался нежно-желтого цвета напиток.
– Липовый цвет, – пояснил дед. – Тебе самое то – для живота полезно. Болен ты, лечись… а то в свои молоды года – старая развалина.
– Замечательные вы люди… Жаль, я вам даже денег не могу в благодарность оставить.
– И добро, – взяв с полки чашку и поставив ее на стол, налил в нее чая дед. – Денег мы сторонимся – их бесы выдумали, дабы жадность в нас растить. Благ токо обмен.
– И что на что меняете? – вновь сел за стол Иван.
– По-разному и редко, – устроился напротив него дед. – Но, бывает, чёт надобно… Стекол, самоваров и других железов… Вот глянь, что принес показать.
И он выудил из кармана своего черного платья раритет – серебряные карманные часы – те, что на цепочке в фильмах носят. Когда же Иван глянул на циферблат, то едва не подавился липовым чаем, узрев фашистского орла и свастику. Был там и год проставлен. Слева, под крыльями орла, «19», справа – «38».
– Ого! – не сдержался он. – А у вас тут, поди, в Писькино, и впрямь музей.
– Музей не музей, а ентой дряни у нас хватает. Коль по нраву – дарю.
– Нееет, – защелкнул крышку часов Иван. – Большое спасибо, от всей души благодарю, но нет. Не по нраву… И не немец я, сколько говорить? Русский я! Свой!
– Не звезди. Нет на Руси пальм! Раз не немец, то права Марья – тальянец ты.
– Ладно, пусть итальянец, но всё равно я русский. А откуда вы о них и о пальмах, вообще, знаете?
– Нууу… У ее, у Марьи, – зашептал он, – где-т припрятано зеркальце хитрое – чё у его не спросишь, всё тебе покажет.
– Прям как из сказки, – усмехнулся Иван. – Круто – телека не надо!
– А енто чё такое? Телек?
– Коробочка такая… с живыми картинками… Только она показывает то, что сама хочет… Если без видика…
– Тады, выходит, у Марьи телек с видиком, – задумчиво проговорил дед.
«Планшет или смартфон у нее!»
– А глянуть можно?
– Нет. Енто тебе не шуточки! Енто вещь нечистая! Раз глянешь, второй… а потом уж не оторваться от телека с видиком. Весь розум из тебя высосет. На том и работает, паразит.
Иван широко улыбался.
– А ты не смейся, плачидо, – нахмурился дед. – Лучшая скажи-ка, чё делать дале будёшь? Куды шел? Куды те надобно?
– …Если бы я знал. Не помню ничего о доме, о семье… Даже как здесь очутился, не понимаю.
– Как-как… Раз взаправду ничего не помнишь – то енто черти тебя сюды приволокли.
– Черти? – опять заулыбался Иван.
– Черти-черти. Ты, Ваня, свою жизнь им продал! – ошарашил Ивана дед. – И купил чужую. Нууу… тады, путей тебе назад, из нашего Писькино, нет…
– Да ну… ладно вам. Что за бредни, уж извините?!
– Темный ты человек, но, считай, на диво счастливый, раз к нам угодил, а не куды-то еще. Видать, не твоя паршивая жизнишка им нужна была, а жизнь того, праведника иль страдальца, какому они твою жизнь продали. Хотя, им любой сгодится…
– И зачем?
– Работа у их такая. Людя́м – трудиться, чертям – глумиться, – Бог так повелел.
«Ересь какая-то…»
– Вы же вроде верующие, – неспешно попивая чай, произнес Иван вслух.
– Отож! С сего и суть ихняя, чертячья, нам ясная. И коль Бог их на земле терпит, то и от чертей, выходит, польза бывает. Но лучшей, Ваня, боле с ими делов не имей. Явится кто к тебе, незнакомый, ты ему не спеши руки жать и ничё от его напрямую не бери, не то мелких бесов, как вшей, подхватишь. Часы сперва покажи – черт либо уставится на стрелки, либо убежит, как ошпаренный.
– А если не убежит?
– Сам от его уходи, закройся от его. Он просто так в дом не войдет, дверь не отворит. А если уж впустил его, то, держа пред им часы, выведи черта за порог да пни ногой под зад.
– А немцев вы отчего так не любите? Я всё понимаю: война была страшная, но уж столько лет с тех пор прошло.
– Так-то да, прав ты, Ваня. Интарвентов мы прогнали вроде, как казалось. Но поди сызнову с ими война у нас. Спасу никакого от их нет! В лес едва зайдешь, а из куста тебе енти «ханде-хохи» в спину своими томатами тычут. И не то чтобы страшно, да всё ж неприятно умирать… Бьют, мучают – мол, веди до дому… Потом время назад крутить приходится… А енто тоже не дело. С временем шутки не шутят!
«А дед-то, похоже, ку-ку!»
– Не веришь? Лады… На кладбище сведу тебя. Сам глянешь. Четырьста шостьсят и чатыре могилки, немецкие. А иначе б были нашенскими. Меня самоего чатыре раза стреляли и шость раз по башке прикладум усмерть убили.
– Так вы здесь, в Писькино, бессмертные, что ли? – сдерживал улыбку Иван, но смеялся глазами.
– Зачем? Но помирать, Ваня, надобно нам в благости и радости. Кода Бог призовет, а не коды «ханде-хох» захочет. Нас и так тута мало.
– А они у вас только в лесу водятся? «Ханде-хохи» эти? Партизаните? – охотитесь на них в крупных масштабах?
– Леший у нас тута главнай партизан. Он к нашим избам чужаков не пущает.
– Еще и леший есть!
– И, слава Богу, чё уже не водяной! Видал святой источник? Там ента тварюга ране сидела. Всех жрала, кого учуяла, а затем вновь под куст! Но мы-то, как сюды пришли – от интарвентов мы бежали – крестом ее! – и нет водяного. Там тепереча не смерть – там жизнь. Крест и тот как новенький!
– А леший у вас что в свободное от немцев время делает?
– Кто ж енту нечисть знает? Когда сыт и доволен, он старым пнем прикидывается, когда спит – храпит – тогда он сухостой с дуплом, когда голоден – глаза и пасть раззявит да корягой валяется. Приметит человека – и давай его плутать. Глупый человек думает, что кругами по лесу ходит, а енто леший округ его бегает.
– Зачем?
– Затем. Работа у его такая. Рано иль поздно дурак сядет на корягу – и леший его пастью хвать! – да под землю утащит.
Иван уже не улыбался.
– Да не боись, – хлопнул его по плечу дед. – Мы тебя обучим. Леший не до мясу охотник, а шмоточник он, барахольщик… Вань, а ты енто, давай-ка к нам, лесником устраивайся. Всем людям трудиться положено, а пахарь из тебя… У меня будёшь поперва жить. Дале – глянем. Невест у нас много. Кровь твоя, тальянская, общине на пользу пойдет… А то одни Писькины и Попкины округ.
Иван рассмеялся.
– Еще и Попкины? А Сиськины здесь кто?
– Не пошли тута мне, срамник! – обиделся дед Афанасий. – Говорю ж – диссиденция мы. Страдаем за убеждения. Попкины – из деревни Попкино, Сопляковы – из Сопляково, Мошонкины – из Мошонков… Сиськиных нет, но есть Сосковы. Из Сосково. На твоё фамильё еще взглянем! Хер ты наш плачидо! Выделяться из нас всякими Иванами Ивановыми мы не позволим, раз ты свой!
– Ну простите, пожалуйста, я не со зла. А где, кстати, мы находимся? В какой области?
– Кто ж енто знает? Мотаются такие, как наши, деревни по всея Руси-матушке. То уж почти к китайцам занесет, то к поляка́м забросит… Поймешь, где ты, енто лишь тоды, кады из лесу нашенского в циливилизацию выйдешь.
«Дед всё же с поехавшей крышей… Жалко, приятный…»
– То есть у вас еще и лес волшебный?
– Волшебный не волшебный, а в чём-то ты прав. Черти нам енту службу сослужили, на пользу хоть раз сгодились… Пошли, Вань, – встал из-за стола дед. – Ко мне пошли – в баньку, отмоем тебя теперича, а твою мундиру позорную сожжем…
Когда они вышли из избы, то Иван разглядел вдали Марью, возвращающуюся из леса с ведром воды.
– Как невеста на свадьбу вынарядилась, – неодобрительно кивнул на яркую, красную фигурку дед Афанасий. – Неспроста… Мыслю я, Ваня, что енто для её тебя черти сюды приволокли. Сызнову с ими в карты сыграла!
– Так она у вас местная ведьма, что ли?
– Нет, ты чё? Она… нууу… ведьмочка… Бабка ей дару черного не передала, но премудростям кой-каким обучила…
Дед Афанасий потянул Ивана за рукав мундира.
– Пшли…
*
Деревня Ивану понравилась. Вроде ничего особенного – дворы как дворы, сплошное неяркое дерево, однако сразу было понятно, что люди здесь живут работящие. Никто не сидел, отдыхая, выпивая или играя, – все, даже детвора, что-то да таскали или суетились по хозяйству. Одни откормленные, жирные свиньи лениво разлеглись в теньке или у опустошенных корыт…
«Небогато, скромно, просто, но ничуть не убого, – замечая ровные плетни, думал он. – Даа, здесь не бухают… Хорошо, что я от водки у Марьи отказался… И тем более ничего спереть не попытался – да и куда потом с награбленным бежать? К лешему-барахольщику на торг, под землю, что ли?»
Избы, разделенные обширными огородами, стояли на приличном расстоянии друг от друга. А чем дальше – тем дома попадались всё наряднее и шире. Самый лучший двор, одетый в невысокий забор и ворота с портиком, разумеется, был у деревянной церквушки – тоже, по сути, большой избы, увенчанной единственной луковкой-главкой с крестом. Как Иван и думал, дед Афанасий имел отношение к церкви – он назвался смотрителем Божьего храма, пояснив, что попов в общине нет и не было.
А за церковью находился двор деда Афанасия. Жил он один, если не считать ласковой рыжеватой собачонки Мульки и черно-белого, потрепанного, как заправский бандит, кота Николая; скотины дед не держал, в огороде выращивал лечебные травы и цветы, обменивая сборы на нужные ему продукты. Избушка его внутри оказалась обителью аскета, зато просторной, то есть незахламленной, и чистой. Спальное место Ивану дед определил на лавке.
Вместе они растопили баньку. А после бани Иван, будто с грязью смыв прошлое, почувствовал себя новорожденным. Дед тоже нарядил его в длинное черное платье, подобрал ему по размеру отличные немецкие сапоги. Бритвы, по утверждению Афанасия, во всей деревне ни у кого отродясь не имелось. (Бросай тальянский замашки, Ваня, рощи бороду, как нормальнай русскай мужик).
Так, за превращением «тальянца» в «нормального русского мужика», подоспело время обеда – Иван это понял, потому что зачастили женщины с гостинцами для гостя. Дед Афанасий на них бухтел, цыкал, велел нести свои пряники восвояси и не развращать его подопечного. Но женщины, посмеиваясь, ворчуна упорно не слушались – мол, ничё-ничё, пущай немецкая скелета котлеты отведает, а то, видать, нище у них там, в Италиях, вовсе кушать нечего, – снег и пальмы одни – прутся без конца на Русь! Словом, обед выдался по местным меркам царским – копчения и жарения, сало, селедка и яйца, квашенья, консервации, мед и хлеба всех сортов… Лишь Марья ничего не принесла.
Садясь за заставленный угощениями стол, Иван понял, что он хочет стать своим здесь, в Писькино, что хочет здесь дом. Он, должно быть, долго его искал – то место, где прежде дают, а не пытаются получить, где не кидают и где у него не возникает желания никого кинуть…
Неспешно обедая, Иван и дед Афанасий вновь заговорили о чертях, вернее, Иван попросил рассказать ему о загадочной «ведьмочке» Марье. Двигало им банальное любопытство. Не каждый день встретишь ту, кто с чертями на короткой ноге!
– Черти, Ваня, – просвещал его дед, – тока в Аду рогатые и хвостатые. По земле они в людском обличье мотаются. Обличье не меняют, стареть не стареют, одёжу и ту, пока до дыр не износят, не выбросят. Раздеваться они не любят!
– Почему?
– Бог так решил, чтоб нам, людя́м, помочь енту пакость распознать. Черт всегда ляжет спать в дневной одёжде и обувки наверняка не скинет. А черти они, Ваня, разные: есть и жулье всех мастей, и купцы, и трактирщаки, и банщики, и даж попы. В карты же токо высшие из их играют – на душу твою, бессмертную. Сулят богатств несметных, любвови, славы… На енто точно не ведись. Енто всё предметы сложные, люзорные, – миражи! Ни потрогать, ни понюхать, ни во рте распробовать! Прежде, чем жать им руку, надобно подробно черта расспросить. Черт – тварь хоть и лукавая по сущности, как вся нечисть, а всё ж честно на все твои вопросы ответит, – Бог так решил, позволив им среди нас шататься. Если правильные твои вопросы будут, то, можь, получишь от черта, что хошь. Хотя они незбежно, из принципу своего зловредного, подлянку, пущай и самую мелкую, да подкинут! Черти, чё с их взять. Ну а дале, коды сел с чертом в карты играть… молись не молись, Бог не услышит. Всё на волю случая… Проиграешь черту – помрешь, а он в демона обратится, но о демонах как-нибудь потом. Выиграешь – черт любое чудо исполнит, иначе сам помрет. Так вот, значит, когда мы настрадались из-за интарвентов, монархистов и опиумов для народу, да к двадцать второму сбежали сюды, Марья, мала девчонка, впервые с чертом сыграла в карты – на то, чтобы оставили нас все в покое! И белые, и красные, и попы, и любое вражье нерусское. С тех пор наша деревня мотается по Руси – сегодня там, завтра сям! Никто сюда точного ходу не знает. Но и нашанские ходоки должны, когда в циливилизацию ходят, вернуться до закату в лес наш… Летом-то вроде бы сподручнее енто – день долог, а всё ж коварство в ентом и есть. На юга, к примеру, занесет нас – у нас-то в лесу светло, а там уж темно. Замешкаешься – и всё – дверца к нам закрыта! А мы своих терять не могём! Да в беде своего не бросим. Призвала тоды Марья черта во второй раз. Выиграла. Получили мы часы с цифирями, какие время крутят. Но тута тож не всё просто. Оно, время, в ответ как порой скакнет вперед! И цельный год порой после назад, к нулям, падает… Да и лады говорю, Марья, переживем – не играй больше с чертями в карты, по черте ходишь! Но не выдержала – на зеркальце соблазнилась. Мир, мол, хочу глянуть и умнай быть!.. Вот на кой ей ентот ум, да, Вань? Горести и беды одни от такого уму! Эх, хорошо хоть то, что черт ей телек с видиком без звука подсунул!
Иван не выдержал и расхохотался.
– Прости, дед, – смеялся и смеялся он. – Я не над тобой смеюсь, хотя сказок ты мне наплел с три короба! Начиная с бегства от интервентов в двадцатых девятнадцатого века. Сто лет назад это было! Поверь мне, сейчас уже двадцать первый век! Разуй глаза: у тебя чайник китайский! Ширпотреб! Не чертовы часы время крутят, а ты, Афоня, попутал истории бабок с реальностью!
Дед молча встал и полез за печку.
– Не обижайся, Афанасий… Я же как лучше для тебя хочу!
– Знаешь что, Ваня, немчура тальяская, – бурчал у печки дед, копаясь в каких-то тряпках, – ты тута, в Писькино, не самый умный! А самый большой дурак. Три дня обратно меня сызнова насмерть «ханде-хохнули» – и мы время вспять крутанули… Можь, ты и пришелец из будущности, но… О, нашел! – и он направился к Ивану. – Вот, – бросил он на стол что-то мелкое. – Вот что у того «ханде-хоха» в котомке было!
Иван, перестав улыбаться, глядел на новенький, тонкий, коробок с надписями на немецком, с фашистским орлом и со свастикой. Слева под крыльями орла чернела цифра «19», справа – «43». Иван взял в руки коробок, открыл его, внимательно рассмотрел. Ну никак не мог, валяясь за печкой, так великолепно сохраниться этот бумажный «экспонат»!
– И какой сейчас, по-твоему, год? – ошеломленно спросил он.
– Точно не знаю… Но знаю, что если год часы чертовы не крутить, время точно к нулю вернется. И вновь станет сорок третий… Можь, уж завтра станет, можь, через неделю, можь, через год. Часы-то у нас от чертей! Барахлят…
– А можно на них, на те часы, посмотреть?
– Нет.
И подумав, дед Афанасий взял с полки бутылку с толстым горлом. Это оказалась водка. По крайней мере так утверждала скромная этикетка от «Главспирта». На ней были, кроме общей цены, проставлены цены за бутылку и за пробку. «ВОЗВРАЩАЙТЕ ПОСУДУ и пробку» – требовала этикетка.