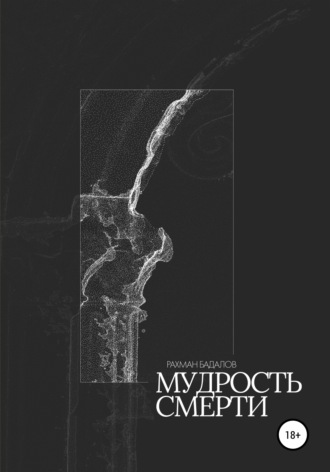
Рахман Бадалов
Мудрость смерти
При этом мы не должны исключать, что историческая память может быть глухой, злобной, самоублажающей, полной скрытых комплексов, которую мы вправе назвать рабской, когда можно заблудиться в собственной памяти.
Но в контексте настоящего эссе речь идёт о другом: следует ли вопрос Аристотеля – «насколько человечески-смертное способно к бессмертию» – отнести только к публичной сфере?
Следует ли нам считать, что только в сфере публичного человек способен реализовать свободу, в то время как в сфере приватного он действует по необходимости?
Величие древних греков в том, что в греческих полисах люди могли реализовать себя на площади, на агоре, публично, перед всеми. Но сами древние греки признавались, что приватная сфера, дом, семья, «ойкос» носили у них второстепенный характер, в ойкосе могли только заботиться о сохранении в устной традиции семейной генеалогии, внук мог получить имя деда, внучка имя бабки, не более того.
При всём величии древних греков, не должны ли мы признать, что пренебрежение приватной сферой сделало их нечувствительными к тому, что можно назвать «тонкими душевными переживаниями»?
Не будем торопиться с ответом.
Приблизительно также трактует Х. Арендт различие публичной и приватной сфер во французской культурной традиции в Новое время:
«своеобразная чарующая нежность французской повседневности, одновременно милой и надёжно-простонародной, возникла, когда распалась некогда великая и славная публичность этой нации, и падение вынудило народ уйти в приватность, где он и показал своё мастерское умение в искусстве быть счастливым в четырёх стенах, между постелью и гардеробом, столом и креслом, в окружении собаки, кошки и горшка с цветами… [в результате] во всём правят прелесть и очарование, а не величие и значительность».
Вновь хочется задать вопрос, так ли уж недостойно человека, способного на публичность, это «семейное счастье между постелью и гардеробом», нет ли в этом своего «величия и значительности», своей экзистенциальной свободы?
Поэтично пишет Х. Аренд о смерти, как «исчезновение из явленности», апеллирует к Гёте, который называл старость «постепенным отступанием из явленности», вспоминает автопортреты великих, Рембрандта и Леонардо, которые гениально зафиксировали интенсивность этого последнего взгляда старого человека, наблюдающего за собственным исчезновением.
Действительно, смерть, как бы её не трактовать, – исчезновение из явленности. Смириться с этим трудно, непостижимость смерти останется тайной, которую нельзя разгадать, но нельзя не разгадывать.
Действительно, публичность – пространство «явления», в котором человек выходит на авансцену, на свет (буквально, «освещённый», в лучах света), чтобы его видели другие, чтобы он видел других в пространстве совместных слов и совместных поступков.
… Заметим только, что это в равной степени относится и к женщинам, которые имеют право выйти из тени, имеют право быть «освещёнными», чтобы в публичном пространстве реализовать себя с помощью слов и поступков …
Но означает ли всё это, что приватная сфера, по определению обречена на забвение, что «свет», пусть не яркий, пусть приглушённый, затемнённый, но свет, не в состоянии проникнуть в эту сферу?
Можно ли допустить, что траурный ритуал, человеческий (открытый, искренний, тёплый, доверительный) как для умирающего, так и для близких умирающего, продолжаясь в памяти, станет ещё одним доказательством того, что «человечески-смертное» способно к бессмертию?
Человечество – пустой символ, если игнорировать, что он не просто механическая сумма отдельных людей,
Человечество – пустой символ, если сводить его к историческим событиям,
Человечество – пустой символ, если игнорировать опасность «общего, пожирающего различия»,
Человечество – пустой символ, если за пространством «явленного» не видеть то, что прячется за ярким светом в четырёх стенах, между постелью и гардеробом,
Человечество – пустой символ, если не восторгаться и не печалиться по поводу того, что жизнь человека мимолётна и хрупка.
Каждый человек сохраняет приватную память о своих близких, родных, кто-то в дневниках, воспоминаниях, сохранённых письмах, кто-то просто в памяти, как запомнилось, так запомнилось, словами, событиями, или почти подкорково, внезапно нахлынувшей памятью запахов, прикосновений, чем-то другим словами невыражаемым.
Можно ли сохранить память о том, что по определению уходит в затемнение, можно ли сохранить память об этой мимолётности, об этой хрупкости, об этой смертности?
Как при этом избежать «дурной бесконечности», чтобы приватная память не оказалась лживо-возвышенной, холодной, чёрствой, плаксиво-сентиментальной?
Можно ли сохранить память о том, что по определению уходит в затемнение, можно ли сохранить память об этой мимолётности, об этой хрупкости, об этой смертности?
Вопросы без ответов.
М. Ханеке: фильм «Любовь»: что остаётся после смерти в жилище людей?
Разговор о фильме М. Ханеке следует рассматривать как своеобразный мост от рассуждений о смерти, к рассуждениям об архитектуре, которая по существу и создаёт пространственную среду обитания человека, в которой он живёт и умирает.
Итак, фильм Михаэля Ханеке «Любовь».
Двое старых людей. Он и она. Мужчина и женщина. Муж и жена.
Жена смертельно больна. Позволяет себе капризничать. Возможно, это было в их отношениях и до болезни, сейчас предельно обострилось.
Муж нанимает сиделок. Ни одна не уживается. Приходится от них отказаться. Мужу приходится самому стать сиделкой.
Отказывается он и от помощи дочери. Об отношениях матери и дочери можно только догадываться. Что-то их связывало, музыка, например, оба музыканты. Но многое отторгало, может быть, та же музыка.
В тот последний период отец объясняет дочери, что она здесь больше не нужна. Ничего обидного, совесть дочери может быть спокойной, она должна понять, в её помощи (пустых расспросах, формальном сострадании) они больше не нуждаются.
Они остаются одни, наедине друг с другом, укрытые от мира, изолированные от других людей, в том числе и от собственной дочери. Остаются, отданные друг другу. Любовь?
Они остаются одни, наедине друг с другом. Муж в качестве сиделки не церемонится. Может накричать на жену. Заставить подчиниться. Жена всё принимает, даже успокаивается. Любовь?
Муж позволяет себе даже задушить жену, когда она перестала быть собой, когда перестала быть человеком, когда превратилась в овощ. Любовь?
Есть вопросы, которые не предполагают ответа.
После смерти жены, муж и жена одеваются, и навсегда покидают свой дом, свой «ойкос».
После их ухода в свой дом, в свой «ойкос» возвращается дочь, здесь всё ей знакомо не только в вещах «от постели к гардеробу», в самой атмосфере дома живёт память о прошлом, во многом словами «невыразимая», вспомнишь и не поймёшь, что вспомнил, заплачешь и не поймёшь, по какому поводу заплакал. Она, дочь, хранитель этой памяти, поэтому и возвратилась в этот дом.
М. Ханеке на этом завершает свой фильм, а нам остаётся додумывать и задавать вопросы.
Как сохранить память о том, что происходило здесь, в пространстве внутри четырёх стен?
Без этой памяти (в том числе и без этой памяти) что-то человеческое мы теряем, без этой памяти (в том числе и без этой памяти) у нас возникает чувство покинутости, мы впадаем в депрессию, мучаемся от одиночества.
Без этой памяти нас охватывает страх смерти не просто как физического распада, но и как исчезновения, после которого не сохранится память о нас.
Но мы не знаем, как сохранить эту память, не просто как семейную генеалогию, а как чувство сопричастности к тому, что будет происходить в мире, в котором нас не будет.
Стена: внутри и вовне.
Разговор об архитектуре возник не случайно. Само эссе в целом родилось из разговоров с внуком (он закончил университет по архитектурной специальности) о том, какой должна быть мемориальная архитектура в наши дни, а «мемориал» в камне или в памяти – прямое продолжение того, что думает и говорит о смерти культура.
Архитектура как деятельность человека создаёт одновременно функциональное и символическое пространство, т.е. пространство в которое можно вчитывать смыслы, реинтерпретировать эти смыслы и передавать их от поколения к поколению.
Роберт Вентури считал, что «стена – архитектурное событие». На мой взгляд, стена более чем «архитектурное событие».
Стена – единица измерения архитектуры, её инвариант, её фрактал.
Стена отделяет то, что там, вовне, от того, что здесь, внутри.
Стена отделяет то, что требует открытости, от того, что прячется в обособленность.
Стена отделяет человека в образе культуры, одежда, осанка, запахи, слова, жесты, от человека, без осанки, без слов, без жестов, человека, который не боится остаться один на один со своим телом, со своим запахом, даже с грязью своего тела.
Стена отделяет человека от пространства, в котором следует говорить, от пространства, в котором хочется молчать.
Стена отделяет человека от пространства, в котором он жаждет, чтобы его слышали и слушали «чужие», от пространства, в котором человек старается, чтобы его не слышали и не слушали «чужие».
Стена отделяет пространство где шумно, от пространства где тихо, но нередко случаются патологии, в пространстве где шумно, где много говорят, никто никого не слышит, никто никого не понимает, настолько, что человек от отчаяния готов покончить с собой, а в пространстве, где тихо, где можно говорить вполголоса, люди переходят в крик, в исступленный крик, настолько лишённый смысла, что человек от отчаяния готов покончить с собой.
Стена содержит в себе окно и дверь, столь же функциональные, сколь и символические.
Дверь, порог, нужны, чтобы можно было выйти из дома, пойти туда, где публика, где много слов и поступков, и вернуться домой, туда, где нет публики, и нет особой потребности в словах и поступках.
Окно нужно для того, чтобы при необходимости заглянуть туда, где публика, а если хочется от неё отгородиться, просто задернуть гардины.
Стена может быть сплошь стеклянной, чтобы больше света, чтобы одновременно и там, вовне, и здесь, внутри, но она может утомлять своей прозрачностью, неразделённостью «света» и «тепла».
Там, вовне, за стеной, «стена закона», как говорили древние греки. которая и создаёт политическое пространство, для тех, кто способен реализовать себя в этом пространстве, здесь, внутри, в лучшем случае законы предков, семейные традиции, там, за стеной, победы (если они случаются) и поражения (без них не обходится), здесь, внутри, зализывание душевных ран, залечивание душевных травм.
«Когда мы строим дома, мы говорим и пишем», говорил Л. Витгенштейн, пожалуй, это в первую очередь относится к стене.
Будем считать, что публичное и приватное свидетельствует о том, что в человеке, мужчина это или женщина, есть два человека, для полноты жизни он должен быть и «там», и «здесь».
Согласимся с феминистами, различение публичного и приватного не должно закрепляться как различение жизненных ролей мужчины и женщины. Публичное столь же необходимо женщине, как приватное – мужчине, женщине столь же необходимо реализовать себя в общественных ролях, сколь мужчине необходимо реализовать себе в чувствах, в оттенках чувств.
Возникает вопрос: мы более или менее представляем себе, как осуществляется память в сфере публичного, история, история культуры, со всеми своими разновидностями и есть эта память. А как осуществляется, как должна осуществляться память в сфере приватной?
Конечно, можно сказать, что существует история приватной, частной жизни, которая пишется на основе дневников, воспоминаний, частной переписки и многого другого. Это то, что транслирует сфера «внутри» во сферу «вовне», как запечатлевается приватная сфера в сфере публичной. Это очень важно, приватное должно уметь говорить о себе языком публичной сферы.
Вопрос в другом: исчерпывает ли себя приватное этой историей, может ли исчерпать?
Дочь из фильма М. Ханеке, которая возвратилась домой после того, как навсегда ушли из дома её родители, возвратилась в пространство, в котором сохранились следы прошлой жизни, которые в состоянии расслышать, прочувствовать только она.
Можно допустить, что как живой человек, она захочет поделиться этими следами жизни с другими, если найдутся эти другие, но можно ли и как рассказать об этих «следах жизни» другим, способны ли они услышать?
«Невыражаемость» смерти.
Можно повторять вновь и вновь, что смерть – это серьёзно, что смерть – это на всю жизнь, что смерть требует соучастия близких и родных, что «смерть» во многом должна преодолеваться в воспоминаниях близких, но мы должны признать, что величие смерти, её мудрость, заключается в её принципиальной «невыражаемости».
Можно согласиться с Х. Арендт, «невыражаемость» и позволяет сохранить глубинность и не стать шаблоном, смерть и есть этот порог «невыражаемости», который не способны исчерпать самые подробные воспоминания.
Может быть, в этом вечная тайна духовной практики Элевсинских мистерий (следует предположить, что существовало множество других подобных практик, неизвестных мне)?
Принципом этих мистерий было то, что всякий мог быть в них посвящен и принимать в них участие, но никто не смел о них говорить. То есть речь шла об опыте для всех, но который нельзя обсуждать публично, опыте для всех, но который переживается в единственности, в его тайне, в его невыразимости.
Таинства касались таинства рождения, но ещё больше они касались таинства смерти, ведь рождение проступает из потаённости, а смерть в неё возвращается, рождение начинает говорить о себе, а смерть, если и продолжает «говорить», то без слов, вне языка.
Таинства одновременно разрушали и публичность смерти, и её приватность, а тем самым переступали через стену, как границу публичного и приватного, как границу между тем, что там вовне, и тем, что здесь, внутри.
Вопрос в том, как возможна духовная практика Элевсинских мистерий в современном мире, глобальном, с одной стороны, рациональном, с другой.
Но бесконечные рассуждения о росте бездуховности в современном мире, даже если считать их во многом преувеличением, свидетельствуют о том, что современный человек нуждается в подобной духовной практике «невыразимого», того, что невозможно выразить словами.
Рациональный человек, чтобы оставаться человеком, должен вновь и вновь открывать пределы рационального, чтобы культивировать духовную практику «невыражаемого».
Должен вновь и вновь учиться встречаться со смертью без отчаяния и без уныния.
Архитектура: между жизнью и смертью.
Парадокс: то, что мы называем «памятниками» архитектуры прошлых эпох, то, что обретает символический язык в культуре, это, прежде всего, мемориалы, мавзолеи, некрополи, плюс храмы, соборы, другие культовые сооружения, плюс комплексы дворцов монархов, прочих правителей. Всё остальное, что относится, условно говоря, к «жилищу людей», или совершенно исчезло, или стало областью археологии с локальными символическими смыслами.
Стараюсь избегать слишком смелых обобщений, но создаётся впечатление, что человечество долгие годы не обладало вкусом к повседневности, вкусом к красоте будней, их заслоняли мужские игры, соперничество, война, захват территорий, утверждение коллективных ценностей.
Это не могло не отразиться на характере архитектурных сооружений. Они говорят или о жизни перед лицом смерти, или о жизни в свете вечности.
Вспомним египетские пирамиды, о многом говорит их символический язык, но прежде всего о смерти, или о жизни после смерти, всё остальное вторично. Не будем забывать, что древние египтяне высоко ценили семейное счастье, не будем недооценивать изысканность любовной лирики древних египтян (скорее во времена древнеегипетского «декаданса», но тем не менее), не будем недооценивать страсть древних египтян к письменности, до нас дошли надписи на саркофагах, амулетах, статуэтках, тканях, своеобразная память о повседневном, но символика некрополя, усыпальницы, загробной жизни довлеет над всем.
Другой пример: мавзолей в Галикарнасе, гробница Мавсола, благодаря необычной форме, пышности отделки и прочему, была признана одним из семи чудес древнего мира. Строительство своей будущей гробницы Мавсол планировал ещё при жизни, продолжила строительство его вдова, которая по преданию подмешивала прах покойного мужа в своё питье, доведя себя до смерти. Урны с пеплом мужа и жены были помещены в ещё не законченную гробницу.
Мавзолей простоял более 16-ти веков и, по мнению историков архитектуры, оказал заметное влияние на мемориальную архитектуру различных стран (США, Япония, Австралия).
Мавзолей в Галикарнасе, на мой взгляд, позволяет говорить об извращённом тщеславии человека, не способного примириться с собственной смертностью.
Ещё один пример: дворец царя Миноса в Кноссе.
С ним связано несколько примечательных фактов.
Во-первых, не только великолепие самого дворца и его стенных фресок (изображения, которые получили название «парижанок»), но и такие инженерные достижения как естественное и искусственное освещение, водопровод и канализация, вентиляция и отопление.
Во-вторых, минойская цивилизация обычно рассматривается как некое преддверие древнегреческой цивилизации, при этом подчёркивается их принципиальное различие, центром города стал не дворец, а площадь, агора, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Наконец, в-третьих, согласно новейшим исследованиям, дворец царя Миноса в Кноссе был некрополем, в котором могущественная секта практиковала изощрённые погребальным обряды с жертвоприношением.
При сравнении с этим дворцом-некрополем архитектурный образ древнегреческого полиса (того же афинского полиса) воспринимается будто из другой культурной галактики. Агора, это не просто площадь, это политическое пространство, вокруг него общественные здания и они совместно воплощают единство гражданской общины. За этим ансамблем мир ойкоса, частные жилые дома, а несколько в стороне или на возвышении, то, что можно назвать храмом (тот же Акрополь в Афинах).
Если говорить образно (и символически), дворец-некрополь апеллирует к посмертному, к вечности, агора – к открытости, к жизни «здесь и сейчас», которую должны сдерживать от пустой болтовни общественные здания (предвестие будущих политических институтов) и Храм (в стороне!) как носитель сакральных смыслов, по-своему защищающий агору от эрозии.
Строить для жизни.
Тезис М. Хайдеггера об опасности «бездомного человека», относится не только к архитектуре, но и к культуре в целом.
Достаточно вспомнить «Бездомного» в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», который будто пёрышко парит в воздухе, нигде не находя своего «дома». Да что там «Бездомный», каждый из нас в те или иные периоды жизни, в тех или иных ситуациях жизни ощущает свою «бездомность», даже если есть у него приличное жильё.
«Наше жительство и наше строительство, – рассуждал М. Хайдеггер, – должно беречь, хранить и щадить … упрятывая нечто в его собственную сущность».
Строить, в этом смысле, должно означать строить для жизни, что в равной степени относится как к городскому пространству, так и к человеческому жилью.
Какой зловещей иронией на фоне этих рассуждений звучат слова, когда-то сказанные о серийных домах в советских микрорайонах: «тара для жилья».
«Строить» здесь изначально обозначало «бездомность»: человек как функция государства, становился функцией собственного проживания (скорее, прозябания).
«Бездомный человек, упакованный в тару» – мрачный символ не только советских, но и множества других индустриальных городов.
Архитектура для людей.
У архитектуры Нового и Новейшего времени много достижений как утилитарных, так и с точки зрения красоты, как в плане отдельных сооружений, так и градостроительных ансамблей.
Но если допустить, что архитектура строит и, тем самым, «говорит и пишет», что архитектура строит и, тем самым, строит для жизни, если признать, что архитектура создаёт пространство, в котором живёт и умирает человек, то мы должны задать несколько вопросов, вытекающих из всего текста.
Каким, с архитектурной и урбанистической точек зрения, должно быть публичное пространство города, не просто место, предназначенное для того, чтобы гражданин мог выразить свою политическую позицию, но и просто для того, чтобы чувствовал городское пространство своим, чтобы ощущал свою сопричастность к прошлым событиям и к происходящему сегодня, чтобы он не чувствовал себя в собственном городе туристом?
Как сделать, чтобы у него было не просто комфортное жильё, а жильё, как «мир в мире», жильё, которое помогало бы его отдохновению, подпитывало его энергией, чтобы он чувствовал себя смелее и увереннее, там, в публичном пространстве, чтобы здесь, в этом сокровенном, «невыразимом», он обнаруживал свою экзистенциальную самость?
Как вернуть городам смыслы публичного пространства, как вернуть городам смыслы приватного пространства?
Как сделать, чтобы архитектура не закрепляла за «мужским миром» – общественное пространство, а за «женским миром» – домашнее хозяйство.
Какими должны быть современные мемориалы, не просто как память об ушедших, растерзанных, умерщвленных в газовых камерах, не как выражение ненависти к тем, которые породили эти жертвы, а как место умиротворения, где плач взрослого может органично сосуществовать со смехом ребёнка?
Как сделать, чтобы архитектура могла говорить о смерти, не будучи мавзолеем, не пытаясь остановить время.
Как сделать, чтобы архитектура для людей стала архитектурой для человека, который живёт и умирает?
… вместо эпилога.
Как относиться к жизни, как относиться к смерти, смириться, сгорбиться, спрятаться, смириться, выпрямиться, открыться, мыслить, чувствовать, поступать?
Выбор всегда за человеком.
2019 год.


