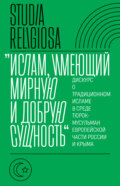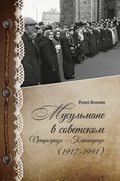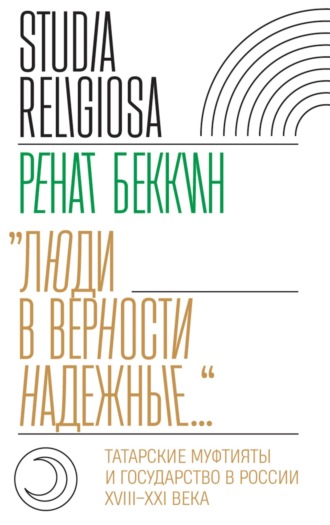
Р. И. Беккин
«Люди в верности надежные…». Татарские муфтияты и государство в России (XVIII–XXI века)
Экономические концепции и теоретические подходы, применяемые экономикой религии для изучения спроса на религиозный продукт
К концу XX в. экономика религии разработала собственный набор понятий и определений, которые, с одной стороны, отражают сущность теоретической модели, а с другой – соответствуют терминологии, известной в социологии религии.
Так, религиозное участие отдельных лиц (семей) характеризуется как «потребление (спрос)» или «производство (предложение)» религиозных товаров домашними хозяйствами. Те обязательства, которые люди берут на себя, становясь последователями определенной религии по версии конкретной религиозной организации, рассматриваются как «издержки», а трансцендентальные обещания, помощь, дружба и т. д., которые они получают, характеризуются как «выгоды». Накопленные религиозные знания, навыки, взаимное доверие и дружеские отношения между приверженцами одного вероучения формируют религиозный капитал[33].
Религиозная организация характеризуется как «религиозная фирма». Последняя, в свою очередь, определяется как социальное предприятие, основная цель которого состоит в том, чтобы создавать и поддерживать религиозные верования среди группы лиц. Официально признанная (то есть государственная) религия подразумевает существование монополистической или олигополистической структуры рынка. Уровень религиозного плюрализма соотносится со «степенью монополизации религиозного рынка».
Основные теоретические подходы, разработанные в рамках более широкой теории экономики религии, были обобщены Л. Яннакконе в его фундаментальной статье «Введение в экономику религии»[34]. Они могут быть сведены к следующему.
Первый подход основан на теории религиозных благ, разработанной американским экономистом и нобелевским лауреатом по экономике Г. С. Беккером. Согласно этому подходу, религия рассматривается как один из товаров, потребляемых домохозяйством, тогда как формы религии классифицируются с учетом соответствующих временных и денежных затрат[35].
Второй подход основан на первом и связан с религиозным человеческим капиталом. Здесь религиозный продукт – это накопленные знания о вере и социальные связи внутри религиозного сообщества[36].
Следующие два подхода объясняют религиозное поведение, проводя параллели между церквями и клубами[37] или между церквями и фирмами. Последний подход изучает религиозное поведение на уровне религиозного рынка, который состоит из религиозных фирм[38].
Исследователи, рассматривающие религию как клуб (среди них сам Л. Яннакконе), фокусируются на совместном производстве религиозного продукта. Согласно этой концепции, вклад в производство и потребление религиозного продукта вносит не только духовенство, но и каждый член религиозного сообщества (рядовые верующие, или миряне в терминологии христианских церквей). Напротив, модель религиозной фирмы подчеркивает различие между духовенством и мирянами при рассмотрении вопроса о производстве и потреблении религиозного продукта.
Пятый подход объединяет два предыдущих и дополняет их идеей взаимоисключающей конкуренции между религиозными организациями на рынке, на котором происходит простой обмен между производителями и потребителями религиозного продукта. В этой модели возникает концепция производства религиозного продукта, под которым понимаются фундаментальные ответы на глубокие мировоззренческие вопросы, которые в своей основе каким-то образом апеллируют к сверхъестественной силе[39]. Вместе с тем акцент делается на механизме взаимодействия, в ходе которого производится этот продукт, и на конкуренции между различными религиозными организациями (фирмами) в вопросе привлечения потребителей.
Как справедливо отмечает российский социолог религии Н. Н. Емельянов, само слово «продукт» зачастую используется метафорически и не подразумевает реальных товарно-денежных отношений между участниками рынка[40].
В своих работах последователи теории экономики религии обращают внимание на такой фактор развития религиозного рынка, как вмешательство государства в конфессиональную сферу. В статье «Реинтерпретация „секуляризации“ Европы со стороны предложения» Старк и Яннакконе выдвинули семь положений, описывающих взаимосвязь между степенью государственного вмешательства в религиозные дела и плюрализмом на рынке, а также выдвинули тезис о том, как это влияет на уровень религиозности в обществе[41].
По мнению этих ученых, возможность монополизации рынка одной религиозной фирмой определяется масштабами государственного регулирования. Согласно второму положению, чем меньше государство вмешивается в функционирование рынка, тем более плюралистичным он будет. Соответственно, ýже будет и специализация действующих на рынке религиозных фирм.
Наиболее важным утверждением этой теории является четвертое положение, согласно которому, в зависимости от степени плюрализма религиозного рынка, уровень религиозности в обществе будет иметь тенденцию к увеличению. Напротив, в ситуации, когда на рынке господствуют одна или несколько фирм, пользующихся государственной поддержкой, общий уровень религиозности будет снижаться[42]. Следует сразу отметить, что ряд ученых подвергли критике вышеуказанные положения, о чем будет сказано далее.
Преимущества и недостатки теории экономики религии
Как отмечает Н. Н. Емельянов, одним из важнейших результатов применения инструментария экономической науки для изучения религиозных явлений было не столько объяснение проблемы секуляризации (или, точнее, объяснение провала теории секуляризации), сколько открытие новых возможностей для исследований, связанных с рассмотрением религии не как системы ценностей, а как взаимодействия[43]. Иными словами, использование возможностей экономических дисциплин позволяет взглянуть под иным углом на вопросы, относящиеся к изучению вопросов религии. «…От того, как ведут себя священники („религиозные фирмы“, религиозные акторы, „предложение“), зависит то, как ведут себя верующие („потребители“, „религиозный спрос“). Это простое соображение имеет много следствий с точки зрения как теоретического, так и эмпирического изучения религиозности», – заключает Емельянов[44].
По словам американского экономиста Роберта Экелунда, «экономический анализ может помочь нам понять, как развивались религиозные рынки для удовлетворения меняющихся (потребительских) требований и какие социальные, политические и экономические последствия вытекали из появления новых фирм (церквей) на религиозных рынках»[45]. Экелунд также отмечает, что «представление о церквях как о фирмах позволяет нам определять или наблюдать конкретную структуру рынка, степень конкуренции в ней…»[46].
Несмотря на преимущества, предлагаемые экономическим подходом к изучению религии, многие постулаты, аргументы и выводы, сделанные авторами теории экономики религии, подвергаются жесткой критике[47]. Слабые места этой теории, которые я считаю необходимым отметить, заключаются в следующем. Прежде всего, можно оспорить ее универсальный характер.
Вопрос в том, может ли теория, которая возникла в США и служила целям объяснения уникальной религиозной ситуации в этом государстве, быть применена к изучению той же научной проблемы в других странах и регионах. Институциональная среда в религиозной сфере России существенно отличается от аналогичной среды в США. Существуют серьезные различия в структуре религиозного рынка в этих двух странах. В то время как новые религиозные движения (НРД) составляют значительную долю участников рынка в Соединенных Штатах, в России они представляют собой маргинальное явление, вытесненное из публичной сферы государством по инициативе и нередко при содействии «традиционных» религиозных организаций. Возможности НРД по продвижению на рынке существенно ограничены институциональными рамками, как писаными, так и неписаными.
Еще один аспект, на который следует обратить внимание, заключается в том, что представители рыночного подхода к изучению религии рассматривают ситуацию, когда религиозные организации действуют как продавцы, а верующие – как потребители. Между тем, в условиях монополизации религиозного рынка в России и строгого регулирования, именно государство, а не отдельные верующие или группы верующих, является основным потребителем религиозного продукта (в обозначенном выше широком значении). Более того, само существование религиозных объединений в стране зависит от государства, а не от верующих. Государство не только выступает в роли регулятора и основного покупателя религиозных и нерелигиозных товаров и услуг на рынке, но и устанавливает правила поведения (как писаные, так и неписаные), которые формируют институциональную основу для деятельности религиозных объединений.
На игнорирование значения государства в работах ряда авторов указывает Е. Д. Руткевич. Она пишет, что слабое место в теории рационального выбора заключается в том, что она рассматривает религию вне социального и культурного контекста и уделяет недостаточное внимание роли государства:
Для понимания корреляции плюрализма, конкуренции и религиозного участия государству и обществу отводится очень незначительная роль. В аналитическую схему ТРВР [теории рационального выбора религии. – Р. Б.] не включены государственные акторы, как и их взаимодействие между собой, так и с религиозными акторами[48].
В качестве основных участников рынка авторами, представляющими такое направление исследований, как экономика религии, рассматриваются церкви и другие религиозные организации – в роли поставщиков или продавцов религиозного продукта и верующие – в роли его покупателей.
Но даже в тех работах, в которых уделяется внимание роли государства, оно рассматривается в первую очередь и зачастую исключительно как регулятор, задающий правила поведения на религиозном рынке и контролирующий их соблюдение.
В основе такого невнимания к роли государства лежат следующие причины. Во-первых, в США, послуживших примером для экономистов, разрабатывавших различные аспекты теории экономики религии, государство играет иную роль на религиозном рынке, чем в других странах. Используя экономическую терминологию, мы можем охарактеризовать положение государства на религиозном рынке в США как «ночного сторожа», известного из классической политической экономии. Регулятор не вмешивается в деятельность религиозных фирм, следуя принципу laissez-faire[49], – до тех пор, пока не происходит нарушение установленных правил. В России государство, напротив, не только жестко регулирует деятельность религиозных организаций, но и формирует саму структуру рынка, используя в том числе нерыночные механизмы. Поэтому, говоря о России, необходимо учитывать большое значение роли государства, которое выступает в различных ролях: от регулятора до ключевого потребителя религиозного продукта. Те исследования, в которых будет уделяться больше внимания анализу форм и механизмов участия государства на религиозном рынке, очевидно поспособствуют дальнейшему развитию и совершенствованию теории экономики религии.
Во-вторых, невнимание к государству в работах американских авторов, писавших об экономике религии, обусловлено узким толкованием понятия «религиозный продукт», куда входят исключительно духовные блага и не включены нерелигиозные товары и услуги, не связанные с исполнением культа и религией вообще. К их числу можно отнести, в частности, «дипломатические» услуги (установление контактов с представляющими интерес для органов государственной власти религиозными организациями за рубежом, продвижение интересов государства по каналам межрелигиозного диалога и др.)[50]. В перечень нерелигиозных товаров и услуг можно включить идеологическую работу, осуществляемую религиозными организациями. Речь идет, в первую очередь, о богословском обосновании политики, проводимой властями. Социальные услуги (благотворительность, просвещение, помощь в интеграции мигрантам и др.), оказываемые религиозными организациями, помогают государству снизить расходы на соответствующую сферу. Что касается собственно религиозных товаров и услуг в составе религиозного продукта, то они могут включать все, что связано с предоставлением верующим условий для совершения действий, предписываемых религией (молитва, заключение брака и т. д.), религиозно-просветительские мероприятия и др.
В такой ситуации в услугах религиозных организаций объективно больше нуждаются не верующие, а государство. Это объясняет, почему в структуре религиозного продукта, предлагаемого на рынке духовными управлениями мусульман в России, преобладают нерелигиозные товары и услуги.
Но государство заинтересовано и в том, чтобы допущенные им на рынок продавцы предлагали верующим духовные блага. В противном случае существует риск возникновения свободного рынка, на котором все, кто отвечает минимальным требованиям, могут заниматься распространением религиозных товаров и услуг, качество и содержание которых не будет контролироваться государством.
Анализируя деятельность религиозных организаций, адепты теории экономики религии оперируют стандартным набором функций, присущих по преимуществу протестантским церквям в США и не характерных для российских религиозных объединений (по крайней мере, представляющих так называемые традиционные религии, доминирующие на рынке в России).
Учитывая отмеченные особенности теории экономики религии, я считаю, что она нуждается в дальнейшем развитии с учетом анализа опыта других стран, где существует иная, чем в США, институциональная среда для функционирования религиозных организаций, влияющая как на рыночную структуру, так и на состав предлагаемого религиозного продукта. При этом большое значение для развития теории имеет изучение опыта функционирования нехристианских религиозных организаций, в частности представляющих вторую (по числу ее последователей) мировую религию – ислам.
Муфтияты на религиозном рынке
В современной России около 80 муфтиятов действует как на общефедеральном, так и на региональном уровне. В своей диссертации я рассматривал следующие виды духовных управлений мусульман: 1) общероссийские (федеральные), 2) региональные, 3) «параллельные»[51]. Однако по мере дальнейшего изучения проблемы я пришел к выводу, что более удачным и отражающим сущность института муфтията в России будет разделение духовных управлений мусульман на: 1) межрегиональные, 2) региональные и 3) «параллельные».
Понятие «федеральный муфтият», употреблявшееся мною прежде, действительно присутствует в лексиконе как исследователей, так и мусульманских религиозных деятелей. Однако оно не отражает в полной мере место того или иного духовного управления в иерархии мусульманских религиозных организаций в России. Как уже отмечалось выше, основными критериями, которые позволяют выделить среди духовных управлений мусульман наиболее влиятельные, являются географический (контроль над общинами в разных регионах) и количественный (число контролируемых общин). В связи с этим возникает проблема, какие духовные управления можно отнести к категории федеральных. Например, допустимо ли рассматривать в качестве федерального муфтията Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК)? По количеству общин, находящихся в его юрисдикции, этот муфтият сопоставим с Центральным духовным управлением мусульман России (ЦДУМ) и с Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). Но все общины КЦМСК находятся на территории одного макрорегиона – Северного Кавказа. Иными словами, это духовное управление не является федеральным (то есть общероссийским) муфтиятом в полном смысле этого слова. Вместе с тем к нему вполне применимо определение «межрегиональное духовное управление мусульман». Это понятие, также часто встречающееся в лексиконе мусульманских религиозных деятелей, на мой взгляд является более универсальным, чем понятие «федеральный муфтият»[52].
Рассмотрим подробно каждую из этих групп.
1. Межрегиональные муфтияты. В эту группу входят так называемые зонтичные муфтияты, то есть духовные управления, которые контролируют общины более чем в одном субъекте федерации. К этой категории относятся Центральное духовное управление мусульман России, Совет муфтиев России (1996–2014), Духовное управление мусульман Российской Федерации (с 2014), Координационный центр мусульман Северного Кавказа, Духовное управление мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР).
2. Региональные муфтияты. Внутри этой группы можно выделить две подгруппы: а) независимые муфтияты, которые контролируют общины в пределах одного субъекта федерации и не входят в состав какого-либо межрегионального духовного управления мусульман, и б) муфтияты, являющиеся структурными подразделениями межрегиональных ДУМов. Но по такому показателю, как количество общин, некоторые муфтияты, претендующие на общероссийский уровень, отстают от региональных духовных управлений. Так, например, в юрисдикции Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) зарегистрирована 1531 община, что почти втрое превышает количество религиозных объединений, контролируемых Духовным управлением мусульман Российской Федерации[53].
3. «Параллельные» муфтияты. К этой группе я отношу духовные управления мусульман, которые были созданы как альтернатива двум межрегиональным муфтиятам: ЦДУМ и Совету муфтиев России, а с 2014 г. и ДУМ РФ. По формальным критериям «параллельные» муфтияты не отличаются существенно от межрегиональных, в том числе по таким важным показателям, как количество входящих в их состав мусульманских общин и регионы, в которых они представлены. Их особенность состоит в том, что они не стремятся поглотить межрегиональные муфтияты, а выступают в роли «третьей силы», к которой тяготеют независимые региональные духовные управления, вышедшие из-под юрисдикции ЦДУМ, СМР и ДУМ РФ. Я отношу к категории «параллельных» два муфтията: Российскую ассоциацию исламского согласия (Всероссийский Муфтият), существовавшую в 2010–2013 гг., и Духовное собрание мусульман России (ДСМР), учрежденное в 2016 г. В 2000‐е гг. исламский сегмент религиозного рынка России был поделен между тремя олигополистами: ЦДУМ, СМР и КЦМСК. Однако к началу 2010‐х гг. в ряде региональных муфтиятов стали проявляться центробежные тенденции. Некоторые мелкие фирмы (региональные духовные управления) при содействии федеральных властей пытались объединиться и сформировать общероссийский муфтият, чтобы потеснить на рынке трех упомянутых олигополистов. Не вступая в прямую конкуренцию с существующими межрегиональными духовными управлениями, «параллельные» муфтияты пытались заработать символический капитал, который позволил бы им выступать в качестве представителей мусульман в отношениях с государством.
Все духовные управления мусульман, принадлежащие к любой из трех упомянутых выше групп, имеют аналогичную структуру. Татарский или башкирский муфтият состоит из казиятов (казыятов) и мухтасибатов (средний уровень) и махаллей (низший уровень). Во главе муфтията стоит председатель (муфтий), который иногда имеет дополнительные официальные или неофициальные титулы.
Следует отметить, что использование тех или иных титулов является важным инструментом в конкурентной борьбе между муфтиями – руководителями межрегиональных духовных управлений. Талгат Таджуддин – безусловный лидер по количеству титулов. Так, в 1992 г. на VI чрезвычайном съезде мусульман европейской части СНГ и Сибири в Уфе по результатам голосования большинства делегатов Таджуддин стал обладателем «сана» Верховного муфтия. В 1996 г. муфтию был присвоен титул шейх-уль-ислама[54]. Долгое время Гайнутдин довольствовался титулом муфтия и шейха. Однако примерно с середины 2010‐х гг. в официальных документах СМР и ДУМ РФ Гайнутдин именуется «духовным лидером мусульман России» или «духовным лидером российских мусульман».
В то время как титулы «верховный муфтий» и «шейх-уль-ислам» относятся к «харизме должности» (в терминологии Макса Вебера), «духовный лидер мусульман России» относится к «личной харизме» и подчеркивает, что его обладатель занимает высший уровень в иерархии религиозных лидеров в силу своего духовного авторитета.
Для любого муфтията, претендующего на общефедеральный уровень, принципиальное значение имеет число входящих в него общин и региональных духовных управлений мусульман. Поэтому некоторые региональные муфтияты, контролирующие большое количество общин, иногда выступают в качестве полноправных участников различных государственных мероприятий – наряду с представителями межрегиональных духовных управлений[55]. Кроме того, важен географический фактор: чем шире география входящих в муфтият общин, тем больше шансов у него претендовать на всероссийский уровень.
Таким образом, межрегиональные духовные управления мусульман вступают друг с другом в конкурентную борьбу за привлечение в свою структуру максимально большего числа общин. Подобное же соперничество наблюдается и между региональными муфтиятами, только в данном случае речь идет о религиозных объединениях, находящихся в границах одного субъекта федерации.
В Российской империи и Советском Союзе также не существовало единого муфтията, в юрисдикцию которого входили бы все мусульманские общины на территории страны. Однако действовавшие на религиозном рынке несколько муфтиятов не конкурировали друг с другом, потому что государство четко определило границы их территориальной юрисдикции[56]. Таким образом, была теоретически и практически невозможна ситуация, когда один муфтият претендовал бы на включение в свою структуру общин, действующих на территории, находящейся в ведении другого духовного управления, как это происходит во многих регионах России в наши дни. В равной степени другому муфтияту невозможно было учредить в регионе, входящем в округ другого духовного управления мусульман, свои общины, что также часто встречается в современных условиях. Общей чертой для прежних эпох (в меньшей степени имперской и в большей степени советской) и нынешней является то, что во многом полномочия муфтиятов регулировались не законодательством, а подзаконными актами, недоступными верующим[57], или даже неписаными правилами.
Остроту конкурентной борьбе между духовными управлениями мусульман в современной России придает то обстоятельство, что предлагаемый ими религиозный продукт по своему содержанию однороден. В среде татар и башкир, составляющих основную массу мусульманского населения внутренней России и Сибири, преобладает ханафитский мазхаб в вопросах мусульманского права и матуридитская ‘акида в вопросах догматики[58]. Нестандартные товары и услуги вытесняются с религиозного рынка самими муфтиятами, как правило, при поддержке государства. В свою очередь, последнее уже не в качестве покупателя, а как регулятор может устанавливать такие критерии для входа на рынок, которым могут соответствовать только определенные фирмы – поставщики религиозных и нерелигиозных товаров и услуг.
Барьеры для входа на рынок достаточно высоки. Для создания нового муфтията на общефедеральном уровне требуется активная поддержка со стороны регулятора (государства). В современных условиях, особенно после принятия в 2016 г. так называемых поправок Яровой, значение муфтиятов на религиозном рынке усилилось[59].
Утратив контроль за реализацией духовных благ верующим, муфтияты окажутся неконкурентоспособными в качестве продавцов нерелигиозных товаров и услуг для государства. Поэтому государство и духовные управления не заинтересованы в существовании плюрализма на религиозном рынке. Государство как регулятор создает такие условия как для вновь учрежденных, так и для уже существующих муфтиятов, чтобы они могли сохранить свое положение на рынке в качестве фирм-олигополистов[60].
Независимая мусульманская община, чтобы избежать проблем с контролирующими органами, вынуждена присоединяться к какой-либо централизованной религиозной организации мусульман. Таким образом, государство как регулятор искусственно формирует спрос на религиозный продукт, предлагаемый муфтиятами. Мусульманские общины вынуждены взаимодействовать с муфтиятами, передавать им контроль над административными и финансовыми вопросами в приходе и тем самым увеличивать символический капитал духовных управлений на религиозном рынке. Взамен они получают такую услугу, как защита от вмешательства государства в их религиозную жизнь.
Эта сделка часто бывает вынужденной и не всегда выгодна самим общинам. В случае недовольства результатами заключенного договора пересмотреть его не представляется возможным: типовой устав в большинстве межрегиональных духовных управлений мусульман практически исключает возможность выхода общин из-под их юрисдикции. Кроме того, следует учитывать, что переход мусульманских религиозных объединений под контроль того иного муфтията может быть обеспечен благодаря административному ресурсу. Это обстоятельство опять же подчеркивает первостепенную роль государства, а не верующих или групп верующих в таких вопросах, как формирование структуры религиозного рынка, спроса на нем и др.
Говоря о религиозном продукте, предлагаемом духовными управлениями мусульман в современной России, можно отметить следующую тенденцию: чем выше уровень муфтията (от регионального к межрегиональному), тем, как правило, меньшую долю в структуре этого продукта занимают услуги собственно религиозного характера.
Таким образом, мы видим, что сама институциональная среда, в которой действуют муфтияты в России, совершенно иная, чем та, которую можно встретить в работах исследователей, писавших об экономике религии на примере США. Государство может не только активно вмешиваться в функционирование религиозного рынка, но и участвовать в создании и ликвидации действующих на нем фирм, опираясь не только на писаные, но и на неписаные правила. Поэтому при анализе религиозного рынка уместным дополнением к экономике религии является теория институтов и институциональных изменений, сформулированная американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Дугласом Нортом[61].