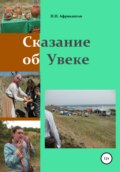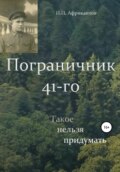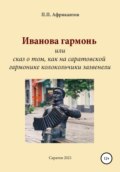Пётр Петрович Африкантов
Саратовские игрушечники с 18 века по наши дни
Сказ о том, как скудел
ьный петух Фомкиного петуха уму-разуму учил
Если уж в каждом монастыре свой устав, то и деревни от них тоже далеко не отстали. За примером далеко ходить не надо. В одной деревне напалок так на черенок косы крепят, а в другой – совершенно по-другому, и хоть ты лоб расшиби, иначе делать не будут. Или вот, например, в деревне Большая Фёдоровка, что от Большой Крюковки в семи верстах стоит, все мужики в те времена носили картузы и галифе, а в соседних деревнях такой традиции не фбыло. И тем благопристойней в Большой Фёдоровке хозяин, чем у него картуз или галифе на особинку выглядят, там кант вишнёвого цвета, вместо красного, не как у других, или цвет картуза погуще. В Крюковке же, равно как затем в образовавшейся Малой Крюковке, мужики больше петухами хвалились, а картузы хоть и носили, но без какой-либо особости в их отношении.
В Крюковке хороший петух, можно сказать, определял статус хозяина, и потому, все мужики старались в своём хозяйстве хорошим петухом обзавестись, чтоб был и красив, и горласт, и статен, и обязательно боец хороший. Боец – это, пожалуй, самое главное, но негоже, чтоб твоего петуха соседский бил, это даже и неловко как-то, хоть на улицу не выходи, срам один. А тут ещё мужики сойдутся, и первое у них дело о петухах поговорить. Бойцовские качества петухов обычно «на самовар» проверяли. Вынесет хозяин во двор до блеска начищенный самовар, поставит и наблюдает, как кочет со своим отражением настоящий бой ведёт. Если пяток наскоков сделает и бросит, то сообразительный, а если драться не перестаёт, то петух этот самоварный и годен только в суп.
В общем, петух в деревне всему был голова. И всё бы ничего, если б не деревенский мужик Фомка. Хозяйство у Фомки было поплоше, чем у других, да и сам он был не из видных, сморчковатый. И угораздило же Фомку привезти в деревню этого петушишку; на первый взгляд, разве его кто задаром отдал: маленький, на одну ногу припадает, гребешок наполовину отмороженный, набок свалился, из хвоста всего три пера потрёпаных торчат, не больше, а под скуластенькой головёнкой серёжки синюшные мотаются, если б можно их было отстегнуть, то надобно б это и сделать, чтоб не срамотиться. Посмотрели мужики на это чудо в перьях, головами покачали, да улыбки в усы спрятали, потому, как чего не скажи – всё равно обидишь.
Но петух этот оказался только на вид плюгавенький. Ровно через неделю соседи Фомки стали замечать, что их петухи на улицу не идут, куры без них гуляют, а с ними этот самый хроменький вышагивает, да на левую припадает: чуплык- чуплык, чуплык – чуплык. Припадал бы он там и припадал на свою левую, и дел никому никаких нет, как говорится, каков поп, таков и приход. Так нет же, через неделю Тетериного петуха этот заморыш совсем со двора сжил, и спасался кочет где-то за двором, в крапиве и лопухах, пока его хозяин не нашёл и в суп не употребил за дворовой ненадобностью.
Тут деревенские мужики над Тетерей стали подтрунивать, что, дескать, зря петуха жизни лишил, потому как лопухи за его двором реже стали расти, некому их стало обхаживать. Только недолго они так подсмеивались, за Тетериным петухом пришёл и их петухов черёд, тоже стали после проигранных сражений по лопухам скитаться. Тут все мужики примолкли и над Тетерей уже не подтрунивали. После этого Фомкиного петуха стали называть за его припад на левую ногу и за особые бойцовские качества «Хромым бесом». И ходил этот Хромой бес по деревне хозяин хозяином, потому как равных в бою среди деревенских петухов он не находил.
Мужики Фомкиного петуха зауважали. Наиболее языкастые стали говорить в шутку, что от крестьян в Москву с наказом в комиссию1 надо было посылать не одного депутата, а с Фомкиным петухом в придачу, тогда, глядишь и вышло бы крестьянам обязательно послабление». «Не…, в комиссию не годится…, ему лучше с турками воевать,– говорили другие. – Мал, да смекалист. Прирождённый воин, а вы его куда? Там голова нужна, а с турками необходима храбрость, чего петушишке незанимать…».
Из деревенских мужиков у Тетери на этого Фомкиного петушишку самый большой зуб образовался. Он в пересуды мужицкие не лез.
И вот однажды запряг Тетеря мышастого жеребца, бросил в телегу связанного барашка и куда-то уехал. Под вечер приезжает, только уже без барашка, а в мешке что-то есть, живое. Въезжает он во двор и выпускает из мешка петуха. Откуда он его привёз, неизвестно; только посмотреть на этого петуха мужики толпой ходили и петуха этого «Прынцем» за его красоту прозвали. Петух действительно был что надо: статный, грудь колесом, гребешок ладный, стоймя стоит и солнцем просвечивается, будто изумрудный, а серьги – всем серьгам серьги, хоть барыне в подвески. Я уж не буду рассказывать о его перьевых переливах, потому как всё равно их описать не смогу, а только всё испорчу, и у читателя из-за скудости моего литературного языка, сложится неправильное о петушином наряде мнение, лучше на слово поверить, что таких красавцев в деревне не видывали, и в соседних деревнях тоже.
В первую голову петух тем отличился, что вышел с хохлатками на улицу и всех, там имевшихся, петухов под ворота загнал, затем взлетел на навозную кучу и громко пропел, победное – «Ку-ка-ре-ка-ку-у-у!!!». И вот тут-то и началось. Откуда ни возьмись, появляется у навозной кучи Хромой бес, голову набок склонил и изучающее так смотрит красноватым глазом на Тетериного красавца, видно, когда Тетерин петух других петухов уму разуму учил, его поблизости не было, а ровно через двадцать минут, только ленивый не мог наблюдать, как бегал Тетерин красавец по деревне, а за ним гонялся Хромой бес и если б ни его хромота, то, наверное, и совсем бы угнал Прынца из деревни.
Спасла Прынца жена Тетери. Она вышла на улицу, встала у калитки, расставила широченную юбку, какую в те времена носили, так перепуганный кочет в эту юбку со всего петушиного бега и влетел. Только бежал он уже не от Фомкиного замухрышки, а от Тетери, размахивающего над головой топором и кричащего в адрес петуха одно выражение крепче другого. Хотел Тетеря отнять у жены несчастную птицу, но тут соседки вступились, отчего досталось не только Тетере, но и всем мужикам деревни. «Что ж, – говорят бабы, – на всю деревню один петух, как петух появился, и того изничтожить решили…, не бывать этому, и пусть Фомка девает своего Хромого беса, куда угодно, хоть за ногу во дворе привязывает, так как всё равно ни толку, ни вида, только и делов, что драться умеет, как Савоськин сын…, у которого ни жены, ни детей, в одном хорош – в драке, только с драками его не жить, потому и не идёт ни одна девка за него замуж. А ты, Тетеря, что хочешь делай, хоть Прынца драться учи, хоть кольчугу ему сладь, но птицу не трогай, от него, глядишь в деревне приличные цыплята появятся, иначе от Хромого беса одними драчливыми замухрышками обрастём».
Вот такая развилась из, казалось, простого дела, история. После такого заступничества стал Тетеря думать, как Прынцу Фомкиного замухрышку помочь победить и бабий наказ исполнить? Потому, как не победить, было никак нельзя и привязать Хромого беса за ногу, как советовали бабы, тоже, не по деревенскому уставу, а раз по закону нельзя, то и разговоров нет.
После этого события Тетеря стал реже выходить на улицу, а всё что-то дома сидит и прикидывает. Надо сказать, мой предок Андрей Григорьевич и раньше попусту по улице не ходил и байки со словоохотливыми мужиками не рассказывал, а дома с глиной и деревом возился, да лепил всякую всячину. И всё у него хорошо выходило: и скамеечка, и игрушка для ребятишек, и сани. Никто в округе не мог такие сани сделать как Тетеря, хотя мастера были и неплохие, особенно в селе «Ягодная Поляна» или у мордвы. А игрушечников-глинолепов почитай вокруг вёрст на двадцать ни одного не было. Только как этим мастерством петуху поможешь? И получается, что никак. Так не сходится же с Хромым бесом около навозной кучи самому на кулаках? Думал, думал Тетеря и придумал.
Через некоторое время слепил он из глины и поставил во дворе на просушку большого петуха, по стати точь-в-точь Прынц, только глиняный. Когда петух высох, Тетеря ему обжиг в яме устроил. Домочадцы думали, что это он такую игрушку слепил, ан нет, всё изделие было утыкано дырочками. Потом Тетеря опять куда-то съездил, привёз старого бельмоватого петуха, на Прынца окрасом похожего, видно, от тех же хозяев, заколол, ощипал, а перья аккуратненько собрал и к себе в сарай отнёс. Там он эти перья в дырочки на глиняном петухе вставил и для крепости на столярный клей посадил, в результате получился настоящий глиняный Прынц, его-то рано утром и выставил Тетеря на навозную кучу и к чурбаку прикрепил, а сам из-за плетня наблюдает, что будет?
Значит, глиняный Прынц стоит, ветерок дует, перьями на изделии шебуршит. От ветерка глиняный Прынц покачивается, вроде на месте топчется. Увидел Фомка глиняного Принца на навозной куче, за настоящего принял, поспешил домой и в калитку кур на улицу выпроваживает, чтоб Хромой бес Прынца увидел и трёпки ему задал. Хромой бес как вышел за калитку, сразу «Прынца» на навозной куче приметил и прямиком к нему направился. Смотрит через калитку Фомка, за своим петухом наблюдает и на «Прынца» с улыбкой поглядывает, дескать, сейчас Хромой бес тебе покажет навозную кучу, быстро слетишь, ишь, расфараонился.
Подходит Хромой бес к навозной куче ближе, и пора бы уж «Прынцу» от Фомкиного петушишки дёру дать, только «Прынц» никуда с навозной кучи не спешит, а даже, этак нагло смотрит на приближающегося противника, будто и не узнаёт вовсе. «Может быть, его Тетеря для смелости медовухой подпоил, – подумал Фомка,– откуда вдруг такая смелость? Ну, ничего, сейчас она с него слетит». А Хромой бес уже на навозную кучу поднялся и с ходу на «Прынца» налетел, ударил клювом так, что у самого в глазах потемнело. А как же не потемнеть, попробуй, стукни лбом не в подушку, а в балясину, пожалуй, зачешешься…
Крепко ударил клювом «Прынца» Хромой бес, изо всей силы ударил, ещё и крыльями помог, и на грудь взял, чтоб уж разом рассчитаться. От этого удара упал «Принц», а Фомкин петух через него перекувыркнулся и по инерции до основания навозной кучи скатился, умел боец в удар вложиться, в чём ему не откажешь. Молодец боец, а упал потому, как не думал, что Прынца легко с ног собьёт.
Как скатился Хромой бес, так тотчас вскочил, глядь, а противник как стоял, так и стоит на вершине навозной кучи, только немного покачивается, вроде с ноги на ногу переминается. Рассерчал петушишка и снова на «Прынца» ринулся, только не так быстро, чтоб опять с навозной кучи по инерции не слететь, и не сбоку, как прежде, а подскочил, крыльями куцыми взмахнул, когти выставил и сверху налетел. И в этот раз он опять с ног «Прынца» сшиб. Упал «Прынц», а так как был сделан по примеру Ваньки-встаньки, то тут же поднялся.
Смотрит Хромой бес, что сколько бы раз он Принца не сбивал, тот всё на ноги становится и бежать никуда не собирается, и не боится ни его клюва, ни его когтей, а ведь удары были не слабые. Этого петушишка никак не ожидал и решил в последний раз наскочить, и уж окончательно повергнуть «Прынца», чтоб уж раз и навсегда.
Тут надо оговориться, Хромой бес был бойцом отнюдь не самоварным и умишко кое-какое имел и наверняка бы раскусил, что петух не настоящий, только для этого надо было раза три ещё наскочить. А чтоб уж окончательно убедиться, тут без коронного прохода под крыло с выходом за спину никак было не обойтись. Ни один петух такого приёма не выдерживал и всегда спешил унести ноги, чтобы хуже чего не вышло.
Для Хромого беса, главным было – очутиться сзади врага, да тотчас долбануть противника в затылок, отчего у многих петухов драться с Хромым бесом сразу охота пропадала. Только и Тетеря этот петушишкин приём подметил и к нему приготовился.
Выбрал удобный момент Хромой бес и поднырнул «Прынцу» под крыло, а как поднырнул, то «Прынц» зажал сразу крылом его голову и не отпускает. Хромой бес и так и эдак, а голову вытащить не может, и только с каждым его рывком его горло сильнее крылом сдавливается, что аж дышать становится нечем. Хрипит петушишка, а «Прынц» его отпускать и не думает. Тут над калиткой Фомкина голова появилась, пытается Фомка рассмотреть, что же на навозной куче происходит, только далековато, не разобрать.
Занемог Хромой бес, обессилел, на навозную кучу повалился, и за собой «Прынца» увлёк. В этот момент Тетеря за верёвочку потянул – голова драчуна и освободилась. Петушишка, как почувствовал свободу, сразу на ноги стал подниматься, а лучше бы и не поднимался, потому как «Прынц» тоже вертикальную позу стал принимать и по инерции в сторону Хромого беса качнулся, а как качнулся, так и ударил калёным керамическим клювом со всего глиняного весу петушишку в голову, да так, что тот с навозной кучи кубарем покатился.
Как же не покатишься, когда глиняный петух в несколько раз Хромого беса тяжелее. Понятно, что этот удар от смещения центра тяжести получился, а не потому, что его глиняный Прынц по-настоящему клюнул, только голове петушишкиной от этого не легче. От этого удара он вообще остаток соображения потерял, а как скатился с навозной кучи, то куда и воинственность его делась, побежал прямиком домой и ни разу не оглянулся. А «Прынц» и не думает его преследовать, стоит на навозной куче, и только ветерок его оперением играет. Увидел это Фомка и от калитки отошёл, чтоб сраму не видеть. Издали он не заметил ни подмены, ни Титериной верёвочки, что тянулась к хитрому приспособлению под крылом «Прынца».
После этой схватки Хромой бес с неделю на улицу со двора не выходил. А как тут выйдешь, когда он только под калитку голову просунет, а Принц уже на навозной куче стоит и его, петушишку, дожидается. А петушишке снова драться не резон, потому как от прошлого поединка в голове гуд не прошёл. Только и это не главное, а главное то, что «Прынц» не по петушиным законам и правилам дерётся, и эти законы и правила для Фомкиного петушишки неведомы и непонятны, а раз непонятны, то и страшно ему становится даже в собственном дворе и среди хохлаток неуютно.
Фомка тоже в долгу не остался, зачем ему петушишка, что драться перестал? Разве мелкоту плодить, взял, да и отправил его в суп.
Бабы в деревне этим событием, тоже остались премного довольны, потому, как на следующий год появились у Тетериных наседок невиданные ранее цыплята, один красивее другого, и понесли хозяйки в решете Тетере куриные яйца на обмен, чтоб и у них такие же вывелись. Так и запестрела деревня диковинными молодками и красавцами петухами, что и из других деревень стали за курами приезжать и к себе в телегах увозить.
Принесла Тетере на обмен яйца и Фомкина жена. Эти яйца Тетеря пометил и особо положил.
Конечно, тогда жители деревни ничего о генной инженерии не знали, но о животине пеклись и понимали, что от плохонькой коровёнки – не жди хорошего телёнка. Тетеря, понятно, догадался, что от петушишки, если его потомство укрупнить, в будущем хороший петух может выйти. А прилил ли Тетеря петушишкиной крови к Принцеву потомству или нет, до нас это не дошло, а вот, что в хозяйстве Тетери все петухи красавцы были, и ни одному петуху спуску не давали, то это верно, хотя забияками не были, и никто на них не жаловался. Нрав, видно, от Прынца переняли. Вот такая произошла петушиная история.
А уж о сыне Андрея Григорьевича Африканте Андреевиче пришлось написать целую повесть. Эту повесть я назвал «Глиняные шарики, или сказ о том, как игрушечник Африкант Наполеона воевал». И тому были веские основания. Родился мой прапрадед в 1794-ом году, а умер в 1858 году, установлено точно, так в церковно-приходской книге записано. Дал моему предку батюшка крестильное имя Африкант. Больше такого имени я в приходских книгах ни разу не встретил. От этого имени и наша фамилия образовалась. Дети этого Африканта стали Африкантовыми. Сам Африкант был крепостным и фамилии не имел. А чем он в роду игрушечников отличился понятно из названия повести.
Глиняные шарики, или Сказ о том, как игрушечник Африкант Наполеона воевал
За давностью лет, трудно уже воспроизвести абсолютно точно детали тех событий, только известно, что Африкант Андреевич, мой предок, житель деревни Крюковка, Саратовской губернии, крепостной крестьянин, а по призванию игрушечник-глинолеп, с Наполеоном воевал. И получилось это совершенно случайно. Было ему в ту пору восемнадцать лет и взял его барин Житков Пётр Никитич с собой в дальнею поездку, родную сестру от Наполеона спасать.
Сестра его жила вместе со своим мужем Фролом Иванычем в Калужской губернии. Барин её очень любил и потому, как только наполеоновские войска заняли Москву, принял незамедлительное решение ехать в Калугу и привезти сестру в Крюковку дабы уберечь её от наполеоновских орд. Барин в исполнении своих решений был скор и возражений не терпел. Старый вояка, артиллерист, изрядно покалеченный в сражении под Аустерлицем и потому не имеющий возможности продолжать службу в армии, он в чине капитана вышел в отставку и поселился в своём имении в Крюковке. Тогда ещё была всего одна Крюковка, Малая Крюковка ещё не образовалась.
Искалеченная нога и выбитый на поле боя глаз нисколько не мешали отставному капитану вести хозяйственные дела добротно и содержать своё имение в полном порядке, чего не скажешь о его сестре. Не было в ней хозяйственной жилки, как у Петра Никитича. Муж её, Фрол Иваныч, был вообще далёк от всяких хозяйственных дел. По влечению своей натуры, он был художник. Жена в нём души не чаяла. Весь, какой-никакой доход от имения уходил на аренды выставочных залов, на кисти, краски и прочие художественные надобности, в чём сестра Петра Никитича не могла мужу отказать, считая его очень талантливым, но пока не признанным художником. Она трепетно относилась к его всевозможным выставкам и выставочкам, принимала бурное участие в их организации, считая каждый раз, что уж на этот раз звезда Фрола Иваныча засверкает во всю свою силу и не признать его гениальности будет никак невозможно. Но одни выставки проходили, без каких либо последствий, а другие тут же нарождались. В чём Фролу Иванычу было не отказать, так это в светлости души и чистоте творческих порывов. «Моя Кузенька», – называл Пётр Никитич свою, живущую больше душой, чем разумом сестру и не жалел для неё и её мужа ничего, терпеливо ежегодно покрывая их долги и нередко наезжая к ним в сельцо, чтобы навести хоть какой – либо порядок в хозяйственных делах. Он сам и старосту присмотрел, Зосиму, из местных крестьян, поручив ему вести дела, и доверялся больше ему, нежели сестрице с мужем.
Жил Пётр Никитич у себя в Крюковке в большом барском доме вдвоём с матерью, Параскевой, которая от старости уже плохо ходила, но была ещё в своём уме. Как ни уговаривала Параскева сына не ездить, в такое неподходящее время к сестре, её просьбы никаких последствий не имели. Пётр Никитич страшно не терпел разного рода упрашиваний и когда такое происходило, то он, наоборот, прилагая к делу особое упрямство, оставался твёрд в осуществлении собственного решения. «А в какое время ещё ехать!? – спрашивал он укоризненно, уставясь на мать своим единственным глазом,– именно сейчас и ехать надо. В другое время и Зосима справится. Надо распоряжения дать, да и мою незабвенную Кузеньку с её Фрольчиком увезти от греха подальше. Они ведь сердцем живут, да душевными порывами, в мечтательности пребывают, а эти вещи с войной не совместимы». Он всегда называл мужа сестры – Фрольчиком, что по детскости натуры к нему более всего и подходило.
В то время до деревни доходили о Наполеоне и его армии всякие страшные новости. Стало известно, что Наполеон сжёг Москву и что некоторые москвичи бежали из города ещё до занятия его войсками Наполеона. Многие из них приехали в Саратов и поселились у своих дальних или близких родственников, потому слухи те носили бесспорный характер. В это время в Саратовской губернии для помощи армии были организованы сборы пожертвований. Сборы эти были всенародными. В пожертвованиях принимали участие все сословия, вносили все кто чего и сколько мог. Купцы жертвовали много. Крестьяне, по скудости доходов, жертвовали меньше. Для сборов, по деревням ездила большая телега и в неё крестьяне клали всё, кто чего мог без всяких списков и записей пожертвованного. В телегу клали: варежки, шапки, онучи, или новый хорошо наточенный топор, что был в крестьянской семье особо ценным орудием труда. «В армии всё сгодиться», – говорили мужики, снимая с себя полушубки и бросая на воз. Больше всего эти возницы, или сборщики пожертвований и были главными распространителями новостей.
В Саратовской губернии по указу царя не создавалось ополчение и многие жители губернии уходили в Пензу, чтобы влиться в пензенское ополчение. Таким образом в пензенское ополчение ушёл старший брат Африканта. На семейном совете решили, что одного солдата от семьи хватит и что Африканту в ополченцы идти не следует.
Не очень хочется Африканту в такую дальнюю поездку ехать, дома жена молодая, а его осенью да в незнакомые края. Ладно бы там с французом воевать, а то барыньку с Калужской губернии везти. Тьфу ты, нелёгкая. Да кому она там нужна в своей деревне? Так Банопарт на неё и позарился? Барынька не богатая, даже собственного выезда нет. Сельцо, где она проживает, небольшое. Ох, не хочется Африканту ехать, только против барина чего скажешь, человек Африкант подневольный, крепостной. Раз барин сказал, то и надо выполнять. И не дальняя дорога тяготит Африканта – с Фёклой года ещё не прожили, четвёртого февраля свадьбу сыграли, а летом француз напал. Только делать нечего, подождёт Фёкла Ильинична пока Африкант барское дело справляет. Не отцу же ехать в такую даль, да и стар Андрей Григорьевич для таких расстояний, пусть по дому управляется. Единственное, о чём жалел Африкант, так о том, что не успел налепить да обжечь к Рождеству игрушки, ребятишкам в подарок. Кто же думал, что так дело повернётся и придётся ему в Калугу ехать. Детям игрушка – радость. Каждый год в Рождество дарит Африкант игрушки ребятишкам. Пришёл, кто к нему в дом Христа славить, то и получай глиняную игрушку в подарок. Детям игрушка в радость, дети дом игрушечника Африканта никогда не обходят.
Факт, Африкант и не должен был ехать под Москву, у барина был кучер из дворни, Ферапонт. Но Ферапонта вдруг свалила лихорадка и в дальнюю дорогу взял барин кучером Африканта. Африкант – мужик молодой, смекалистый, да и силёнкой не обижен, на масленицу всегда первый в любом весёлом поединке. На столб ли скользкий залезть или на кулаках сойтись, ему всё нипочём. А, главное, он был человек весёлый, каждое дело делает с прибауточками да присказками. Его удаль да смекалка в столь тревожное время – не лишние. Ферапонт – ямщик надёжный, но молчун. Правит себе лошадьми и молчит, а Африкант – песенник, а песня дорогу укорачивает.
С вечера заложили карету, положили тёплую одежду, на чём так настаивала старая барыня, съестных припасов на крайний случай. Не забыл Пётр Никитич взять с собой и пистолет. Время военное, а дорога дальняя, может сгодиться, потому, как лихие люди ещё не перевелись на белом свете и можно ожидать всякого.
Фёкле тоже не хотелось отпускать мужа в неведомые края, но разве что скажешь, и кто тебя послушает, барскую холопку. Однако, часов в пять утра, проводила мужа, окропив его плечо слезами и долго стояла у калитки вслушиваясь в топот копыт удаляющихся коней. Вышел проводить сына и отец шестидесятипятилетний Андрей Григорьевич. По хозяйству он занимался уже меньше, силы стали не те, что раньше, а вот обязанности сельского старосты исполнял ревностно и со знанием дела. Был он справедлив и строг, крестьяне его уважали. «Ты лошадям в дальней дороге укорот давай,– напутствовал он сына. – А то до Тамбова не дотянешь, как выдохнутся и поспех выйдет в смех». «Ладно, тя-тя,– смущаясь, отвечал Африкант,– Знаю». Однако Андрей Григорьевич лично проверил упряжь, подсунул под шлею руку и, убедившись, что всё сделано как надо, отпустил сына.
Из Крюковки выехали, когда было ещё темно, с расчётом к рассвету добраться до Аткарска. Как рассчитывали, так и получилось. Только забрезжил рассвет, как показалась городская окраина. В Аткарске останавливаться не стали и, выехав из города, свернули на тамбовскую дорогу. Про город Тамбов Африкант слышал. В Саратове на базаре с кучерами из Тамбова разговаривал. Только барин сказал, что из Тамбова они поедут в Тулу. В общем, путь не близкий. Барин сказал, что за две недели управятся.
Ничего значимого с Африкантом и отставным капитаном Житковым вплоть до Тулы не произошло, если не считать оборвавшейся постромки, да влетевшей в спицы заднего колеса изогнутой палки, которая так плотно влезла между рессорой, осью и спицей, что пришлось провозиться с ней добрых полчаса, пока её оттуда извлекли.
Две крепкие барские лошади «Певец» и «Звёздочка» легко везли полупустую карету. Африкант на облучке песни поёт, пара пегих вёрсты отмахивает, а барин в карете дремлет. Сентябрь. Погода хорошая, Африкант правит да по сторонам посматривает, интересно ему, как крестьяне в этих краях живут. Так далеко Африкант никогда не ездил. Самое дальнее – до Петровска. А тут – Тамбов – Тула – Калуга.
Сама Калуга им была не нужна, потому что поместье сестры находилось между старой и новой калужскими дорогами. Африканту всё равно – новая эта дорога или старая, если он ни ту, ни другую в глаза не видел. На барина надеялся. Пётр Никитич знал те места хорошо, не раз к сестрице ездил.
Ехали не спеша. Барин был неохоч до быстрой езды, а пуще всего жалел лошадей, считая, что если они приедут на час или два позже, то ничего не случится. А вот что крепкие, сытые и не загнанные кони могут даже жизнь спасти, в этом он был уверен и неоднократно рассказывал историю про то, как лошади в зимнюю стужу и сильный снегопад с метелью его от верной смерти избавили. Он на своих пегих домой добрался, а другой барин замёрз, потому как коней при покупке подбирал более для форса, чтоб конь голову красиво задирал, да ногами игриво перебирал. Вот и доперебирались ногами лошадки – барин замёрз, а игривых лошадок волки слопали. На своих пегашек Пётр Никитич надеялся. Статью хоть и не взяли, но сильные, тягущие. Если надо, из них любая в одиночку, хоть Певец, хоть Звёздочка карету увезут.
До Тамбова никаких особых примет военного времени не ощущалось, разве что большое количество обозов в сторону Москвы шло, да партии ополченцев встречались, вот и все приметы. А вот после Тулы дорога стала иная: то на рысях кавалерия обгонит, то новенькие пушки на таких же новых лафетах провезут, то роты солдат в полном военном обмундировании строем пройдут, то фельдегерьаллюром проскачет. А как переехали речку Лопасню, то стали им попадаться группы крестьян с котомками и с малыми детьми, что навстречу шли. А чуть дальше проехали, то и сожжённые избы стали встречаться. При виде сожженных изб у Африканта по спине мурашки побежали. Нет не от испуга, а больше от тревоги, которая стала забираться в душу.
Окончательно это тревожное чувство забралось в Африканта, когда им встретился большой казачий отряд. Барин потом сказал, что это был полк, но Африкант в военных делах не разбирался. Африканту, при встрече с казаками, было надо сразу уступить дорогу и в сторону свернуть, да он замешкался, так его казацкий офицер прямо так на облучке чуть плёткой вдоль спины не протянул, пришлось не только дорогу уступить, но и остановиться. «Куда прёшь! – закричал офицер,– не видишь войско идёт! С дороги!!». Дальше уж Африкант такой оплошности не давал. Он может быть и сам бы сообразил свернуть на обочину, да засмотрелся на казака у которого голова была перебинтована и левая рука на перевязи висела. «Видно с французом дрался»,– подумал Африкант. А ещё он залюбовался стройным донцом под казацким офицером. Не жеребец – огонь. Косит на Африканта лиловым глазом, а у самого с губ пена падает. Жеребец на месте не стоит, то пятится, то приседает, то на дыбы норовит встать. А как только карета остановилась, офицер с дверцей кареты поравнялся и рукоятью плётки по дверце постучал. Барин дверку открыл, высунулся.
– Командир первого казачьего эскадрона лейтенант Чуб,– отрекомендовался офицер и козырнул.
Барин тоже отрекомендовался, но не как положено – дворянин такой-то, а по военному: «Капитан от артиллерии в отставке …» и так далее. Офицер Чуб Петру Никитичу ещё раз честь отдал, уже как старшему по званию и говорит:
– Вы бы поостереглись дальше ехать, господин капитан, французы вокруг шалят, как бы вам на их интендантов не наскочить, или с авангардом маршала Даво не встретиться. Они за нами следом идут… Тю, чёрт, разыгрался!..– урезонил он донца.
– А что, это опасно? – спросил барин.
– Не знаю, – уклончиво ответил казачий офицер. – Драгуны Даво может быть и не тронут, а вот в лапы к лессепским мародёрам попадаться не советую.
– А кто этот Лессепс? Что-то я о таком французском главнокомандующем не слышал. Маршала Даво – знаю, про Мюрата слышал, а Лессепса… не припомню, не было такого главнокомандующего под Аустерлицем.
Услышав про Аустерлиц, казачий офицер, проникся особым уважением к боевому капитану и пояснил:
– Лессепс у Банопарта руководит снабжением московского гарнизона. Мародёры из мародёров. Шныряют по деревням вокруг Москвы и отбирают всё съестное…– и вдруг спросил. – Вам беженцы по дороге встречались?
– Попадались люди с котомками и с детьми малыми.
– Их работа. Люди из ограбленных деревень уходят, зачастую идут без корки хлеба в кармане. Берут лессеповцы всё подчистую…. А за своё кровное вступишься, то и красного петуха получай, а то и круче обойдутся. Сворачивать вам с дороги надо, пока не поздно. А лучше вообще в такое время никуда не ездить. Можете без кареты и без своих лошадей остаться или вообще без головы.
–Так сестру жалко. Я за сестрой еду…– произнёс Пётр Никитич сокрушённо.
– Жалко – не жалко, только время неподходящее. Смотрите сами…
– Нет, мы поедем,– твёрдо сказал барин.
– Я приказа «заворачивать встречных» не получал,– сказал казачий офицер и улыбнулся,– затем, немного подумав, добавил. – Встретятся французы, то…– Чуб многозначительно возвысил голос на последнем слове и произнёс его протяжно с подтекстом, дескать, догадывайтесь сами.
– Понятно, не говорить, что вас видели…– перебил его барин. На что офицер улыбнулся и этак ещё более загадочно сказал:
– Этого как раз скрывать не надо, если остановят и спрашивать про нас будут, вы не скрывайте, а говорите как есть, видели мол, только не полк, а гораздо больше. – Затем, немного подумав, уточнил. – Лучше притворитесь, что вы в воинских формированиях ничего не смыслите и скажите просто «много»… Вот и всё.