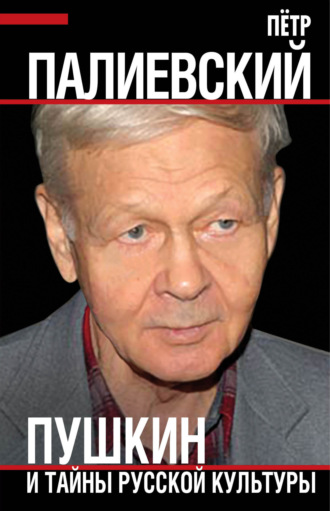
Пётр Палиевский
Пушкин и тайны русской культуры
Пушкин как задача
Известна гоголевская мысль: «Пушкин… это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Это было сказано в 1834 году, и, значит, если подходить буквально, осталось примерно две трети века до исполнения этого пророчества. Никто, понятно, не обязан ему верить. Но все же многое говорит за то, что Гоголь и подхвативший его идею Достоевский были правы, поставив Пушкина перед русским человеком как задачу: не позади, каким он, естественно, оставался в истории, а впереди. Не в точных сроках было дело, а в том, что задача эта стала находить себе исторические решения и подтверждения. Речь пошла о духовном облике, складе человека («явление чрезвычайное, может быть, единственное явление русского духа»). Тут действительно оказалось так, что по стечению разных обстоятельств Пушкин явился своего рода предвосхищающей мерой – направлением, которым пошла «народная тропа».

Александр Пушкин
Иначе говоря, он стал началом, связью, в которой было заложено будущее. И эта историческая тайна его, которую – о чем совершенно справедливо говорили Гоголь с Достоевским – мы разгадываем, как раз и состоит в том, что содержание ее не удается точно оценить и определить, пока это будущее не настанет. То есть получается так, что русская литература разрастается не только от Пушкина, но и к Пушкину, тянется своими ветвями к этому идеалу, которого не может пока исчерпать, и только удаляется, удивляясь всякий раз полноте, предположенной позади, которую нужно еще исполнить. Пушкин в русской литературе своего рода «потерянный рай». Усилия писателей сосредоточены на том, чтобы его возвратить; взять же и возвратиться просто – нельзя.
Что сделало Пушкина такой связью? Ответить на этот вопрос сразу невозможно. Ответы дает один за другим история нашей литературы. Они заключаются в том, что проблемы развития, которые наша литература, сталкиваясь с жизнью, постоянно находит и решает с немалым трудом, оказывается, были уже «решенными» у Пушкина. Тем самым разгадывается всякий раз часть его обаяния. И бунт того или иного писателя или направления, который был против него поднят, кончается возвращением блудного сына и заслуженным ликованием.
Так, толстовское отталкивание от пушкинских повестей, которые были, по словам Толстого, «голы как-то», то есть не имели достаточной плоти, казались пунктирными, логичными, окончилось у Толстого «возвращением» к поздней манере его письма, и на этом фоне открылось, что пушкинские, сухие слова были живописны и полнокровны, только так, что ни живописность, ни полнокровность нигде сами по себе отдельно не проявлялись, а прятались в составе целого.
Точно так же убыстрение к трагическому обрыву, которое провел с русским человеком, предостерегая его, Достоевский, такое «антипушкинское» как будто, разрывающее гармонию, вся эта раскольниковская идея «преступить», оказывается, задним числом была уже поставлена пушкинским Германном, незаметно, не отдельно, в составе изящной невозмутимости стиля «преступившего» через свою Лизу и свою «старуху»…
Именно эта связанная в целом и только потом раскрываемая тайна отличает Пушкина. Это совсем не то преемственное сходство, которое помогает обнаружить предшественника – вроде того, как в стихе Баратынского мы сумеем различить при желании уже и Лермонтова, например:
Люблю я красавицу
С очами лазурными.
О! В них не обманчиво
Душа ее светится!
И если прекрасная
С любовию томною
На милом покоит их,
Он мирно блаженствует,
Вовек не смутит его
Сомненье мятежное.
Или Фета:
Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?..
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет,
Все цепенеет,
Лишь ветер злой…
Или Тютчева:
Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы, Людских сует, забот юдольных.
Совсем не такими подобиями открывает свою связь с русской литературой Пушкин, хотя у него они тоже сколько угодно могут быть найдены. Его идея – первоначальное совершенство, соразмерное и простое, нигде не торчащее вбок ни одной мыслью, которые только потом разорвутся, пойдут сталкиваться, враждовать или заключать союзы, разрушаться в одинаковость, обнаруживать близость и т. п.
Даже последующие переходы от одного писателя к другому, необходимые с точки зрения развития, были предусмотрены и уже исполнены Пушкиным. Несомненное «дополнение» Достоевским, например, Толстого, совершившееся в том, что Достоевский зачерпнул изнутри, стал понимать людей зла, «отпавших» и направленных против жизни, о которых Толстой говорил всегда только извне и, очевидно, просто был не в состоянии изнутри себе их представить, – то дополнение, которым современная литература была даже сначала польщена, вообразив, что Достоевский забрался в душу растлителю для того, чтобы признать его «права», – и оно ведь было решено пушкинским Сальери, и короткими фразами ростовщика из «Скупого рыцаря», и Гришкой Отрепьевым, отделившим себя от Пимена всего одним словом (того же склада, что и у современных небрежно-суровых и скупых): «старик» – «Старик все пишет» – про себя, а ему: «Честной отец!»
То же и центральный пушкинский герой: сколько понадобилось времени, чтобы значение его стало расти. Ведь в первый момент среди современников, принимавших пушкинскую прозу за что-то подобное забавному экспериментированию, его ценность прошла совершенно незамеченной, нерастолкованной, так сказать, – даже осмеянной за убогость, несмотря на призывы наиболее проницательных людей понять (Гоголь: «Сравнительно с «Капитанскою дочкою» все наши романы и повести кажутся приторною размазнею… В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкою, бестолковщина времени и простое величие простых людей»). Лишь последующее движение показало, какой трудностью стал этот непритязательный, ненамеренный пушкинский герой, – проблемой, которую литература никак не могла точно решить, постоянно проскакивая «насквозь»: то в елейность (Каратаев), то в упрощение («Хозяин и работник»), то в поучительный символ (Марей у Достоевского, бунинская «Старуха») и т. п., хотя и победы были замечательны (Максим Максимыч, Тушин). И тут литература пошла вперед, разгадывая, может быть и не желая того, Пушкина.
Не подлежит сомнению, что в советское время есть в новых условиях та же традиция. Ни один почти писатель не проходит мимо Пушкина как идеала, понимаемого, разумеется, по-своему. Особенно показательны поэты, приглашающие Пушкина «в наши дни», совершенно искренне жалеющие, что его нет рядом, так как они убеждены, что встретили бы в нем единомышленника (даже Маяковский). Будь у нас такие собрания, какие составлял когда-то В. Каллаш (Русские поэты о Пушкине. М., 1899, с добавлением – Киев, 1902), мы бы видели это ясно. Тут выступает всякий раз настолько интересный «Мой Пушкин» (Горький, Брюсов, Есенин, Цветаева, тыняновский «гений в толпе», Булгаков и т. д.), такие концепции именно современного человека, что, как бы ни разрывалась исследуемая личность по принципу «лебедь – щука – рак», в каждом усилии открывается что-то новое в смысле исторического роста человека «Пушкин», хотя и не с той обязательно стороны, на которой настаивал открыватель.
Так или иначе, движение в решении этой человеческой задачи продолжается. Но если признавать вообще ее значение, то мы могли бы, кажется, и представить себе кое-какие сознательные шаги к ее решению.
Хорошо бы, например, издать Пушкина так, чтобы полнее восстановилась его личность. Нисколько не посягая на другие издания, наоборот, расширяя их веером, отчего бы не добавить к ним еще одно: тип хронологический. Где было бы собрано не по жанрам, а по времени (по месяцам и, если нужно, по дням вместе) все, что Пушкин задумывал и, живя, писал.
Ясно, кажется, что тип объединения по жанрам – в Полном собрании – достался нам от устарелого в этом смысле XIX века, когда классификация была единственной представительницей порядка. Тщательная и долгая, часто невидимая в результате работа текстологов, историков и комментаторов накапливалась в этих рамках; но совершенно не исключено, что весь их соединенный труд мог бы явиться читателю и с новой стороны. Необходимы, конечно, отдельные издания лирики, сказок, поэм, или драм, или исторических сочинений, так как всегда существует выборочный интерес. Но все же у личности есть свой порядок (когда она есть), и если уж представлять ее целиком, то перекладывание ее по жанрам в Полных собраниях нельзя считать единственно верным.
Правда, что не все у всех равноценно; не с одинаковым удовольствием станем мы читать у Некрасова, например, его написанные вместе с Панаевой романы или у Толстого его нравоучительные статьи; пусть себе отводят им отдельные тома – может быть, так лучше. Но относительно Пушкина давно сказано, что каждая строчка его драгоценность; один писатель добавлял даже: «и в зачеркнутых строках ничего плоского или глупого»; так разве не выиграют они, когда возвратятся на свое естественное место друг подле друга, как были в мысли открывавшего их человека, если именно целую мысль мы хотим понять?
Представим себе, как они станут рядом: рисунок (каждый должен быть приведен), набросок, стихотворение, завитушка, письмо, поэма, запись в дневник, статья… Все об одном, в одном состоянии, хотя на разные темы. Обычно мы просто этого не видим или восстанавливаем с усилием: «а в это же время Пушкин писал», – так почему бы и не дать «в это же время», начиная прямо с детства. Теперь, к нашей общей радости, нашелся портрет маленького Пушкина – туда его. Туда же первую эпиграмму (на себя), которую сохранил Павлищев: «Dismoi,pourquoiI'Escamoteur… (Скажи, отчего партер освистал моего Похитителя? Увы, потому что бедняга автор похитил его у Мольера)».
Потом Царское Село, – «Монах», «Тень Фонвизина», «Красавице, которая нюхала табак»…
И письмо Вяземскому, еще почтительное, на «Вы»: «… время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Целый год еще дремать перед кафедрой… это ужасно. Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой Россиады, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения!»
Тем временем все так же естественно делится и по местам пребывания, где оно рождалось; откуда набиралось, среди прочего, новое: Петербург, юг (то есть Кишинев, Крым, Одесса), Михайловское, Москва, столица, Болдино и т. д. Они тоже стягивают мысль вокруг себя, соединяя личность.
Трудно сомневаться, что среди возвращенных таким образом друг к другу строчек вскроются глубина и единство, еще, может быть, не замеченные. Лучше будет виден рост человека, откуда, зачем и куда он шел, выступят узлы, перекрестки мысли; яснее, вероятно, станут и спорные проблемы (убеждения позднего и раннего Пушкина, например); легче, без статистики, можно будет видеть, какие жанры и когда он предпочитал, где было больше поэзии и откуда пошла проза и пр. Преимуществ, очевидно, хватит, причем именно непредвиденных.
А с недостатками можно справиться, хотя бы потому, что в обычных изданиях их нет, то есть прочно в памяти лежит та связь, которую оставили и будут оставлять объединенные жанры. Можно бы решиться даже разбросать «Онегина» по главам, как и писалось. Таких – не надо забывать – принимали современники: ждали, гадали и прикидывали, сравнивая из того, что Пушкин вообще писал. Нечего говорить, что роман этот есть целое. Но целое, распределенное на всю почти пушкинскую жизнь, через перевал (Михайловское), откуда виден и ранний Пушкин и поздний. Понять это «единым духом», надо признаться, не удается: «Онегина» надо читать и читать. В том числе, наверное, и подобным способом. Вспоминать уже написанное вместе с Пушкиным, как это и делал, взрослея, он сам. И после последней главы, естественно, станет: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний».
Для такого дела нельзя было бы жалеть ни лучшей бумаги, ни лучших иллюстраций (документальных). Выпрямляющая способность пушкинской личности в полном смысле неоценима.
Пушкин, Европа, мир
Хотя и говорят, что у каждого свой Пушкин и любовь к нему ревнива, ревности этой чаще всего приходится отступать. Выясняется, что Пушкина хватит на всех, больше того, в этом заключена его особенность; упорствующая мысль скоро находит в нем очертания общей дороги. Нисколько не понуждая ее мириться с мыслью ей противной, ей открывается, как правило, нечто более важное – возможность своего места в мировом развитии, которое определил для русской литературы Пушкин.
Естественно, как важно для нас представлять себе направление этой дороги. Момент, когда она образовалась, откуда и куда благодаря Пушкину пошла, продолжает занимать нас и в юбилеи и без них, потому что дорога эта, конечно, далеко не кончена, и в первом се обозначении до сих пор выявляются многие возможности, к которым возвращается мысль.
Они и видны здесь более наглядно, так как литература, нащупывая их, начинала все заново. В 1834 году Пушкин пишет «о ничтожестве литературы русской», то есть повторяет то, что говорят вокруг него многие: Надеждин, И. Киреевский, Веневитинов, Белинский; – «у нас нет литературы». Ее действительно нет в сравнении с развитой классикой других народов. Зато, обозрев их и учтя, она может начать с высшей точки сразу, показав, что у нас есть в направлении того, что может или должно быть. Эту задачу Пушкин с начала пути осознает как нечто вполне себе посильное, хотя и проблематичное:
Великим быть желаю,
Люблю России честь.
Я много обещаю —
Исполню ли? Бог весть.
Перед ним три классически развитые и достигшие в своем роде совершенства идеи. Каждая из них является исторически проверенным путем, принесшим свои результаты и наложившим ясную печать на национальный стиль. В самом грубом определении это французский рационализм, немецкое романтическое презрение «духа» к жизни и английский практицизм.
Они лучше других знакомы в России, с ними общаются, они имеют и бытовые соответствия (как, если оставаться в пределах пушкинских примеров, «геттингенская душа» Ленского, англоман Муромский, «милорды Уоронцовы», и т. п.). Конечно, в круговой ориентации пушкинской идеи очень многое значат и другие, особенно восточные стили, добирающиеся в своем влиянии до основ мировоззрения (например, презрение к смерти, которому он, по его словам, «обязан пребыванию… между азиатцами», VIII, 72), а также общие состояния европейской литературы, выраженные, например, в понятии «байронизм». Но эти – сильнейшие и наиболее устойчивые, фундаментальные, стратегические. Рождающаяся новая мысль никак не может их обойти и по отношению к ним просто обязана занять какую-то позицию, если хочет двинуться вперед.
Ближайшая из них французская. Она впитана глубже других, знакома до тонкостей. Общение с ней и преодоление – дело внутреннее, почти интимное; тут допустимы оценки и суждения как бы домашние, имеющие право на крайнюю резкость без ссоры; понимание достигается с полунамека. Но по существу отношения очень серьезные.
Достигнутые французской традицией ясность и чистота выражений приняты безусловно и навсегда. Ты прав, сказано Вяземскому о русском языке, «дай бог ему… образоваться наподобие французского, ясного точного языка прозы, т. е. языка мыслей» (X, 153). Именно мыслей… но сам себя Пушкин называет «поэтом действительности» (VII, 116). В образовавшейся щели виден принцип расхождения.
Точнее было бы сказать – не расхождения, так как отталкиваний нет, но того пространства, где помещается свое. Баланс этих родственных отношений Пушкин подводит в статье «О ничтожестве литературы русской», центральный герой которой (статья дописана, характерно, лишь во «французской» части) – Вольтер. Он «великан», влияние его «неимоверно», он несет «новые мысли, новые направления». Но «ничто не могло быть противуположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя» (VII, 312). Предоставленная самой себе, оторвавшаяся от источников, самоуправствующая мысль оказалась опустошенной. «Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия; роман делается скучною проповедью или галереей соблазнительных картин» (VII, 313). Новая французская литература сама в исканиях. Хотя в ней много интересного – «пылкого» (Гюго) или смело-беспорядочного, как у Мюссе (этих поэтов Пушкин признавал в отличие от «несносного», по его словам, Беранже), – ничего нового для определения мирового развития в ней нет, и в этом смысле она не принимается в расчет. «Столбовая дорога» идет, во всяком случае, уже не здесь и должна быть продолжена не отсюда.
Вторая идея ориентации – немецкая. Идея глубин духа, его воли и свободных прав в отношении к связывающим силам «наличного». Ее борьба с регламентирующей ясностью французской традиции признается справедливой и имеющей для России положительное значение. «Влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии» (VII, 276) и т. п. («Путешествие из Москвы в Петербург». Но идея построения мысли и действия на основе глубоких и правильных понятий встречает у Пушкина неожиданное для ближайших сподвижников сопротивление. Напрасно уговаривает его Веневитинов, самый последовательный представитель этой линии, создать национальную философию и от нее развертывать литературную систему (он первый и вводит системы». – Избранное. М., 1956, с. 200). Пушкин этому чужд, никак не соглашаясь выводить национальное самосознание и оформляющую это сознание литературу из теории – как угодно глубокой. «У одного только народа, – пишет он с явной осторожностью, – критика предшествовала литературе – у германцев».
Веневитинов видит причину «медленности наших успехов» в том, что Россия «воздвигла мнимое здание литературы без всякого основания». «Мы получили форму литературы прежде самой ее существенности», – очевидно подразумевая существенность в этом именно немецком смысле. Он критикует с этой точки зрения первую главу «Онегина», уверенно отводя обвинения Полевого в том, что делает это будто бы из «скрытого предубеждения» к Пушкину. Предложенная им программа поражает смелостью и беспощадностью теоретика.
«При сем нравственном положении России одно только средство представляется тому, кто пользу ее изберет целию своих действий. Надобно бы совершенно остановить нынешний ход ее словесности и заставить ее более думать, нежели производить. Нельзя скрыть от себя трудности такого предприятия. Оно требует тем более твердости в исполнении, что от самой России не должно ожидать никакого участия; но трудность может ли остановить сильное намерение, основанное на правилах верных и устремленное к истине? Для сей цели надлежало бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание, и, опираясь на твердые начала новейшей философии, представить ей полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение» («О состоянии просвещения в России», 1826 г.).
Пушкин отвечает на эти притязания по обыкновению уклончиво, объясняя свою позицию настолько, насколько ее собеседник способен принять – или чуть больше. «Я говорю, – пишет он Дельвигу об общении с «любомудрами», – господа, охота вам из пустого в порожнее переливать – все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы… Московский Вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? (Впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB). А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану я терять»
Последние слова, между прочим, показывают, с какой скоростью идет становление. Но до решительного «нет» Пушкин, кажется, успевает испробовать и предложенный вариант, чем вызывает безоговорочный восторг его сторонников. И не где-нибудь, а на любимом создании – в «Борисе Годунове».
«…Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену – такой способ работы для меня совершенно нов» (Н. Н. Раевскому из Михайловского; X, 776).
Способ этот не только нов, но и, по-видимому, для Пушкина единствен. Показательно, что из всех «легкомысленных» созданий Пушкина «метафизики» выделили «Бориса» сразу (известен рассказ М. П. Погодина и др. об ошеломляющем чтении) и за что, – по словам того же Д. Веневитинова: «некоторые читатели, быть может, напрасно станут искать в этом отрывке той свежести стиля, которая видна в других произведениях того же автора…» («Разбор отрывка из трагедии г. Пушкина»). Похвала более чем сомнительная, хотя высказывается она, очевидно, как высшая. Заметил ее Пушкин или нет, неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что более ни в каком другом его произведении разделения на сцены, требовавшие только рассуждения, и сцены вдохновения увидеть никому не удавалось. Урок был учтен; «двух частей» Фауста в основании русской литературы не явилось.
Третья стихия – английская. Она наименее распространена в тогдашней России, не имеет в литературе именитых сторонников, кажется, и вообще никаких. Воспринятые через нее международные течения приживаются легко (сентиментализм, байронизм и т. п.); сама она в ее собственной генеральной тенденции едва ли и осознается. Пушкин, как это ни странно, вероятно, единственный ее проводник и насадитель; но, конечно, не пропагандист. Отчасти потому, что она сама принципиально враждебна какой бы то ни было теории, и ее теоретического принципа (который можно было бы сформулировать и рекомендовать) не ухватить; а главным образом потому, что его собственная задача, хотя и соприкасающаяся, другая.
Эта английская идея практической целесообразности означает прежде всего деловую пригодность: работает – прекрасно; нет – никакие умозрительные оправдания не принимаются и в расчет не идут. С точки зрения стиля, склада мысли, предпочтительных форм это означает бесцеремонное отбрасывание всего желаемого ради того, что вводит кратчайшим путем в дело, простоту вещественности, свободную трактовку обязательств, прозаизм и потешающийся над ним юмор (странности).
Насколько можно судить, Пушкина этот мир увлекает в первую очередь способностью контроля (и самоконтроля) над фантазией и сближением ее с требованиями повседневной жизни. Наилучшее приложение этой идеи он хотел бы видеть в критике. Начиная с Михайловского, то есть с 1824 года, по разным поводам поминает он «Edinburgh Review»; с непонятной, видимо, для адресата страстью просит П. Катенина взять на себя роль судьи в литературе по этому образцу; хвалит, незаметно подталкивает в эту сторону германофилов-«метафизиков» («… московская критика с честью отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать на ряду с лучшими статьями английских Reviews»), выдает желаемое за действительное («философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому»; VII, 276), – его не слушают. Тогда он сам берется за решение этой не находящей исполнителя задачи.
По дороге в Германию И. Киреевский останавливается в Петербурге и пишет домой: «На Литературную газету подпишитесь непременно, милый друг папенька; это будет газета достоинства Европейского; большая часть статей в ней будет писана Пушкиным, который открыл средство в критике, в простом извещении об книге, быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах. В его извещении об исповеди Амстердамского палача вы найдете, как говорит Жуковский, и ум, и приличие, и поэзию вместе» (15 янв. 1830 г.).
Предвкушая встречу с Шеллингом и Гегелем (который весьма высоко его оценил), Киреевский, разумеется, не видит английских адресов этой манеры, хотя непроизвольно (словами Жуковского) отмечает особенность Пушкина («все вместе»). Оценить ее трудно в нашей традиции и по нынешний день, так как радикально новаторское поведение Пушкина в критике, печатавшего ее в «Современнике» без всяких зачинов, концов, в несколько строк и даже без заглавия или подписи, как суждение и только, с которым читатель волен посчитаться или пропустить, остается и теперь недосягаемой мечтой (см. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Послесловие к «Долине Ажитугай» Казы-Гирея и др.).
Однако можно заметить, что невидимо для безразличных современников английская ориентация Пушкина растет. Смерть обрывает ее едва ли не на высшей точке. Это не значит, как обычно, его перекрещивания в иную эстетическую веру; но движение навстречу, с тем чтобы понять и усвоить, становится наиболее сильным. Он переводит, стилизует под переводы, выдает за английские свои сочинения, перекладывает стихами пуритан – движется все дальше, вплоть до «отца нашего Шекспира», этого символа равнодушного опыта перед лицом человека, – стараясь, видимо, понять, уловить и преодолеть самый принцип этого миросозерцания, неисправимо трагического в своей основе. Очевидно его желание заглянуть дальше этой правды и найти где-то спрятанное за ней основание своей (и без доказательств для него бесспорной).
Но на этом он и останавливается. Если про другие национальные стихии можно сказать, что Пушкиным найдено для них дружественное взаимопонимание – для французской, итальянской, испанской, немецкой (тут и без него многое сделали), древнегреческой, библейской, арабской, не говоря уже о семейном общежитии славян, – то общение с английским началом выглядит как незаконченная встреча. В одной мелкой заметке Пушкин говорит: «Гете имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии – и остался хром, как Иаков» (VII, 518).
Тут можно бы увидеть тень отношений Пушкина и Шекспира, если бы не существенная разница: Пушкин ни с кем байронически не боролся, и самый принцип его общения не предполагал жестоковыйной идеи возобладать. Шло внимательное сближение, готовое немедленно научиться и перенять, попытка обнять в общей правде. Отношение к Шекспиру осталось поэтому открытой проблемой, перешедшей от него в русскую литературу.
Так вкратце выглядели внешние моменты отсчета, если не сами по себе, то во всяком случае как они представлялись русской художественной идее, ищущей новой мировой дороги. Повторять их было бесполезно, тем более что каждая успела достаточно обнаружить и свою обратную сторону. Французская – формальность, регламент, заботу «о наружных формах слова» (VII, 310); немецкая – отвлеченность и планомерный произвол; английская, деловая – эмпиризм и партикулярность, что обошлось англо-саксонской культуре в отсутствие собственной музыки (классической, конечно).
В то же время, чтобы сдвинуться, хотя бы и ориентируясь по другим, нужно было опереться на что-то свое.
Набрасывая еще в 1822 году первый вариант так и не оконченной им общей статьи о русской литературе, Пушкин записал (по обыкновению сравниваясь с французской); «Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! – обычаи, история, песни, сказки – и проч.» (VII, 533). Как всегда, он незаметно точен: перечислены источники, по каждому из которых он выскажется потом подробно.
Язык. Это самое бесспорное. О нем писал еще Ломоносов. Пушкин добавляет: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты; величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (VII, 27).
Правда, это всего лишь, как точно сказано, «материал», и далеко не законченный в формировании. Но оно и лучше, потому что оставляет свободу действий, а направления работы ясны: 1) нужно довести его, как уже упоминалось, до «языка мыслей», так как «ученость, политика и философия по-русски еще не изъяснялись» (VIII, 31); 2) одновременно развить его самобытность и живость: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность» (X, 76). Обе задачи встречно совпадают.
Пушкин чувствует здесь наибольшую уверенность, укрепленный сознательной деятельностью вокруг и борьбой, которая, как он видит, в конечном счете уравновешивается в верном направлении. Например, если «славяноросская» тяжеловесность Ломоносова начинает сообщать языку явную косность, – является Карамзин, который избавляет его «от чуждого ига» («возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова»; VII, 278); угрозе европейской безличности, если она начинает проявляться в деятельности реформистов, спокойно противостоит Крылов; есть в этих столкновениях свое место и у «шишковистов» – «между коими также были люди с дарованиями» (VII, 309).
Не случайно именно после «языка» стоит «смелее!». Он единственный убедительный гарант. Зато все остальное в тумане.
Обычаи. Они ничем не закреплены, самого разного происхождения и часто противоположны. Устойчиво объединяющей их идеи нет, они никем, за исключением дивящихся при случае иностранцев, не собраны, не описаны, идут пестрым самотеком. Никто не знает, да как будто и не заботится, что составляет оригинальную физиономию народа, к которому он принадлежит. Пушкин пробует определять ее так: «Некто справедливо заметил, что простодушие (naivetebonhomie) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» (VII, 32). В другом случае Пушкин говорит, что «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер» (VIII, 126; это будущая идея славянофилов); раза два еще о «недоброжелательстве» как «черте наших нравов» – «в народе выражается она насмешливостью, в высшем кругу невниманием и холодностью» (VI, 567); есть по стихам ряд односложных противопоставлений, за которыми угадываются какие-то постоянные мотивы, хотя и они могут быть высказаны в момент запальчивости и быть оскорбительными для других, например, «кичливый лях иль верный росс» (ср. мнение Екатерины, что основная черта русского народа «послушание», не раз потом подчеркивавшееся «терпение») или «суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их» – в отличие от Овидия («златой Италии роскошный гражданин») и т. п.


