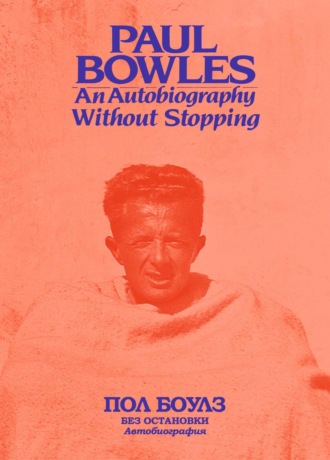
Пол Боулз
Без остановки. Автобиография
Глава IV

До сих пор тётя Мэри не входила в моё повествование. Эта серьёзная и милая женщина жила в большом доме и называла папу, мать и меня «ягнятки мои». Невозможно рассказать о тёте. не упомянув Золотой зал – старый дом, в котором она жила. Стоящий высоко на холме дом построил её дед Фокс Холден. С раннего детства я обожал бродить по разным этажам и комнатам с высокими потолками, пока не оказывался в таинственном, похожем на башню пространстве, где стоял душный запах пыли. Вдоль стен комнаты стояли диваны, а окна закрывали тяжёлые двойные портьеры. Место называлось Комнатой для медитаций. Здесь каждое утро тётя Мэри с подругами проводила час, погрузившись в себя. В доме постоянно гостил кто-нибудь из её друзей и подруг, чаще всего несколько человек, а не один. Подруги были сильно привязаны к тёте Мэри, и часто начинали «чувствовать себя потерянными», когда её не было рядом.
Духовный мир тёти Мэри представлял собой смесь индийского мистицизма, гипнотизма и прагматизма. Во время медитации она иногда жгла кубики-благовония ЕПБ. На этих благовониях были выдавлены инициалы ЕПБ, т. е. создательницы теософии Елены Петровны Блаватской. Тётя Мэри была знакома с Блаватской, фотография которой в массивной серебряной рамке стояла у тёти на столе в библиотеке. Дым благовоний, по словам тёти, был способен вводить в состояние транса всех, кто концентрирует своё внимание на одной определённой идее и держится при этом друг с другом за руки. Кроме этого, тётя практиковала некую форму тантризма, утверждая, что повторение определённых слов является полезным для души.
Доктор Холден хотел, чтобы дом стал центром общения с духами в западной части штата Нью-Йорк. Как только дом был построен, в нём по ночам начали проводить сеансы. В комнатах слышались постукивания и поскрипывания. Однажды в одной из кладовок на третьем этаже я нашёл кипу тетрадей, в которых содержались дословные записи спиритических сеансов. Судя по всему, одним из самых доступных духов оказался дух губернатора Де Витта Клинтона, которого регулярно вызывали и расспрашивали о прокладке и управлении каналом Эри. Другим часто появлявшимся духом была некая старая миссис Гернси, у которой было своё мнение по самым разным вопросам. Её ответы, как мне показалось, удовлетворяли спиритуалистов.
После смерти доктора Холдена мода на спиритуализм прошла, и обитатели дома увлеклись трансцендентализмом. Кристина Холден, мать тёти Мэри, сделала смелую, но тщетную попытку заинтересовать разных религиозных мыслителей в созданном ей трансцендентальном центре. (У меня есть письмо от Уильяма Джеймса[22], в котором тот отказывается принять участие в работе центра, но не по каким-либо принципиально философским причинам, а из-за того, что по его опыту в подобных центрах ведётся много разговоров, имеющих мало практического смысла.)
Тётя Мэри была замужем, но её муж и дочь уже давно умерли, и она одна осталась в огромном доме, иногда даже без проживающей с ней служанки. Зимы она проводила во Флориде, обдумывая темы и предметы для летних сессий медитации. Когда мне было четырнадцать лет, она пригласила меня и мою двоюродную сестру Элизабет, которой было семнадцать, провести несколько недель в Золотом зале. Я был очень рад приглашению, потому что мне нравился дом и спокойная жизнь, которая в нём протекала, и потому, что был очень расположен к Элизабет. Она была взрослой и воспринимала меня как серьёзного и взрослого человека.
Я пробыл в Золотом зале самую малость, когда заметил, что тётя Мэри часто смотрит на меня, и на лице её смесь испуга и удивления. Сперва я подумал о том, что она каким-то образом прослышала об истории с ампулами из-под морфия, но потом решил, что это маловероятно, и начал считать, что её поведение объясняется эксцентричностью характера, которая может появиться с возрастом. Поэтому я совершенно не удивился тому что однажды после ужина тётя Мэри сказала: «Ты устал. Ложись спать, а мы с Элизабет поболтаем в библиотеке».
Я лёг в кровать, но через полчаса встал и приоткрыл дверь спальни, чтобы услышать хотя бы обрывки их разговора в библиотеке. В доме было тихо, лишь слышались приглушенные, доносившиеся из библиотеки голоса. Неожиданно тётя Мэри открыла дверь библиотеки, и я явственно услышал её голос, как бы подводящий итог сказанного ей ранее: «Так что единственное, что я могу сказать, это то, что, как мне кажется, у Пола наблюдаются все признаки мальчика, который идёт скользкой дорожкой, по наклонной».
Я быстро закрыл дверь спальни и снова лёг в кровать. Я очень рассердился на то, что они обсуждали меня, и то, как тётя Мэри без какого-либо повода так обо мне отозвалась. Я стал вспоминать события последних дней, пытаясь припомнить то, что сказал, и что могло вызвать такую неожиданную реакцию с её стороны. Я заснул, всё ещё размышляя над тем, что могло так необъяснимо настроить тётю Мэри против меня. На следующий день, как только мы остались с Элизабет наедине, я спросил: «Что она имеет в виду, говоря „идёт по наклонной“? Она, что, думает, что я банки граблю?»
«Ну, она считает, что у тебя плохие друзья, – осторожно начала Элизабет. – Понимаешь, которые на перекрёстках свистят женщинам вслед».
Я просто ушам своим не поверил.
«Да о чём это она!? – воскликнул я. – У меня вообще нет друзей!»
Она улыбнулась с мудрым и проницательным видом.
«Ты же знаешь нашу семью. Знаешь, как все друг друга обсуждают. Если кто-то хоть немного отличается и не ведёт себя так, как остальные считают правильным, то тут же начинается ажиотаж. Им кажется, что сейчас всё также, как тридцать или сорок лет назад. Тётя Мэри – хороший человек. Она понимает гораздо больше, чем любой другой член нашей семьи. Но она за тебя переживает».
Именно это меня и напрягало. У тёти Мэри не было ни повода для волнений, ни права так переживать по поводу моей судьбы. Значит, её негативное отношение ко мне не объяснялось чем-то конкретным, тем, что я сделал. Это отношение было похоже на травлю и было для меня неприемлемым. При этом я понимал, что подозрения тёти Мэри по поводу моего поведения были настолько глубокими, что я вряд ли смогу обсудить их с родителями. Папа не терпел мистику в любом виде, а мать, хотя и была более восприимчива и с большим пониманием относилась к этой проблематике, никаким видом оккультных наук никогда не занималась. Тётя Мэри не одобряла то, что моя мать пользовалась косметикой, пила коктейли и курила сигареты. Эти три занятия тётя Мэри считала совершенно излишними, дурными привычками, разрушающими не только тело, но и всё человеческое существо.
Через один участок от участка Хижина Подковы в Гленоре стоял дом под названием Ласата, принадлежавший трём сестрам Хогленд. Мисс Анна была тонкой и субтильной особой, мисс Джейн увлекалась керамикой, а мисс Сью была мрачной дамой и читала Освальда Шпенглера. Зимой они жили вместе в старом доме в Бруклине, в районе, который тогда был тихим и с большим количеством садов. Где-то с десяти лет мне разрешали проводить с ними выходные. Мне нравилось ходить в Бруклинский музей и слушать концерты в Бруклинской музыкальной академии. С ними я иногда выбирался и в кино, что для меня в то время имело большое значение, так как обычно родители очень редко водили меня в кинотеатры, и я мог смотреть только одобренные ими киноленты, вроде «Нанук с севера»[23] или фильмы актёра и режиссёра Гарольда Ллойда[24].
Однажды летом мы поехали навестить сестёр Хогленд, и оказалось, что в Ласате живёт ещё одна женщина. Эта дама внешностью, поведением, речью и мыслями совсем не походила на трёх сестёр. У неё были чёрные волосы и глаза, которые казались омутом темноты. Голос был хриплый, и его тон мог сильно меняться. Обычно эта дама возлежала, как принцесса, на шезлонге и била своей тростью в пол, когда ей была нужна служанка. Я узнал, что эта женщина является наполовину индианкой из племени кри и незадолго до этого прибыла из Кейптауна. Бё происхождение, внешний вид и жизненный опыт казались мне безупречными, но когда я упомянул её имя в разговоре в Хижине Подковы, то сразу понял, что сделал это крайне зря. «Совершенно аморальная женщина», – заявил папин-папа. Папина-мама сказала, что миссис Крауч является «беспринципной авантюристкой» и «закабалила бедную Сью». Я решил установить с этой женщиной дружеские отношения, несмотря на то, что, как я знал, у неё были сын и дочь на три или четыре года старше меня. Вскоре приехали и её дети. Им разрешалось пить, курить и ложиться спать, когда им вздумается. Это превратило их в моих глазах в недосягаемых небожителей, и они казались мне героями мифов. Благодаря тому, что они пользовались неограниченной свободой, они относились ко мне с большей терпимостью, чем если бы этой свободой не обладали.
В то время я писал детективные истории под названием «Серия „Женщина-змея“». В каждом из этих рассказов происходила неожиданная смерть, которая вполне могла бы объясняться и естественными причинами. В каждом рассказе очень коротко и довольно беспричинно появлялась женщина по имени Волга Мерна. Все персонажи рассказов не помнили, как выглядит эта Волга Мерна, и что она делала, поэтому её никто не подозревал. Кроме этого я напрямую не утверждал в тексте, что она имеет какое-либо отношение к преступлению, и насколько Мерна виновна, должен был решить сам читатель. Я снова нашёл слушателей, и в то лето зачитал всю серию «Женщина-змея» сестрам Хогленд и их гостям.
Напряжённость между обитателями Хижины Подковы и Ласатой открыто проявилась только один раз. Папин-папа каждое утро на рассвете поднимал флаг на флагштоке и каждый вечер его опускал. Как утверждала мама, эта привычка была у него со времён гражданской войны. Папин-папа несколько секунд стоял по стойке «смирно», быстро отдавал честь, после чего поднимал или опускал флаг на флагштоке. Однажды вечером, когда папин-папа стоял у флагштока, мимо проходила миссис Крауч. Она поприветствовала его, но тот или не услышал, или был слишком погружён в свои мысли, чтобы ответить. Она постояла, наблюдая за ним, пока он не свернул флаг и взял подмышку. Миссис Крауч с ненавистью произнесла: «Империалист!» и ушла. Папин-папа рассказывал об этом случае без чувства обиды, а скорее с чувством изумления и даже потешаясь, но миссис Крауч потом сказала: «Благодаря таким людям, как твой дед, мир и стал таким, как сейчас». Я понятия не имел, что именно она имеет в виду, и мне показалось, что её недовольство дедушкой объясняется тем, что он старомодный, поэтому такое «страстное» отношение меня порадовало.
Той осенью я решил перейти в школу Ямайка, несмотря на то, что в ней были очень душные кабинеты, не хватало стульев и довольно странное расписание с началом занятий в восемь утра. Я устал ездить в школу на трамвае. Когда я сообщил о своём решении, папа сказал: «Я знаю, почему он хочет перейти в другую школу. Потому что в новой ещё не знают, какой он дурачок».
Не знаю почему: из-за того, что здание было таким хаотично-старым, или я становился старше, но я понял, что впервые в жизни мне нравится ходить в школу. Кроме этого, я открыл для себя что-то новое, а именно то, что я могу «завалить» предмет. Раньше такая возможность даже не приходила мне в голову, но вот, оказалось, что я не могу получить даже тройку по геометрии. Условия работы в классе по геометрии были не самыми лучшими: ученики сидели на подоконниках и на полу. Однажды я купил номер журнала New Masses[25] и пустил его среди учеников, пока учитель объяснял теорему. После урока ко мне подошёл парень по фамилии Голдберг и негодующе спросил: «Как вышло, что ты читаешь New Masses?» «А в чём дело?» – спросил я. «Это журнал не для тебя», – ответил он и ушёл. Эти слова произвели на меня большое впечатление, в течение нескольких месяцев я часто вспоминал этот случай. С чего это Голдберг взял, что я недостоин читать New Masses?
Меня назначили редактором юмористического раздела школьного журнала. Скромный пост, после которого я надеялся стать редактором поэтического раздела, а дальше мои амбиции не простирались. Большую часть свободного времени в тот год я провёл в книжных магазинах в поисках уценённых изданий, главным образом списанных библиотечных книг. Я купил все книги Артура Мейчена. Однажды весенним вечером я купил свою первую книгу Андре Жида – «Подземелья Ватикана», выпущенную издательством Knopf (последующие издания романа непонятно почему выходили под названием «Приключения Лафкадио»). Как и многих моих сверстников (мне было пятнадцать) в разных странах, меня покорил acte gratuit Лафкадио[26]. По сей момент из всех произведений Жида мне больше всего нравятся «Подземелья Ватикана».
Мисс Джейн Хогленд часто говорила о «богемном образе жизни», который, по её словам, существовал в Гринвич-Виллидж. Она знала несколько живших там художников и поэтов и иногда брала меня с собой в «студию». Мне было противно, что «творцы», занимавшиеся живописью и литературой, старались выглядеть не так, как обычные граждане. По моему собственному мнению, творец – враг обыкновенных людей, и в целях самосохранения должен быть невидимым и сливаться с толпой. Где-то в глубине души я был убеждён в том, что искусство и преступность как-то необъяснимо связаны: чем более великим является произведение искусства, тем больше за него наказание. Из всех этих посещений я помню только одно – поход к Ричарду Бакминстеру Фуллеру, чтобы посмотреть на его «дом Димаксион». У него была огромная модель этого дома, которая мне очень понравилась. Она была в форме многоугольника, изготовленного из, как он говорил, казеина. Она ни одной точкой не прикасалась к земле и, если я правильно помню, её можно было вращать на оси и повернуть в любую сторону. В общем, Фуллер и его фантастический дом произвели на меня большое впечатление (для 1926 г. это был действительно смелый проект).
«Мне кажется, тебя привлекает то, что ни к чему», – сказал папа.
«Судя по описаниям Фуллера, это не так…», – начал было я.
«Я уж точно в таком доме не хочу жить! – воскликнула мать. – Дом из стекла на шесте. Все будут меня видеть! В личную жизнь лезть нельзя. Я скорее в пещере жить буду».
«Но он объяснил, как можно изменять прозрачность стен. Они могут быть полностью прозрачными и непрозрачными».
«Я не хочу, чтобы у нас стены были прозрачными».
«Как там этого гения звали?», – с издёвкой переспросил папа. Он был уверен, что фамилия окажется не англосаксонской.
«Фуллер, – задумчиво ответила мать. – Спросишь, откуда он?»
«А зачем?» – презрительно заметил папа.
В то время я чувствовал, что постоянно близок к нервному срыву. У меня часто было сильное сердцебиение, а в ушах раздавался шипящий звук. Мне стало сложно засыпать. Большую часть ночи я лежал без сна, слушая, как часы отбивают каждые тридцать минут и каждый час. Чтобы чем-либо заинтересоваться, мне надо было возбудиться, а когда я возбуждался, то в основании шеи появлялось ощущение вибрации. Возникало ощущение, что я весь дрожу, но, скорее всего, мне только казалось, раз из посторонних никто никогда мне такого не сообщал. Правда папа часто говорил мне: «Спокойно, юноша, спокойно».
Кроме занятий музыкой я ходил на субботние концерты филармонического оркестра в Карнеги-Холл. Концерты проходили с лекциями и показом слайдов, но больше всего мне нравилось, как звучит оркестр. Мне тогда казалось, что обыденность зала – нечто несовместимое с чудесными звуками, которые его наполняют. В программе исполняли произведения XIX-го века, а потом сыграли «Жар-птицу»[27]. Я не ожидал, что оркестр в силах произвести такие звуки. Воодушевлённый, по пути домой зашёл в музыкальный магазин, чтобы посмотреть, есть ли это произведение на виниле. К счастью, компания Victor незадолго до этого выпустила эти пластинки. Я купил их все и слушал постоянно, но негромко в своей комнате на своей переносной «вертушке».
Новое здание школы построили к сентябрю 1926 г. По сравнению со старым, которое мы прозвали «запахло гарью – нам каюк», новое строение казалось превосходным. Я начал шестую четверть, то есть второй семестр третьего года обучения. Стал больше общаться с людьми, а переживания не так сильно врезались в подсознание, то есть память о прошлом теряла жгучую остроту. Не то чтобы мне было сложно вспомнить, что со мной происходило, просто я был очень занят текущей жизнью. Отношения с другими людьми остаются на самой поверхности, их присутствие отвлекает нас от осознания сложностей, связанных с созданием формы нашей собственной жизни.
Тогда же начал выходить журнал New Yorker. Каждую неделю по пути к ортодонту я покупал свежий номер. В начале на центральных разворотах печатали карикатуры и комиксы Глуяса Уильямса, Ралфа Бартона, Реи Ирвин и Питера Арно, но потом быстро перестали это делать, и журнал стал более изящным и эстетским, то есть таким, как сейчас. Весной 1927 г. в рубрике «Письмо из Парижа» написали о том, что в этом городе появился новый международный журнал Transition. Я нашёл это издание в одном из небольших книжных на Шестой авеню. Ни один другой журнал не произвёл такого впечатления, как этот. Журнал жёстко критиковал сюрреализм, о существовании которого я даже и не подозревал. Мне понравился сжатый формат текста, приглушённые цвета на обложках из мягкой бумаги, а также то, что каждую страницу надо было разрезать специальным ножом. Когда раз в месяц я приобретал журнал, было чувство, что я в Париже, потому что впечатление от города, которое у меня складывалось после прочтения журнала, полностью совпадало с моим собственным представлением, каким Париж должен быть. Жители его для меня были персонами изысканными и утончёнными, чувствующими, что они в западне, циничными, но фанатично преданными своим идеям и идеалам. Париж казался мне центром мира, и глядя на восток, я ощущал призывное сиянье огней «града сего», словно мусульманин, обращенный в сторону Мекки, и знал, что в один прекрасный день, если повезёт, окажусь там и увижу эти святые места.
Меня выбрали президентом школьного литературного общества, собрания которого происходили вечером каждую пятницу. Я также получил пост поэтического редактора школьного журнала, и в определённые часы дня получил возможность пользоваться небольшим помещением. Сидя за пишущей машинкой, я практиковал изобретение поэзии «без влияния сознания». В конце концов, я мог напечатать целую страницу текста, понятия не имея, что в нём написано. Эти творения я отправил по адресу (Transition, 40, rue Fabert, Paris), внутренне надеясь, что ничто в сопроводительном письме не выдаст того постыдного факта, что я – школьник. За сам материал я совершенно не переживал, так как он родился без моего участия. Больше всего меня волновало, чтобы никто не догадался, что автору всего шестнадцать лет.
Иногда я обедал с Анни Кэрролл Мур. Когда я приходил в её офис в библиотеке, она по-прежнему дарила мне книгу. Именно от неё я впервые услышал о Виргинском университете. Она настолько заразила меня своим энтузиазмом по поводу сего образовательного заведения, что я написал в Шарлотсвилль с просьбой предоставить мне дополнительную информацию. Все в семье согласились с тем, что я пойду учиться в этот колледж. Я заканчивал школу в январе, а занятия в колледже начинались в сентябре, поэтому неясным оставалось, чем я буду заниматься промежуточные месяцы. Возможность того, что я буду бездельничать, даже не обсуждалась.
Я нарисовал несколько картин и отвёз их в дом сестёр Хогленд в Бруклине, где двое или трое присутствовавших, желая меня поддержать, предложили их купить. Я был не только рад неожиданным деньгам, но и тому, что это дало мне дополнительный аргумент в борьбе за то, чтобы получить разрешение на поступление в художественную школу после окончания средней.
«Хочешь стать хорошо образованным человеком без профессии?» – с отвращением спросил папа.
«Это всего лишь на четыре месяца», – ответил я.
Я подозреваю, что он опасался, что я слишком сильно увлекусь живописью и не захочу продолжить образование в колледже, что его бы тешило. Он не хотел, чтобы я учился ни в Виргинском университете, ни в каком угодно другом колледже. Мне не ставилось в будущем целей, для достижения которых требовался диплом, поэтому папа считал, что деньги, потраченные на моё образование – это выброшенные деньги. Художественную же школу можно было рассматривать как обучение какой-никакой, а профессии.
За несколько месяцев до окончания школы я уже начал осматривать разные художественные школы на Манхэттене, большинство из которых оказались серыми и тоскливыми местами под одну гребёнку. Здание Лиги студентов-художников Нью-Йорка отпугнуло меня слишком официально выглядевшим парадным входом. Я остановил выбор на крохотной школе, располагавшейся на верхнем этаже древнего, кирпичного, давным-давно снесённого здания по адресу 121 Центральный парк, на юге. В общей сложности там было не более двенадцати студентов. Скажем, семь человек работало в главной студии, и пять в дополнительной. Окна главной студии выходили на деревья в парке, и я решил, что несмотря на три скрипучие лестницы, место мне нравится.
Дома моё решение подняли на смех.
«Школа чего?» – переспросил папа, нахмурившись и нарочитым жестом склонив голову, словно не расслышав.
«Дизайна и свободных наук».
«Идиотское название!»
«Конечно, сейчас фундаментальное образование вообще исчезло, – заявила мать, – сплошной экспрессионизм».
«Ты можешь мне объяснить, что такое „свободные науки“?» – спросил папа спокойным тоном.
Так как я ничего не ответил, он победно улыбнулся. Но я записался на курс и заранее его оплатил, чтобы сразу решить проблемы с образованием.
Прошли выпускные экзамены в школе, которые, видимо, не оставили у меня никакого впечатления, раз я про них ничего не помню. После этого каждое утро я приходил в Школу дизайна и свободных наук, где садился вместе с другими учениками и учился рисовать абсурдные предметы наподобие кувшинов, цилиндрических контейнеров из бумаги и глиняных сосудов. Вскоре для того, чтобы постичь анатомию человека, мы начали лепить из пластилина, и появились модели. До этого я никогда не видел голого человеческого тела, будь то мужчины или женщины, и после нескольких недель наблюдения у меня отпало всякое желание смотреть на нагих людей. Я даже не подозревал, что человек может так отталкивающе выглядеть. Женщины были в три раза толще нормы, а мужчины волосатые. Я спросил директрису мисс Вейр, зачем мы тратим столько времени, рисуя голых людей. Она была поражена, и в её удивлении я почувствовал нотки недовольства моей бесчувственностью. «Человеческое тело – наивысший эстетический феномен», – заявила она. Мне утверждение показалось чем-то надуманным. Люди соглашаются, особо в него не вникая. На мой взгляд, точно такое же утверждать можно по поводу деревьев или небесных сфер. Я высказал предположение, что ухоженная кошка или лошадь гораздо красивее любого человека, но директриса и слышать не хотела. С тех пор, рисуя людей маслом, я использовал для изображения тела только синий цвет. Это никому не понравилось, включая самих моделей, которые во время перерывов, голые и потные, ходили по студии и смотрели, что мы нарисовали. Одна модель, увидев себя на картине синюшной и распухшей, словно труп, отчаянно возненавидела меня, но, к счастью, модели менялись у нас каждую неделю.
Однажды, вернувшись днём домой, я увидел, что почтальон принёс мне небольшой пакет из Парижа. Я открыл его и увидел, что там 12-й номер журнала Transition, a моё имя значится в списке авторов на обложке. Я представлял себе этот момент так часто, что он показался мне почти дежа вю. Я подпрыгнул и издал победный клич. Дома не было никого, кто мог бы заметить моё странное поведение, но если бы кто-то и был, я всё равно повёл бы себя так же. Потом я взял нож, сел и разрезал страницы до тех пор, пока не дошёл до своего текста, располагавшегося где-то в середине. Это был длинный сюрреалистический отрывок под названием «Спиральная песня». В журнал была вложена записка от Юджина Джоласа с сообщением, что редакция будет использовать моё прозаическое произведение «Сущность» в 13-м номере журнала. Мои радость и возбуждение не знали границ. Кроме этого случая о событиях 1928 года я мало что помню.
Даже месяцы спустя стоило мне только вспомнить о том, как мне повезло, как моментально накатывало состояние эйфории. Когда я отправлял в журналы свои стихи, в сопроводительном письме я мог добавить то, что являюсь автором Transition. Я никогда не задавался вопросом о том, могу ли сказать что-либо, что в состоянии заинтересовать других людей. У меня была цель – всеми возможными способами навязать людям свою личность, никаких других целей я перед собой не ставил.
В маленькой студии того класса, где изучали дизайн одежды и книжные переплёты, была одна англичанка, которая казалась мне очень красивой. Со времён школы я всегда выбирал одну девочку, которой мог любоваться на расстоянии. Понятие расстояния в данном случае было очень субъективным, потому что эта особа могла сидеть за соседней партой или за партой через проход. Маргарет Джилл, Эвелин Лейн, Эдна Кребс, Вирджиния Эндрюс и другие из списка казались мне столь же красивыми, сколь и недосягаемыми. Мне было семнадцать, и я ещё ни разу не ходил на свидание с девушкой. Нескольким девочкам, которые мне нравились в школе, не разрешали выходить из дома одним, другие не настолько сильно меня интересовали. Теперь же впервые в жизни у меня была девушка, которую я не только мог пригласить на ужин, но которая жила в своей квартире в Гринвич-Виллидж. По вечерам мы могли на некоторое время зайти в её квартиру, но не очень надолго, потому что её отец жил этажом выше и часто заглядывал к ней по вечерам, чтобы узнать, как у дочери идут дела. Я тоже не мог возвращаться домой слишком поздно. Как бы тихо я ни пытался попасть домой, родители всё равно слышали меня, смотрели на часы, и на следующее утро выказывали недовольство моим поздним возвращением. Каждый раз, когда я появлялся дома позднее часа ночи, неприятности во время завтрака на следующий день были мне гарантированы.
По окончании курса обучения я получил поощрение за «наибольшее число выполненных работ и оригинальность». Я воспринял награду как указание – я быстро работал, но медленно учился. Оригинальность я считал качеством, которое посчастливилось сохранить далеко не всем из прошедших процесс обучения. Я подозревал, что подобное поощрение придумали специально для меня, спросил об этом напрямую и получил утвердительный ответ. «Мне надо было что-то придумать, – сказала директриса. – Ты должен был получить какое-то поощрение или награду, но за качество работы я не могла его тебе дать».
Оставалось почти четыре месяца до тех пор, когда мне надо было появиться в кабинете казначея в колледже, и папа решил, что это идеальный момент, чтобы мне заняться каким-то конкретным делом. Он поговорил с одним из своих пациентов – менеджером местного отделения Bank of the Manhattan Company, который согласился нанять меня в отделе отправлений. Я был крайне удивлён тем, что банк готов неограниченный период времени платить за работу, не требующую никаких умственных усилий, на которой надо было лишь стучать по клавишам счётной машинки. Кроме этого, я должен был отвозить кейс с чеками в головное отделение банка по адресу Уолл-стрит, д. 40. Любые изменения маршрута только приветствовались. Я выбирал самые длинные и заковыристые пути, всегда ехал не скоростными, а местными поездами метро и надземных линий. В то время не в пиковые часы в метро было относительно пусто. Было приятно сидеть в прохладном вагоне, а не носиться по жаре на улице. Лучший способ увидеть Нью-Йорк – это осмотреть город из окна вагона эстакадного транспорта, особенно линий Второй и Третьей авеню, с которых открывались красивые виды нижней части Манхэттена.
Даже те дни, когда меня никуда не отправляли и я сидел под вентилятором, складывая длинные ряды цифр, были вполне приятными. Я был совершенно расслаблен, потому что работа не требовала никаких умственных усилий. Кроме этого, я был рад возможности заработать денег, которые потом могу тратить в Вирджинии. Дома все, кажется, смирились с мыслью о том, что я там буду учиться, и мать сказала, что поедет со мной в Шарлотсвилль. Я горячо протестовал, утверждая, что ей нет смысла утруждать себя такой долгой поездкой.
«Вообще-то, по идее, в колледж тебя должен отвезти отец, – сказала она. – Но он не поедет, а я тебя одного не отпущу. К тому же я в этом городе никогда не была». Перспектива меня не радовала, мне казалось, что молодой человек не должен в первый раз появляться в колледже в сопровождении матери, такое начало не сулило ничего хорошего. Впрочем, когда мы оказались в колледже, я увидел, что такая судьба постигла большинство первокурсников, потому что в отеле было полно матерей с сыновьями.
В первый день в лобби отеля мать разговорилась с дамой из южных штатов со сладким и бархатным голосом. «Вы случайно не Боулзы из Вирджинии?» – поинтересовалась дама после того, как они с матерью представились друг другу. «Нет, мы Боулзы из Массачусетса», – ответила мать. Дама немного выждала, чтобы тон голоса перестал быть сладко-бархатистым, после чего сказала: «Понятно».
«Столько лет прошло, – сказала потом мать, – могли бы придумать себе другое развлечение. Но с этим вопросом тебе придётся здесь периодически сталкиваться».
Её прогноз не оправдался: студентов совершенно не волновало, где человек родился – на Севере или на Юге. По утрам все приветствовали друг друга словами: «Доброе, джентльмены» (или «Добрый, джентльмены», если дело происходило после полудня). Все первокурсники должны были носить головной убор. На этом все обязательства в сфере общения и соблюдения социальных норм заканчивались.
Большинство студентов проживало и столовалось в частных домах. Вскоре после приезда в колледж я заметил, что во мне проснулся аппетит, и обратил внимание на то, что стал получать удовольствие от еды. С нетерпением ожидать следующего приёма пищи было для меня в новинку. Я столовался у миссис Сонденс на Чанселор стрит. Говорили, что у неё лучше всего готовят. Вполне возможно, аппетит у меня появился, потому что я стал воспринимать новое удовольствие: удовлетворение голода. Но главной причиной было всё-таки то, что за едой мне уже не приходилось выслушивать порицание со стороны родителей.
Я жил в доме семьи МакМёрдо, в котором кроме меня проживало ещё пять студентов: Дженкинс, Чепман, Грей, Шауэр и Эндрюс. Со всеми, за исключением Эндрюса, я нормально ладил. Его комната была напротив моей, и ему не нравилось, что я запирал дверь и не открывал, когда он стучался. Тогда Эндрюс пустил слух, что я запираюсь, чтобы давать волю своим рукам (в самом мерзком смысле этого слова).


