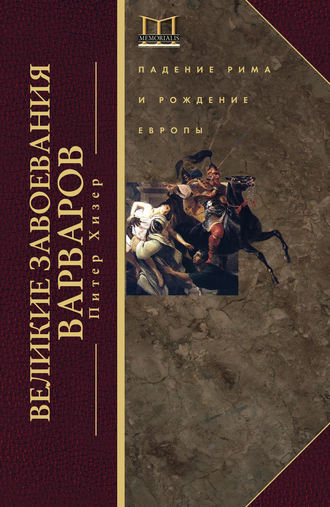
Питер Хизер
Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы
Великий спор о переселении
С 1945 года так много ключевых элементов в нарративе о миграционном прошлом Европы было поставлено под сомнение, что старые, казавшиеся незыблемыми положения этой теории лишились основ. В некоторых регионах Европы привычное, старое построение еще удерживает позиции, однако (и особенно в англоговорящих академических кругах) переселение народов было низложено до очередной вехи в исторической драме, которая теперь касается преимущественно трансформации Европы, вызванной внутренними причинами. Эта интеллектуальная революция оказалась столь значительной, а ее воздействие на более поздние трактовки миграционных процессов 1-го тысячелетия было таким сильным, что наши дальнейшие изыскания будут лишены смысла без понимания ее основных положений. Ключ к ним – порожденное послевоенной эпохой новое понимание того, каким образом люди объединяются, создавая более крупные социальные единицы.
Кризис идентичности
Может показаться странным, что, говоря о миграции, в первую очередь я заостряю внимание на вопросе национальной идентичности, однако старый «великий нарратив» европейской истории неразрывно связал феномен переселения народов и самоопределение племен, по крайней мере в 1-м тысячелетии. Тому есть две основные причины. Во-первых, миграционная модель «бильярдного стола», легшая в основу старого нарратива, предполагает, что люди всегда приходили в новые земли организованными группами из мужчин, женщин и детей, которые не контактировали с чужаками и поддерживали свою численность с помощью эндогамии (то есть браков, заключаемых исключительно между представителями одной и той же социальной группы). Во-вторых, при прежнем подходе национальная идентичность играла важную роль, поскольку предполагалось наличие непременной и очевидной связи между переселявшимися народами 1-го тысячелетия и нациями современной Европы с похожими названиями. Так, поляки были прямыми потомками славянских полян, англичане – англосаксов и т. д. Наличие национальной идентичности у этих народов было общепринятым, неизменным «фактом», наделявшим современные нации древним наследием, которое перевешивало притязания других политических образований. Там, где сами нации не могли восторжествовать на законных основаниях, играя роль главенствующей политической силы, появились новые формы власти (вроде многонациональных империй Центральной и Восточной Европы), которые навязали свою волю силой, и такое правительство необходимо свергнуть. Оба этих положения в итоге оказались неверными.
Зверства нацистов сыграли ключевую роль, заставив историков наконец пересмотреть смелое предположение, возникшее на пике европейского национализма в конце XIX – начале XX века, о том, что нации существовали всегда и были единственно верным способом организации крупных сообществ. В руках нацистов эти идеи вылились в притязания на Lebensraum («жизненное пространство» – немецкая концепция захвата и освоения земель к востоку от Германии, распространенная в 1890–1940 гг., особый интерес приобрела, когда у власти находилась НСДАП. – Пер.), основанные на том, сколько европейских земель в свое время контролировали древние германцы. К этому добавилась уверенность в превосходстве германской расы – а в результате появились концентрационные лагеря. Возможно, этот вопрос и без того рано или поздно вновь привлек бы внимание историков, однако радикальные проявления зашедшего слишком далеко национализма послужили мощным стимулом для переосмысления собственного прошлого. При более вдумчивом рассмотрении предположение о том, что древние и современные носители соответствующих языков каким-то образом обладают общей и непрерывно развивавшейся национальной идентичностью, оказалось лишенным всяческой основы. Нации, выдвинувшиеся на политическую арену в XIX веке в Европе, возможно, действительно появились в далекие времена, однако они не были возвращением к корням, к фундаментальному сообществу, некогда якобы существовавшему, но давно забытому. Без средств массовой коммуникации, ставших доступными в XVIII веке, было бы попросту невозможно связать огромные по численности и географически удаленные друг от друга разрозненные народности в национальные сообщества. Племенная идентичность не могла образоваться в ранние эпохи без помощи каналов связи, газет, железной дороги, без всего этого не мог сложиться мир, в котором слово «земля» имело бы одинаковое значение, скажем, для всех жителей Британии. Появление современного национализма потребовало совместных и сознательных усилий ученых, создававших национальные словари, описывавших национальные костюмы, собиравших танцы и народные сказки, с помощью которых впоследствии можно было «замерить» этничность (мне всегда представлялось, что эти люди чем-то похожи на профессора Турнесоль из «Приключений Тинтина»). Те же индивидуумы затем создали образовательные программы, скрепившие с трудом найденные элементы национальной культуры в самовоспроизводящийся культурный комплекс, которому можно обучать в школе и таким образом донести его до еще большего числа людей – во времена, когда всеобщее начальное образование быстро становилось (впервые в истории Европы) нормой. Появление национализма – само по себе великий миф, справедливо привлекший к себе внимание последнего поколения ученых. Однако вывод, к которому мы приходим, прост и ясен. В 1-м тысячелетии Европа вовсе не была заселена большими объединениями народов, сознающих свою принадлежность к определенной нации и национальные особенности, которые определяли их жизнь и занятия. Таковые особенности, вполне сформировавшиеся в XIX и начале XX века, нельзя проецировать на далекое прошлое[13].
Результатом переосмысления националистского феномена были не менее революционные выводы, к которым пришли социологи, изучающие вопросы о том, как – и в какой степени – индивидуумы чувствуют свою принадлежность той или иной групповой идентичности. В 50-х годах мир перевернулся, когда антрополог Эдмунд Лич, исследовавший феномен идентичности в холмах Северной Мьянмы, сумел показать, что групповая идентичность индивидуума не всегда включает в себя культурные черты, которые можно отследить, будь то материальные аспекты (типы домов или глиняной посуды) или нематериальные (общие социальные ценности, устои веры и т. д.). Люди, обладающие схожими культурными чертами (включая и язык – один из главных символов групповой идентичности в националистскую эру), могут считать себя принадлежащими к разным социальным группам, а люди с разными культурами – к одной. Таким образом, идентичность, в сущности, связана с восприятием, а не со списком определенных показателей: восприятие идентичности индивидуумом кроется в его собственном сознании и в том, как его самого воспринимают окружающие. Культурные черты могут выражать идентичность, но не определять ее. Шотландец может носить килт, но и без него он останется шотландцем.
В дальнейшем это положение было подтверждено многочисленными исследованиями, и появился совершенно иной взгляд на связи, определяющие идентичность группы людей – по сравнению с тем, который имел место до Второй мировой войны. Вплоть до 1945 года идентичность рассматривалась как данность, нечто неотъемлемое, определяющее жизнь любого индивидуума. Однако исследования ученых, вдохновленных работой Лича, показали, что групповая идентичность индивидуума может меняться и меняется и отдельный индивидуум может обладать не одной групповой идентичностью, а иногда даже выбирать одну из нескольких в зависимости от того, какая сейчас выгоднее. В нашем постнационалистском мире это вызывает куда меньше удивления, чем шестьдесят лет назад. У моих сыновей будут и американские, и британские паспорта, хотя до 1991 года в восемнадцать лет им пришлось бы выбирать между первым и вторым (тогда двойное гражданство в Соединенных Штатах существовало только с Израилем и Ирландией – интересное сочетание); граждане ЕС обладают идентичностью своей родной страны – и Европейского союза. И вместо того чтобы считаться, как раньше, доминирующим фактором, определяющим ход всей жизни человека, групповая идентичность теперь играет куда более скромную роль. Особое значение в изучении истории 1-го тысячелетия имеет сборник статей норвежского антрополога Фредрика Барта, выпущенный в 1969 году. В общем и целом в его работах идентичность показана лишь как общая стратегия личностного развития. По мере того как меняются обстоятельства, делая одну групповую идентичность более выгодной, чем другая, индивидуум меняет и свою приверженность ей. Знаменитое описание этого феномена Бартом, предложенное во введении к упомянутому сборнику, гласит, что групповую идентичность необходимо понимать как «эфемерное ситуационное построение, а не прочный, долговечный факт»[14].
Эта работа уводит нас бесконечно далеко от представления о том, что у человека должна иметься одна стабильная национальная идентичность, которая определяет, кто он такой, всю его жизнь, – от представления, которое не только не подвергалось сомнению в эпоху национализма, но и легло в основу тогдашней модели миграции, в свою очередь послужившей базисом «великого нарратива» о развитии Европы в 1-м тысячелетии (да и в более отдаленном прошлом). «Бильярдная» модель миграции категорически утверждала, что переселенцы перемещались полноценными социальными группами, закрытыми для чужаков, поддерживавшими свою численность посредством эндогамии, обладавшими собственной культурой и заметно отличавшимися от любой из других групп, которые они могли встретить на своем пути. Это представление отчасти основывалось на отдельных исторических источниках, как мы уже видели, однако по большей части – на популярных теориях о том, как организовывались человеческие сообщества, поскольку упомянутые письменные источники немногочисленны и разрозненны. Как только националистские положения о групповой идентичности были подорваны, открылся сезон охоты на «великий нарратив», который так уверенно опирался на них.
Новое тысячелетие?
Затем эстафету переосмысления далекого прошлого Европы с постнационалистской точки зрения перехватили археологи. Традиционные подходы к европейской археологии заключались в нанесении на карту основных сходств и различий в археологических находках, датированных приблизительно одним периодом, в определенном регионе, где в дальнейшем выделяли субрегионы или собственно «культуры». Изначально подобные построения базировались практически исключительно на видах глиняной посуды, поскольку ее фрагменты сами по себе неразрушимы и легко находимы, однако любое сходство (в похоронных обычаях, типах домов, металлических изделиях ит. д.) можно было трактовать в соответствии с имеющимся подходом, что в дальнейшем и делалось. Тот факт, что границы порой можно провести между регионами, в которых археологические находки разнятся, быстро стал очевиден в XIX веке, когда археология как научная дисциплина стала быстро развиваться. В том интеллектуальном и политическом контексте – и вновь мы возвращаемся к пику европейского национализма – невозможно было не приравнять культуры, отображенные на картах, к древним «народам», которые якобы обладали каждый своей собственной материальной (и не материальной) культурой. При изрядном везении и работе над сравнительно поздним периодом вы могли порой даже дать имя носителям культуры, следы которой обнаружили в земле, на основании данных, полученных из исторического трактата вроде «Германии» Тацита.
Развитие этого подхода, сейчас нередко называемого «методом археологии поселений», особенно тесно связано с немецким ученым Густафом Коссинной, который занимался им с конца XIX по начало XX века. Его подход был более тонким, чем считают некоторые. Он вовсе не утверждал, что все области, в которых найдены схожие археологические остатки, следует приравнивать к независимым древним народам. Это верно лишь в тех случаях, писал он, когда можно провести четкую границу между различными археологическими регионами и где сходства в отдельно взятом регионе отчетливы и ярко выражены. Однако такие термины, как «четкий», «отчетливый» и «ярко выраженный», всегда можно было трактовать по-своему, и основной принцип археологических изысканий того периода заключался в том, что археологические остатки можно аккуратненько разделить между соответствующими «ярко выраженными» «культурами» и заявить, что эти культуры – следы проживания здесь «народов».
Для нас же ключевым моментом является тот факт, что «метод археологии поселений» Коссинны в известной степени подвел фундамент под «великий нарратив». Представления об археологических культурах как о «народах» принесли с собой тенденцию объяснять резкие археологические изменения переселением народов. Раз явно выраженные, отчетливые скопления материальных остатков – археологические «культуры» – приравнивались к одному из древних «народов», было вполне естественным считать, что любое изменение в существующем ряде остатков говорит о влиянии нового «народа». Считая, что каждый народ обладал своей «культурой», вы вдруг находите новую «культуру» поверх предыдущей и вполне логично полагаете, что один «народ» сменил другой. Миграция, особенно в форме массовой замены одного сообщества другим, стала характерным объяснением наблюдаемых в археологических остатках изменений. В современной терминологии, хотя термин пока еще не прижился, старый взгляд на заселение Европы (которое представлялось непрерывным процессом, движущей силой коего были регулярные, следующие друг за другом этнические чистки) получил выразительное название «гипотеза вторжения»[15].
Новые веяния и взгляды на групповую идентичность оказали большое влияние на старые интеллектуальные построения. Как только было опровергнуто утверждение о том, что материальные остатки можно разложить по полочкам и отнести к полноценным «культурам», оставленным древними «народами», стало ясно, что на деле все гораздо сложнее. По мере того как обнаруживались новые остатки, а уже существующие фонды подвергались более пристальному изучению, многие границы между предположительно «ярко выраженными» различными культурами начали стираться. Идентификация важных местных вариантов находок нередко ставила под сомнение однородность предполагаемых культур, подрывая основы старого тезиса. Несмотря на то что сходства между археологическими остатками порой действительно имеются и в этом случае играют важную роль, стало ясно, что ни одно простое правило (типа «культуры = народы») не может применяться во всех случаях без исключения. Значимость обнаруженных сходств и различий зависит от того, что именно в находках совпадает, а что – нет. Наблюдаемая археологическая «культура» может представлять собой физические остатки предметов, принадлежащих к разным сферам, будь то социальное либо экономическое взаимодействие культур, или общие религиозные верования (к примеру, сходство похоронных обрядов), или даже, в некоторых случаях, политический союз (как указывал еще Коссинна). Чтобы ярче показать разницу между новым подходом и старым, я бы отметил, что Коссинна считал археологические культуры остатками сообществ – «народов», однако современные археологи рассматривают их как остатки систем взаимодействия, и их природа вовсе не обязана в каждом случае быть одинаковой[16].
Таким образом, переосмысление природы культур позволило археологам продемонстрировать, что даже серьезные изменения в материальной культуре можно объяснить другими причинами помимо вторжения извне. Поскольку наблюдаемое археологическое сходство культур могло появиться по целому ряду причин – торговля, социальное взаимодействие, общие религиозные воззрения или любая другая, которая может прийти вам в голову, – изменения в одной или нескольких сферах жизни людей могут послужить причиной культурного сдвига. Перемены не всегда обозначают появление новой социальной группы, они могут быть вызваны изменениями в системе уже существующей культуры. Именно глубокая неудовлетворенность интеллектуальными ограничениями, налагаемыми гипотезой вторжения, повсеместно используемой в качестве монолитной модели преобразования общества, вкупе с воздействием новых взглядов на групповую идентичность, в 60-х годах XX века заставили целое поколение археологов сбросить ее оковы – сначала в англоязычном мире, а затем и во многих других странах.
Следовательно, в 60-х годах у археологов появились весомые причины все реже обращаться к гипотезе вторжения и все чаще искать альтернативные объяснения. Эти новые подходы оказались весьма плодотворными и в процессе развития еще больше подорвали пошатнувшийся фундамент «великого нарратива». Вплоть до 60-х годов доисторическая Европа рассматривалась как совокупность земель, на которых одни группы населения все время вытесняли другие с помощью новых навыков и умений (в земледелии или металлургии), чтобы установить свое господство над определенной территорией, прогнав с нее предшественников. Сегодня большинство ступеней развития общества Центральной и Западной Европы между бронзовым веком и римским железным веком (примерно два последних тысячелетия до н. э.) можно вполне убедительно описать без обращения к миграции и этническим чисткам. Вместо того чтобы рассказывать, как одни захватчики сменяются другими, отбрасывая друг друга прочь со спорных земель, на территории Европы теперь видят сообщества, способные учиться новым навыкам и со временем развивать новые экономические, социальные и политические структуры[17].
Есть еще один элемент в этой интеллектуальной революции, который оказал существенное влияние на сравнительно новые подходы к вопросу, рассматриваемому в данной книге. В процессе освобождения от несомненной тирании «метода археологии поселений» и гипотезы вторжения, отдельные (в особенности британские и североамериканские) представители профессии археолога со временем начали умалять важность миграции, не желая рассматривать ее в качестве источника значительных перемен в обществе. Все вздохнули с облегчением, вырвавшись из тисков концепции Коссинны, но отдельные ученые, похоже, приняли решение вообще никогда больше не возвращаться к вопросу о переселении народов. Для этих археологов миграция ассоциируется с прежней, менее передовой эпохой развития их научной дисциплины, когда, по их мнению, археология была подотчетна истории. «Бильярдная» модель миграции, однако, как мы видели, находила свое подтверждение в отдельных исторических источниках, и, когда культуры были равноценны «народам», было возможно писать о доисторической археологической трансформации как о квазиисторическом нарративе, в котором народ X вытеснил народ Y и т. д.
В результате в сознании отдельных археологов появилось убеждение, что любая модель прошлого, включающая в себя миграцию населения, говорит о склонности к упрощению. Как было сказано в недавнем обзоре кладбищ раннего Средневековья, избегать темы миграции в объяснении археологического сдвига необходимо «просто для того, чтобы избавиться от чрезмерно упрощенных и, как правило, безосновательных предположений и заменить их более тонкой интерпретацией данного периода». Обратите внимание на формулировку, в особенности на контраст между «простой», «безосновательной» моделью мира (в которой доминирует миграция) и «более тонкой» (то есть любой другой интерпретацией). Суть этого высказывания ясна. Ученый, столкнувшийся с географически неверным положением отдельных видов археологических остатков либо с изменениями в их применении и желающий предложить модель прошлого, которая будет «тонкой» и «сложной», должен любой ценой избегать упоминания о миграции. Ситуация изменилась на противоположную. С позиции повсеместного преобладания в период до 60-х годов переселение народов превратилось в исчадие зла, в исследовательский архаизм[18].
Такой резкий переворот в сознании не мог не отразиться на подходах историков к событиям 1-го тысячелетия (а в данной области археологические свидетельства всегда обладали первостепенной важностью), к тому же исследователи уже успели задуматься о том, что для них может означать великий спор о национальной идентичности. Поворот в историческом мышлении, с которого и начались попытки найти новые подходы к феномену идентичности и, соответственно, переселению народов в 1-м тысячелетии, произошел в 1961 году, когда была выпущена работа немецкого ученого Рейнхарда Венскуса под заглавием Stammesbildung und Verfassung («Происхождение и связи племен»). В ней доказывалось, что вовсе не обязательно вчитываться в труды Тацита, древнеримского историка I века, чтобы понять, что германские племена были полностью истреблены, а на их месте возникли другие, совершенно новые и неизвестные. И когда дело доходит до Великого переселения народов, происходившего с IV по VI век, становится только больше доказательств того, что история этих племен была прервана. Как мы подробнее рассмотрим далее, все германские племена, основавшие в эту эпоху свои государства на бывших территориях Римской империи – готов, франков, вандалов и др., – можно представить как новые политические образования, созданные на ходу и принимавшие добровольцев из самых разных народностей, некоторые из которых даже не были германоязычными. Политические союзы, созданные германцами в 1-м тысячелетии, таким образом, отнюдь не являлись закрытыми группами с довольно продолжительной историей, но могли появляться и разрушаться и, по мере развития, увеличиваться или уменьшаться в размерах в зависимости от исторических условий. С тех пор было немало споров о том, как групповая идентичность могла влиять на германцев 1-го тысячелетия, о ее вероятной силе воздействия, и в должный момент мы вернемся к этому вопросу. Пока важно другое: во всех последующих построениях отправной точкой была гипотеза Венскуса[19].
Эти наблюдения оказали соответствующее воздействие на понимание миграции германцев как исторического феномена. При старых представлениях о закрытых, неизменяющихся племенах со стабильной групповой идентичностью, если народ X внезапно оказывался в регионе Б вместо региона А, было вполне естественным заключить, что туда переместилось все «племя» или группа. Если же мы принимаем тот факт, что групповая идентичность – явление более податливое и гибкое, тогда даже нескольких (возможно, весьма немногочисленных) представителей народа X будет вполне достаточно, чтобы образовалось новое ядро, вокруг которого в дальнейшем может сформироваться новая народность благодаря притоку людей самого разного происхождения. «Бильярдная» модель миграции, таким образом, сменяется моделью «снежного кома». Вместо больших, организованных групп мужчин, женщин и детей, целенаправленно перемещающихся по Европейской равнине, ученые теперь представляют иную картину, мыслят категориями демографического «снежного кома» – изначально малые группы, возможно состоящие преимущественно из воинов, благодаря успехам на поле битвы, привлекают многочисленных рекрутов по мере своего продвижения.
В таком постнационалистском толковании археологических остатков варварской Европы в 1-м тысячелетии прослеживается известное сходство с новой эрой, которая в тот же период началась в археологии, хотя два этих обстоятельства не были взаимосвязаны. Однако новое умонастроение археологов теперь еще активнее подталкивало специалистов к очевидному выходу из положения – нужно переписать историю варварской миграции, основываясь на исторических источниках. Отдельные историки столь свято уверовали в невозможность существования в прошлом больших миграционных единиц (или групп), что начали заявлять: немногочисленные исторические источники, утверждавшие обратное, которые были основанием для гипотезы вторжения и соответствующей старой модели переселения, сообщают неверные, искаженные сведения. Появилось предположение о том, что греко-римские источники построены на миграционном топосе, своеобразном культурном рефлексе, стереотипе, что более цивилизованные средиземноморские авторы, не вдаваясь в подробности, автоматически называли всех переселяющихся варваров «народом», какой бы ни была подлинная этническая природа этих групп. Европейская история, ранее состоявшая из массовых переселений на большие расстояния, заменяется историей небольших мобильных объединений, собирающих последователей по мере продвижения. Миграция – хотя теперь это слово практически не используется – остается частью новой концепции, это очевидно, однако уменьшается ее масштаб – вместе с количеством людей, пускавшихся в путь. Ключевой исторический процесс теперь не передвижение само по себе, но включение в группы новых членов[20].
В этом есть своя красота и симметрия. Старый «великий нарратив» подстраивал археологию под нужды истории: археологические культуры приравнивались к «народам», а модель миграции, выведенная из исторических источников 1-го тысячелетия, укладывала прогресс этих культур в исторический нарратив, пестривший эпизодами массового переселения и этнических чисток. Теперь же надежность самих исторических источников была поставлена под сомнение реакцией на развенчанный миф о переселении народов, начавшейся с отказа археологов от метода «археологии поселений» и гипотезы вторжения, бывшей его естественным продолжением. Раньше история вела археологию, теперь археология ведет историю. В процессе изменения парадигм видение ранней европейской истории, развивающейся под влиянием миграции, уступило другой модели, характеризующейся относительно малым количеством иммигрантов и большим количеством местных жителей, приспосабливавшихся к переменам, принесенным немногочисленными переселенцами; другими словами, истории преимущественно внутреннего развития. Этот подход по-своему хорош. Мы теперь достигли этапа, на котором новая модель стала зеркальным отражением старой, господствовавшей пятьдесят лет назад. С точки зрения интеллектуального развития эта модель обладает приятной симметрией, однако достаточно ли она убедительна с точки зрения истории? Действительно ли переселение народов можно приравнять к незначительному, проходному эпизоду в истории варварской Европы 1-го тысячелетия н. э.?



