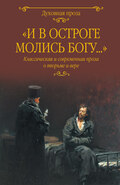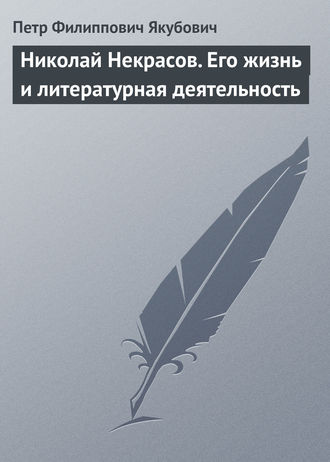
Петр Филиппович Якубович
Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность
Не решаясь, в свою очередь, идти «так далеко», мы думаем только, что для самого Некрасова в момент опасности могли быть не вполне ясны руководившие им мотивы. Во всяком случае, апология поэта, написанная Елисеевым, кажется нам чрезвычайно важной не по одним лишь крайне интересным подробностям, но и по существу, как голос не адвоката только, но и свидетеля, человека, который сам, подобно Некрасову (хотя и в значительно меньшей степени), «прошел через цензуру незабываемых годов». Из всех сотрудников и единомышленников Некрасова Елисеев (который и родился даже в одном с ним 1821 году), конечно, наиболее походил на него по тесному, кровному соприкосновению с живой действительностью, так что, выслушивая Елисеева, мы выслушиваем отчасти как бы самого поэта… Упоминая о предсмертных попытках Некрасова высказаться, Н. К. Михайловский особенно подчеркивает то обстоятельство, что оправдательно-покаянные речи поэта имели «затрудненный» характер, – как будто он «не мог ни другим рассказать, ни самому себе уяснить ту смесь добра и зла», из которой состояла его жизнь и деятельность. Но не могла ли зависеть эта «затрудненность» отчасти и оттого, что Некрасов своим тонким, проницательным чутьем угадывал огромное психическое различие между собою и младшими своими сотрудниками, вроде самого Михайловского? Не боялся ли он, что при всем уважении и любви к нему людей младшего поколения в некоторых вещах они никогда с ним не столкуются и не поймут его, а если и поймут, то не посочувствуют? Этот страх и мог сковывать его язык, холодить душу. С Елисеевым он чувствовал себя, вероятно, проще и высказывался прямее…
Но, имея так много общего друг с другом, эти два человека в некоторых отношениях были глубоко различны. Елисеев рисуется нам натурой цельной, как бы высеченной из одного куска; Н. К. Михайловский характеризует его так: «Демократизм Елисеева был не делом только принципов и убеждений, а самих инстинктов», он был «как бы сам народ, собственными усилиями пробившийся к свету и достигший верхов самосознания»; он «проще и непосредственнее относился поэтому к народу» («Литературные воспоминания и современная смута», т. 1). Некрасов же, при всей глубине и искренности своей любви к народу, при всем несравненном знании народной жизни и психики, лишен был такой непосредственности. Елисеев всегда чувствовал себя неотъемлемой частью того народа, для которого всю жизнь работал; Некрасов никогда, в сущности, не переставал чувствовать себя барином-интеллигентом, находящимся в неоплатном долгу перед народом…
Эта черта, которую Успенский назвал «больной совестью», более приближала Некрасова к поколению младшему, нежели старшему. Герой-раб, не чуждый порой самой трезвой и даже черствой положительности, умел в то же время до страсти, до злобы ненавидеть эту свою положительность, и более «тяжкой работы совести», чем его скорбно-покаянные песни, вплоть до семидесятых годов русская литература не знала. В глазах юных современников Некрасова покаянная нота его поэзии являлась не свидетельством недостатка «величия» в характере поэта, а, напротив, лучшим доказательством права его на бессмертие. К сожалению, выяснить все огромное значение «музы мести и печали» для самой жизни русской сможет лишь более или менее отдаленная история; она же произнесет и окончательный приговор Некрасову как человеку и гражданину.
5. Поэт находит свое призвание
Как мы уже видели при разборе книжки «Мечты и звуки», свою литературную деятельность Некрасов начал в тоне вполне серьезном, далеком от шутки и юмора. Исключение составляет одна только юмористическая пьеса «Пир ведьмы».
Скачет ведьма на ухвате,
Едет чорт на помеле…
Зато со времени фиаско, постигшего этот первый сборник, Некрасов в продолжение целых пяти лет не напечатал, насколько нам известно, ни одного серьезного лирического стихотворения и хотя стихов продолжал писать и печатать множество, но все это были шутки, пародии, обличительные куплеты. Мы уже пытались объяснить настроение поэта, обусловившее подобный характер его творчества в указанный период. Нельзя отрицать, что эти сатирические опыты юного Некрасова отличались временами неподдельным остроумием; в них встречались едкие выходки, самый стих был легок и своеобразен. Вот, например, два маленьких отрывка из «Портретной галереи», впоследствии забракованной автором и преданной забвению:
I
Он у нас осьмое чудо —
У него завидный нрав.
Неподкупен, как Иуда,
Храбр и честен, как Фальстаф.
Он с татарином – татарин,
Он с евреем сам еврей,
Он с лакеем – важный барин,
С важным барином – лакей!
II
Было года мне четыре,
Как отец сказал:
«Вздор, дитя мое, все в мире,
Дело – капитал».
И совет его премудрой
Не остался так:
У родителя наутро
Я украл пятак…
Большой фельетон в стихах «Говорун» – эта пустейшая болтовня пустейшего героя обо всем, что только взбредет в голову, – читается также без скуки, даже, пожалуй, с некоторым удовольствием; местами невольно думаешь: «Сколько труда и искусства потрачено на подобный вздор!» Однако Некрасову случалось уже касаться и более серьезных тем. Заслуживает, например, внимания сатира «Женщина, каких много».
Она росла среди перин, подушек,
Дворовых девок, мамушек, старушек,
Подобострастных, битых и босых…
Ее поддерживали с уваженьем,
Ей ножки целовали с восхищеньем
В избытке чувств почтительно-немых…
Сложилась барышня, потом созрела
И стала на свободе жить без дела,
Невыразимо презирая свет.
Она слыла девицей идеальной,
Имела взгляд глубокий и печальный,
Сидела под окошком по ночам
И на луну глядела неотвязно…
Болтала лихорадочно-несвязно,
Торжественно молчала по часам.
::::::::::::::.
И вдруг пошла за барина простого,
За русака дебелого, степного!
На мужа негодуя благородно,
Ему детей рожала ежегодно
И двойней разрешилась наконец.
Печальная, чувствительная Текла
Своих людей не без отрады секла;
Играла в дурачки до петухов,
Гусями занималась да скотиной, —
И было в ней перед ее кончиной
Без малого четырнадцать пудов…
Перед читателем – характерный тип провинциальной барыни крепостной эпохи; в этом портрете каждый штрих дышит жизнью и правдой и только заключительный, явно утрированный стих, пожалуй, неприятно режет ухо. К сожалению, приходится сказать, что такого рода шарж не есть случайное явление в юношеских сатирах Некрасова, и, например, в упомянутом выше стихотворении «Было года мне четыре» шаржированность принимает даже прямо чудовищные размеры. У героя пьесы умирает отец…
Я не вынес тяжкой раны,
Я на труп упал И, обшарив все карманы,
Горько зарыдал, —
зарыдал не об утрате отца, а о том, что карманы его оказались пусты…
Не этими, однако, частными недостатками обусловливалось ничтожное значение некрасовской сатиры раннего периода. Важнее было то, что для читателя оставалось все время неясным, во имя какой общей идеи осмеивает и вышучивает она людские слабости и пороки. Это было именно только вышучиванье, а не грозная, бичующая сатира, одушевленная (как, например, позже в «Размышлениях у парадного подъезда») чувством гражданского негодования, согретая искренней скорбью о торжестве зла и неправды. Такой сатиры мы не видим даже и в столь восхитившем в свое время Белинского «Чиновнике» или в «Современной оде», которою открывается обыкновенно собрание некрасовских стихотворений… Пьесы это, несомненно, талантливые; в общей концепции их видна уже рука искусного мастера; отдельные стихи поражают силой, оригинальностью и легко остаются в памяти, но и со всем тем «Чиновник» и «Современная ода» не сатиры в настоящем значении слова, а лишь хорошие обличительные стихотворения: в них нет еще главного – поэзии…
Погоня за насущным куском хлеба, спешность работы, привычка глядеть на себя как на литературного чернорабочего, с которого и спрашивать много нечего, низводят в эту пору Некрасова, при всем его таланте, до уровня писателя-ремесленника, который унижался до таких, например, «пародий»:
И скучно, и грустно!..
И некого в карты надуть
В минуту карманной невзгоды.
Жена?.. Но что пользы жену обмануть —
Ведь ей же отдашь на расходы.
Но уже близился глубокий внутренний перелом. К середине сороковых годов Некрасов перестал терпеть острую, доходившую до нищеты нужду; у него уже составилось некоторое литературное имя; теперь легче было доставать работу, легче было и бороться с кулаками-редакторами и издателями. Явился сравнительный досуг, и с ним – возможность серьезно думать и работать. В этот-то благоприятный момент Некрасов и сблизился с Белинским, услышал его страстную, полную зажигающего убеждения проповедь… Общая идея, по которой все время тосковала душа будущего печальника горя народного и отсутствие которой так плачевно отзывалось на его произведениях, была наконец отыскана, сформулирована. Горячим солнечным лучом проникла она в дремавшую душу поэта, осветила ее и разбудила к жизни могучие природные силы. Некрасов нашел наконец свое призвание, свою музу, ту «бледную, в крови, кнутом иссеченную музу», на которую, по его собственному выражению, «не русский взглянет без любви»… Появилось знаменитое стихотворение «В дороге», нечто неслыханное до тех пор как по форме, так и по содержанию. Начало народнической струи в русской литературе принято обыкновенно связывать с «Деревней» и «Антоном-Горемыкой» Григоровича, но с несравненно большим правом могло бы претендовать на такую роль стихотворение Некрасова, раньше напечатанное и к тому же талантливее выразившее новую идею. Известный критик Аполлон Григорьев, очень долго отрицавший в Некрасове всякий поэтический талант, признавался впоследствии, что пьеса «В дороге» ударила по сердцам с неведомою силой… По его словам, она вместила в одной поэтической форме целую эпоху прошедшего, забросила сети и в будущее; в ней не подделка под народную речь, а речь человека из народа, с народным сердцем, закала Кольцова. Даже враждебный Некрасову Эдельсон, видевший, наоборот, в этом стихотворении фальшивую народную речь, признавал нарисованное Некрасовым положение трогательным и вызывающим сильное впечатление, «гуманное по своей сущности». Мнение Белинского мы уже знаем. Но если так встречено было стихотворение Некрасова литературной критикой, то читателями середины сороковых годов оно принято было как настоящее откровение… И удивительного тут ничего нет, если и теперь даже, когда мрачная эпоха рабства отошла в область предания и русским обществом уже так много пережито, «В дороге» все еще производит неотразимо-глубокое впечатление. Очевидно, поэту удалось затронуть живой, до сих пор еще болезненный нерв… То новое, что поразило здесь воображение общества, заключалось не только в изображении новой (крестьянской) среды, не только в мысли о том, что и мужики – те же люди с живой, способной страдать от притеснений душою: рядом с разворачиваемою картиной огромного общественного зла перед читателем приоткрывался душевный мир интеллигентного человека, который чувствовал себя к этому злу причастным.
– Скучно! Скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку.
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку, —
уже этот начальный аккорд, сразу дававший почувствовать, что проезжего барина грызет не простая скука, а – тоска, ищущая отрады в сближении с народным горем, должен был электрическим током проходить по душе современного читателя.
– Ну, довольно, ямщик, разогнал
Ты мою неотвязную скуку! —
саркастически прерывает барин грустный рассказ ямщика, – и как много скрыто в этих двух коротеньких желчных строчках, заканчивающих пьесу! Несколько позже, в стихотворении «В деревне» у Некрасова прорывается та же горестная нота:
Плачет старуха… А мне что за дело!
Что и жалеть, коли нечем помочь?
За видимой злостью слышится здесь тот же стон человека, силящегося заглушить голос неспокойной совести; это как бы первый намек на то великое душевное смятение, – «больную совесть кающегося дворянина», – которое с такой яркостью и силой выражено было во многих позднейших стихотворениях Некрасова.
Новое настроение, охватившее нашего поэта, не было чем-то случайным, мимолетным: почти одновременно с пьесой «В дороге», за каких-нибудь полтора года (1845–1846), им было написано более десятка замечательных, проникнутых одним и тем же духом стихотворений, в миниатюре отражавших как бы всю некрасовскую поэзию, намечавших почти все главные мотивы, подробно развитые и разработанные поэтом впоследствии. [19]
В «Тройке», «Огороднике», «Псовой охоте» и «Родине» перед нами проходят яркие картины жизни деревенской крепостной России. Героиня «Тройки», в сущности, та же Груша («В дороге»); в судьбе этих двух молодых женщин, так же как и в несчастном романе огородника, поэт раскрывает все безобразие рабьих понятий о белой и черной кости, разделенных непроходимой пропастью сословных предрассудков. Живой человеческой души, по этим понятиям, нет; без жалости и пощады приносится она в жертву интересам кастовой выгоды и так называемой чести. Поэт обнажает мрачное, злобное мировоззрение, отравляющее кругом себя атмосферу и развращающее мысль и чувство всех, кто приходит с ним в соприкосновение, – одинаково раба и рабовладельца!
Но уже в эту раннюю пору, когда Некрасов впервые отдался захватившей его волне новых мыслей и чувств, вопрос обновления «старого мира» представлялся ему в очень широких рамках; он видел зло не в одном только крепостном праве и являлся защитником отнюдь не одного крестьянского сословия, а всех оскорбленных, всех обездоленных.
Сгораешь злобой тайною…
На скудный твой наряд
С насмешкой не случайною
Все, кажется, глядят.
Все, что во сне мерещится,
Как будто бы назло
В глаза вот так и мечется,
Роскошно и светло!
Все повод к искушению,
Все дразнит и язвит
И руку к преступлению
Нетвердую манит.
Ах! если б часть ничтожную!
Старушку полечить…
Но мгла отвсюду черная
Навстречу бедняку…
Одна открыта торная
Дорога к кабаку!
Так рисует поэт в стихотворении «Пьяница» душевное состояние бедняка, озлобленного зрелищем несправедливых общественных контрастов. Как и в другом стихотворении того же периода – «Отрадно видеть, что находит порой хандра и на глупца», – мы впервые встречаем здесь характерную и оригинальную ноту некрасовской поэзии, ноту злобы, той «злобы тайной», которая терзает сердце приниженного человека, составляя мучительную отраду его беспросветного существования.
Облик «неласковой и нелюбимой музы», «печальной спутницы печальных бедняков, рожденных для труда, страданья и оков», вырисовывается перед нами уже в резко определенных, своеобразных очертаниях.
Со всей силой возмущенного чувства протестует поэт против «бессмысленного мнения» толпы, «пустой и лживой», бессильно стонущей в тисках нужды и горя и в то же время готовой клеймить презрением всякого, кто в жизненной борьбе является не палачом, а жертвой. Стихотворение «Когда из мрака заблужденья» (даже на взгляд враждебных Некрасову критиков – «превосходное») было чуть ли не первой в русской литературе попыткой реабилитации падшей под гнетом нищеты и несчастий женщины. Приблизительно в то же время написано и одобренное Белинским стихотворение «Старушке», направленное вообще против «морального вздора» опутавших общество условностей и предрассудков. Пьеса не была, однако, включена автором ни в одно издание стихотворений, да и в журнале появилась за неполной подписью. Причина понятна: в смысле обработки она оставляет желать очень многого. [20] Объясняется это, конечно, тем, что тема стихотворения, хотя и вполне реальная, не была подсказана Некрасову лично пережитым чувством: ведь поэту было всего двадцать три года… Могучий лиризм Некрасова – и он сам прекрасно чувствовал это – получал настоящий размах лишь в тех случаях, когда поэт вдохновлялся живой, конкретной действительностью.
Таково оригинальное и сложное содержание стихотворений, появившихся в 1845-1846 годах и, несомненно, глубоко поразивших современного читателя. Очевидно, новые мысли и чувства бурей прошли по душе поэта, заставив зазвучать сразу все ее струны…
Ощутив и осознав кровную связь с родным народом, Некрасов сразу нашел все нужные краски и для изображения родной природы. Как пейзажист уже в 1846 году он является перед нами со своей особенной, ни на кого другого не похожей манерой:
Сторож вкруг дома господского ходит,
Злобно зевает и в доску колотит.
Мраком задернуты небо и даль,
Ветер осенний наводит печаль;
По небу тучи угрюмые гонит,
По полю листья – и жалобно стонет…
Стало светать <…>
Чудная даль открывается взору:
Речка внизу, под горою, бежит,
Инеем зелень долины блестит,
А за долиной, слегка беловатой,
Лес, освещенный зарей полосатой.
:::::::::::::::::.
Падает сизый туман на долину,
Красное солнце зашло вполовину,
И показался с другой стороны
Очерк безжизненно-бледной луны…
В поле, завидев табун лошадей,
Ржет жеребец под одним из псарей…
::::::::::::::::::..
Заунывный ветер гонит
Стаи туч на край небес,
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.
На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.
Полумрак на все ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.
Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И «пошел!» – привстав с нагайкой,
Ямщику денщик кричит.
Конечно, такого рода описаний природы не найдешь ни у Жуковского, ни у Пушкина с Лермонтовым, ни даже у Кольцова. Все это очень мало походит на «Красным полымем заря вспыхнула» или на «В небесах торжественно и чудно»… Краски Некрасова буднично серы, образы удивительно просты, прозаически реальны; отдельные углы рисуемой картины кажутся порой грубыми и неэстетичными. И, однако, странное дело: читатель чувствует себя захваченным, покоренным этой серой, но бесконечно милой красотою северного пейзажа; родная природа живет и дышит перед его глазами, и невольно хочется воскликнуть: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!..»
6. Основные черты некрасовского лиризма. – Мелкие недостатки и великие достоинства
Долго зревшее вдохновение вылилось в могучем и широком аккорде. Как мы только что видели, Некрасов сразу затронул почти все главные мотивы своей поэзии. Нельзя, однако, сказать, чтобы в следующие затем годы муза его отличалась особенной плодовитостью. Выпадали периоды, когда он писал по одному, много – по три небольших стихотворения за целый год (счастливым исключением был только 1853 год, когда возникли целых двенадцать пьес). Напав на настоящую дорогу, осознав настоящее свое призвание, поэт все еще, казалось, не был в себе уверен и с крайней осторожностью, почти с робостью пользовался своим поэтическим даром. Впрочем, следует принять в расчет и то, что для русской литературы это были исключительно тяжелые годы, меньше всего благоприятствовавшие расцвету такой именно музы, как некрасовская («музы гордой и несчастной, кипевшей злобою безгласной»)…
…Некий образ посещать
Меня в часы работы стал:
С пером, со склянкою чернил
Он над душой моей стоял,
Воображенье леденил,
У мысли крылья обрывал.
Таким образом, за первое десятилетие (1845-1854), кроме указанных уже выше, можно отметить еще лишь следующие выдающиеся стихотворения: «Еду ли ночью», «Муза», «Маша», «Извозчик», «Памяти Белинского», «Буря», «Несжатая полоса», «Влас», «Свадьба», «Блажен незлобивый поэт» и «Внимая ужасам войны». Все это сравнительно небольшие по объему вещи. Но зато в течение следующих десяти лет (1855-1864), открывших собой новую эру в жизни всей России, Некрасов обнаруживает почти лихорадочную деятельность. Он приступает к созданию широких картин общественной и народной жизни, и первым блестящим опытом этого рода становится поэма «Саша». Большие вещи чередуются с множеством мелких лирических пьес. Рядом с «Несчастными», «Поэтом и гражданином», «Тишиною», «убогой и нарядной», «В больнице», «Размышлениями у парадного подъезда», «О погоде», «На Волге», «Рыцарем на час», «Папашей», «Дешевой покупкой», «Крестьянскими детьми», «Деревенскими новостями», «Коробейниками», «Морозом, Красным носом», «Ориной» и «Железной дорогой» необходимо отметить в это время «Праздник жизни», «На родине», «Замолкни, Муза», «Школьник», «Прости», «Забытая деревня», «Тяжелый год», «В столицах шум», «Ночь», «Одинокий, потерянный», «Плач детей», «Похороны», «Свобода», «Стихи мои», «Зеленый шум», «В полном разгаре страда деревенская», «Надрывается сердце», «Памяти Добролюбова», «Благодарение Господу Богу». Уже из этого неполного перечня произведений Некрасова за 1855-1864 годы видно, что десятилетие это было наиболее кипучим и плодотворным в его творческой деятельности, как чрезвычайно кипучим и плодотворным было оно и в жизни всей России. Муза Некрасова всегда чутко отражала биение общественного пульса страны.
С падением этого пульса в середине шестидесятых годов замечается временный отлив и в поэзии Некрасова: для него это печальный период возрождения фельетона… Он пишет «Притчу о киселе», «Крещенские морозы», «Кому холодно, а кому жарко», «Газетную», «Песни о свободном слове», «Балет», «Суд», «Еще тройку»… Огромный талант и в это время продолжает, однако, вспыхивать яркими искрами – таковы «Ликует враг», «Неизвестному другу», «С работы», «Стихотворения для детей», «Медвежья охота».
Зато последнее десятилетие жизни поэта (1868-1877) отмечено новым чрезвычайным подъемом и ростом поэтического творчества: к этому именно периоду относятся «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», «На смерть Писарева», «Душно без счастья и воли», «Страшный год», «Памяти Шиллера», «Три элегии», «Уныние» и, наконец, несравненные «Последние песни»…
Окидывая мысленным взором эту огромную поэтическую работу, раскинувшуюся на пространстве тридцати двух лет, поражаешься прежде всего яркой определенности, если можно так выразиться – бесспорности писательской физиономии Некрасова. Перед нами резко очерченная, удивительно своеобразная индивидуальность, которую ни с какой другой, на самое даже короткое мгновение, не спутаешь. Лишь очень немногие из самых крупных писателей наших могли бы в этом отношении посоперничать с Некрасовым. Даже, например, Пушкин, при всей исключительности его значения для русской литературы, остается до сих пор предметом разногласий для критики, хотя о сущности его «пафоса» уже исписаны целые горы бумаги. С одинаковым успехом пытаются перетянуть его на свою сторону представители прямо враждебных друг другу литературных партий… То же или почти то же можно сказать про Лермонтова. Казалось бы, протестующий характер его поэзии не подлежит спору. Но против чего, собственно, был направлен его протест – этот вопрос каждый из критиков решал и решает по-своему. Для одних «в поэзии Лермонтова слышались слезы тяжкой обиды», вызванные тем, что никогда с такой бесцеремонностью, как в николаевское время, права, честь и достоинство человека не приносились в жертву идее бездушного, холодного формализма. Лермонтов, согласно этому мнению, поистине гениально выразил всю ту скорбь, какою преисполнены были его современники. Между тем один из новейших критиков Лермонтова высмеивает такое толкование его поэзии. «Можно ли более фальшиво, – спрашивает г-н Андреевский, – объяснять источник скорби поэта?! Точно в самом деле после николаевской эпохи, в период реформ, Лермонтов чувствовал бы себя как рыба в воде! [21] Точно после освобождения крестьян, и в особенности в 60-е годы, открылась действительная возможность „вечно любить“ одну и ту же женщину? Или совсем искоренилась „месть врагов и клевета друзей“?.. Современный Лермонтову формализм не вызвал у него ни одного звука (?) протеста. Обида, которою страдал поэт, была причинена ему свыше – Тем, Кому он адресовал свою ядовитую благодарность».
Очевидно, не так легко найти определяющую сущность и лермонтовской поэзии. Относительно Некрасова такого затруднения как будто не существует. Одно имя – и у друзей так же, как у врагов, сразу возникает перед глазами суровый и печальный облик писателя, который «лиру посвятил народу своему». Поэт сам дал своей поэзии меткое и характерное определение «музы мести и печали» – и оно стало ходячим. Одна ослепительно яркая, скорбная, гневно-рыдающая нота, не умолкая на протяжении тридцати с лишком лет, звучит в его стихах, «народному врагу проклятия суля, а другу у небес могущества моля». На народе сосредоточены все чаяния, тревоги, любовь и печаль Некрасова; счастье народа – все его помыслы, – народа как совокупности всех трудящихся и обремененных. Но так как подавляющую массу русского народа составляет крестьянство, то немудрено, что поэт всего чаще и охотнее воспевает мужицкое горе. С течением времени русский мужик становится для Некрасова как бы воплощением, символом человеческого страдания, живым образом русского Прометея…
О личных своих муках поэт, так много выстрадавший, столько тяжелого переживший, говорит удивительно мало по сравнению с другими поэтами-лириками, да когда и говорит, то большею частью для того только, чтобы заклеймить себя как плохого гражданина, рассказать о своих ошибках и даже падениях… И самое большое, чего просит он у читателя, у родины, это не верить клевете и простить его за действительные вины… Много нужно иметь зложелательства и бесстыдства, чтобы Некрасова с его целомудренно-скромной, можно сказать – самоотверженной музой обвинять в желании разыгрывать роль «гражданского мученика»!
Как поэт Некрасов – лирик по преимуществу, лирик, исполненный одного сильного и глубокого чувства, всегда и всюду одушевленный одной идеей, ни на минуту не выпускающий ее из виду. Пишет ли он коротенькое лирическое стихотворение, большую ли эпическую вещь, смеется ли, плачет ли – он все тот же; даже когда он рисует простую картинку природы, по проникающему ее грустно-щемящему или умиленно-любовному чувству, по какому-то особенному, некрасовскому тону вы тотчас же догадываетесь, что поэт ни на секунду не расстается со своей «сокрушительной думой».
Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели…
Только не сжата полоска одна…
Своеобразный склад, своеобразная музыка; если даже вы не знаете наизусть всего стихотворения, уже этими первыми строчками вы настроены на тон грустного рассказа. Или вот отрывок из «Крестьянских детей»:
Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши. Живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая,
Кричат молодые грачи.
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз.
Чу! шепот какой-то… А вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз.
Все серые, карие, синие глазки —
Смешались, как в поле цветы…
В этой бесподобной картинке грусти и следа нет, но все же это не объективно спокойный, эпический рассказ. Разве вы не замечаете здесь разлитого в каждой строчке чувства глубокого умиления, того умиления, которое испытывает человек, рассказывающий о самом дорогом для него и заветном? И таков Некрасов всегда. Даже в произведениях, по внешности строго эпических, посвященных изображению народного быта («Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо»), он остается, в сущности, лириком, рассматривающим и природу, и жизнь сквозь призму личного чувства. В этом отношении любопытно сравнить Некрасова, например, с Пушкиным.
Лира Пушкина – дивный инструмент, решительно при всяком прикосновении издающий гармонические звуки. Все явления мира, как в зеркале, отражаются в чуткой душе поэта, и он переливает их в яркие поэтические образы, – часто совершенно независимые от собственных его настроений. Так, картины времен года в «Евгении Онегине» никакого видимого отношения не имеют к внутреннему миру героев романа: они вполне объективны и бесстрастны. Сейчас же после трагической смерти Ленского идет такое описание весны:
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют;
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют,
Стада шумят, и соловей
уж пел в безмолвии ночей.
Поистине «красою вечною сияет равнодушная природа»! Или – как объективна, например, пушкинская «Туча» («Последняя туча рассеянной бури»): знаменитое стихотворение, как известно, внушено было поэту счастливо промчавшейся над его головой грозою из Третьего отделения, а между тем в самой пьесе уже не видно этого личного чувства. Вот это-то уменье поэта как бы отрешаться от собственной личности и ее внутреннего мира и есть первое необходимейшее условие эпического творчества. У Некрасова такого уменья почти не было; в его произведениях все теснейшим образом связано с общим душевным строем автора…
Возьмите, например, картину вырубки леса в некрасовской поэме «Саша». Тут все до того отражает субъективное настроение юной героини, что читатель проникается даже злобой к «явившимся с топорами» мужикам!.. Эту сравнительную односторонность, эту недостаточную широту поэтической восприимчивости, быть может, следует признать крупным недостатком Некрасова как художника, но в нем же, в этом «недостатке», нужно искать и причину его огромной силы, секрет необычайной власти над чуткими и отзывчивыми сердцами. Поэт пушкинского типа вряд ли мог бы с таким блестящим успехом выполнить поэтическую миссию эпохи освобождения…
Подобно мифическому Антею, который делался неодолимо сильным, прикасаясь ногами к матери-земле, Некрасов поднимается во весь рост своего могучего таланта и голос его приобретает полную силу всякий раз, когда он поет о горе народном; напротив, удаляясь от этого главного, возвышающего источника, он как будто ослабевает, утрачивает свои чары. «Чиновника», «Современную оду», «Колыбельную песню», «Нравственного человека», «Прекрасную партию», все сатиры 1865-1867 годов, «Недавнее время», большую сатирическую поэму «Современники» мы знали бы, может быть, не больше, чем многие остроумные стихотворения Минаева и Курочкина, если бы не подкупающее, гипнотизирующее имя Некрасова… С другой стороны, в некоторых и из только что названных сравнительно слабых вещей Некрасов вдруг, точно по мановению волшебного жезла, из юмориста среднего таланта превращается снова в перворазрядного лирика и достигает высоты лучших своих шедевров, как только «попадает на своего конька», вдохновляется впечатлениями и идеями известного порядка. Вспомните, читатель, то место в «Балете», вялом и фельетонно-болтливом, где на сцену выходит в крестьянской рубахе Петипа – «и театр застонал».
Все – до ластовиц белых в рубахе —
Было верно: на шляпе цветы,
Удаль русская в каждом размахе, —
Не артистка – волшебница ты.
Все слилось в оглушительном «браво»,
Дань народному чувству платя,
Только ты, моя муза, лукаво
Улыбаешься… Полно, дитя!
Неуместна здесь строгая дума,
Неприлична гримаса твоя…
Но молчишь ты, скучна и угрюма…
Что ж ты думаешь, муза моя?
На конек ты попала обычный,
На уме у тебя мужики,
За которых на сцене столичной
Петипа пожинает венки.
И ты думаешь: Гурия рая!
Ты мила, ты воздушно-легка,
Так танцуй же ты «Деву Дуная»,
Но в покое оставь мужика!
В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,
Весь заиндевев, сам за себя
В эту пору он пляшет довольно…
::::::::::::::
Прямиком через реки, поля
Едут путники узкой тропою:
В белом саване смерти земля,
Небо хмурое, полное мглою.
От утра до вечерней поры
Все одни пред глазами картины:
Видишь, как, обнажая бугры,
Ветер снегом заносит лощины,
Видишь, как под кустом иногда
Пропорхнет эта милая пташка,
Что от нас не летит никуда
(Любит скудный наш север, бедняжка!).
Или, щелкая, стая дроздов
Пролетит и посядет на ели;
Слышишь дикие стоны волков
И визгливое пенье метели…
Снежно, холодно… Мгла и туман…
И по этой унылой равнине
Шаг за шагом идет караван
С седоками в промерзлой овчине.
Это едут мужики из города, где сдали в солдаты сыновей, и везут домой страшную кладь – крестьянское горе: