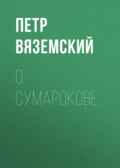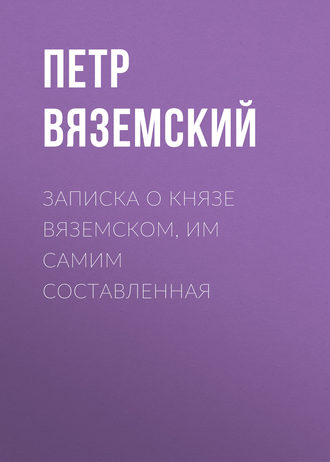
Петр Вяземский
Записка о князе Вяземском, им самим составленная
Ныне слышу уже, что обвинение меня в «развратной жизни» устранено, а говорят о каком-то письме моем или сочинениях моих, попавшихся в руки императора и коих содержание должно мне повредить. Обвинение обвинению рознь. На обвинение в предосудительности нравов моих и поведения моего в Петербурге прошу и суда и ограждения меня вперед от подобной клеветы наказанием клеветников. Если обвинение падает на какое-нибудь мое сочинение, прошу объяснений и потребовать меня к ответу; если на мои письма, прошу выслушать мое оправдание. Возмутительных сочинений у меня на совести нет. В двух так называемых либеральных стихотворениях моих: «Петербург» и «Негодование» отзывается везде желание законной свободы монархической и нигде нет оскорбления державной власти. Первое кончалось воззванием к императору Александру: писано оно было в Варшаве, вскоре после первого сейма. Тогда гласным образом ходило оно по Петербургу. Второе менее известно: я узнал после, что правительству донесено было о нем, но не знаю, было ли оному доставлено, но если ничего к нему не прибавили «добровольные издатели или предатели» (не editori, a traditori), то не боюсь заключений, которым оно даст повод. Писано оно было в Варшаве: в самую эпоху борьбы или перелома мнений, и, разумеется, должно носить оно живой отпечаток мнений, которым я оставался предан и после их падения. В разные времена писал я эпиграммы, сатирические куплеты на лица, удостоенные доверенности правительства, но в них ничего не было мятежного, а просто светские насмешки. Такие произведения не могут быть почитаемы за выражение целой жизни и служить вывеской человека; они беглые выражения минуты, внезапного впечатления, и отпечатление их на умы также есть минутное. Соглашаюсь, что в глазах правительства они должны казаться предосудительными и некоторым образом нарушают согласие, которое для общего благоденствия господствовать должно между правительством и управляемыми. Но в этом отношении прямодушное исследование обязано разборчиво отделить «проступок» от «преступления», шалость ума от злоумышления сердца и не столько держаться «буквы», сколько «духу». Теперь приступаю к письмам моим, единственному обвинительному факту в тяжбе моей, который не могу опровергнуть и в котором должен прямодушно оправдываться. Письма мои должны разделиться на два разряда, согласно с двумя эпохами жизни моей: службы и отставки. Невоздержность письменных моих мнений во время службы непростительна. Такого свойства оппозиция у нас, где нет законной оппозиции, есть и несообразность и даже род предательства. Это походит на действие сатира, который в одно время дует холодом и теплом. Гласно служить правительству, и следовательно, предать себя орудием в его руки, а под рукою, хотя и без злоумышления, действовать против него во всяком случае не благовидно. В случаях противоречия кровным мнениям своим и задушевным чувствам с званием, с обязанностями, на себя принятыми, должно по возможности принести покорное сознание правительству или оставить службу. Следовательно, в этом отношении я был виноват: правительство какими способами бы то ни было поймало меня en flagrant-delit [на месте преступления], и я должен нести наказание вины моей. Это не сомнительно в глазах холодного и строгого суда, но есть справедливость, которая выше правосудия. Теперь для нравственного исследования предосудительности моих писем должно бы подвергнуть их сполна не одностороннему рассмотрению, взвесить на весах беспристрастия те мнения и выражения, которые могут быть ходатаями за меня, судить о всей переписке моей, как будут судить о всей жизни человека на страшном суде, а не так как судит инквизиция по отдельным поступкам, по отрывкам жизни, составляющим в насильственной совокупности уголовное дело, тогда как в целом порочность сих отрывков умеряется предыдущими и последующими. Должно бы обратить внимание на время, в которое писаны были сии письма, и может быть волнение, в них отзывающееся, отголосок тогдашней эпохи, отпечаток тогдашнего перелома и раздражения оправдается самою сущностью событий. В другом отделении моей переписки, кажется, предстоит мне более способов к оправданию. Со времени моей отставки, не принадлежащий уже к числу исполнителей правительственных мер, я полагал, что могу свободнее судить о них. К тому же, что есть частное письмо? Беседа с глазу на глаз, род тайной исповеди, сокровенных излияний того, что тяготит ум или сердце. Когда исповедь может становиться делом? Тогда, когда открывает она умысел, готовый к исполнению. Но если исповедь ограничивается одними мнениями, одними впечатлениями преходящими, как и самые события, то можно ли искать поводов к ответственности в сей исповеди, так сказать, не облеченной в существенность! Должно еще смотреть на лица, к кому письма написаны? Если они выказывают намерение действовать на эти лица или чрез них на другие и на общее мнение, если они в некотором отношении род поучений, разглашений, то предосудительность оных размеряется целью, на которую они метят. Но если письма, хотя и содержания неумеренного, надписаны к людям, коих лета, мнения, положение в обществе уже ограждают их от постороннего влияния, если они писаны к близким родственникам, к жене, то всякое злонамерение в написании оных не устраняется ли самою очевидностью? Одно нарушение тайны писем, писанных не для гласности, составляет их вину и определяет меру их ответственности; но нарушение оным совершается против воли писавшего: как же может он за них ответствовать? В таком случае если допустить нарушение тайны, то должно добросовестно судить о перехваченных письмах, и в таком случае могут служить признанием прямодушной, хотя неуместной откровенности, должно видеть в них иногда игру ума, склонного к насмешке, иногда игру желчи или раздражения нервов, невинный свербеж руки. Не заключить ли о них, о благородстве того, кто их пишет, и не признать ли их залогами его добросовестности и доверенности, которую заслуживает его характер? Я знал, что правительство имеет в руках своих частные письма, знаю, что мои чаще других попадаются ему, что я от них пострадал, а между тем продолжаю подавать орудие на себя. Что же это доказывает? Что я по совести своей убежден, что в письмах, каковы мои, нет преступления, что, чистый в побуждениях своих, я не забочусь о истолкованиях и превратных заключениях, к которым сии письма могут подать повод. Это неосторожно, но не преступно. Главная предосудительность сего поступка заключается в том, что кажусь своевольным и будто с намерением вызывающим на себя неудовольствие правительства, что не щажу лиц, к которым пишу и вообще своих приятелей, на коих может падать некоторая ответственность за связи со мною. Такие соображения должны внушить невыгодное мнение о неосновательности моей, легкомыслии и вообще повредить достоинству характера, которое каждый человек обязан соблюдать ненарушимо и свято. Сознание в сем отступлении от обязанностей своих может послужить залогом, что впредь не буду преступать их. Затворю к себе окно, из которого выглядывала невоздержность слов моих в наготе на соблазн прохожих. Что нет собственно порочной невоздержности в побуждениях и намерениях моих, кажется, достаточно доказано всею исповедью моею, приносимою ныне в виде покаяния и оправдания. В свою защиту прибавлю еще одно замечание, в изустной речи более непосредственного действия на внимание и круг действия обширнее: нет сомнения, что нашлось бы против меня столько же, если не более обличительных ушей, сколько нашлось обличительных глаз; но, сколько мне известно, речи мои не бывали обращаемы орудием на меня. Следовательно, я не искал никогда славы быть проповедником, провозгласителем своих мнений, хотя и знаю, что каждое слово изустное имеет тысячу эхов и между тем неуловимо, тогда как письменное слово действует одновременно на одно лицо и воплощается только тогда, когда предательскою силою может погубить вас. Признаюсь, однако же иногда в письмах своих дозволял себе и умышленную неосторожность. В припадках патриотической желчи, при мерах правительства не согласных, по моему мнению, ни с государственною пользою, ни с достоинством русской нации, при назначении на важные места людей, которые не могли поддерживать высокого и тяжкого бремени, на них возложенного, я часто нарочно передавал сгоряча письмам моим животрепещущее соболезнование моего сердца: я писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает, перехвачивая мои письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего. Признаюсь, мне казалось, что сей голос не должен пропасть, а может возбудить чуткое внимание правительства. Пускай смеются над моим самоотвержением бесплодным для общей пользы, над сим добровольным мученичеством донкихотского патриотизма, но пускай также согласятся, что если оно не признак расчетливого ума, то по крайней мере оно несомненное выражение чистой совести и прямодушного благородства. Могу утвердительно сказать, что все мнения мои, самые резкие, были отголосками общего мнения, то есть в известной честной среде они имели невыраженный, но не менее того в существе своем гласный отголосок в общем мнении. Никогда, никакое чувство злобное, никакая мысль предательская, не омрачала моей нравственной жизни. В минуты досады, грустного разуверения в своих надеждах, я мог, по «авторской своей раздражительности», выходить из границ должного благоразумия и должного хладнокровия. Легко судить меня по письмам: но чем же я виноват что бог назначил меня быть грамотным, что потребность сообщать и выдавать себя посредством дара слова, или, правильнее, дара письменного, пала мне на удел в числе немногих из русских. Не мудрено, что те, к которым пристал стих Пушкина (а у нас их много): нигде «ни пятнышка чернил», не замарали совести своей чернильными пятнами и что мои тем более на виду. Верю, что отблески мыслей должны казаться кометами в общем затмении русской переписки, в общем оцепенении умственной деятельности. Но неужели равнодушие есть добродетель, неужели гробовое бесстрастие к России может быть для правительства надежным союзником? А где есть живое участие, где есть любовь, там должны быть и увлечение и раздражительность? Мелкие прислужники правительства, промышляющие ловлею в мутной воде, могут, подтрушивая, ему передавать сплетни и отравлять их ехидною примесью от себя. Но правительство довольно сильно и должно быть довольно великодушно, чтоб сносить с благодарностию даже несправедливые укоризны, если они внушены прямодушием.