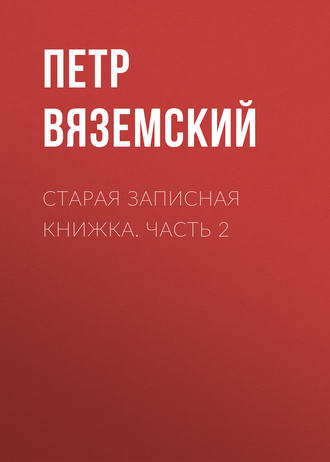
Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 2
Есть картина Мурильо, изображающая мать, которая ищет в голове маленького сына своего. Она находится в Мюнхенской галерее. Сказать о ней Гоголю, если картина ему неизвестна, чтобы утешить его от нападений наших гадливых, чопорных критиков, у которых также, если поискать в голове, вероятно, найдешь более вшей, нежели мыслей.
3 июня. Вчера обедали у Базили бейрутский паша, французский консул с женой, французский доктор с женой, сардинский консул; все, кажется, люди порядочные и образованные, разумеется, за исключением паши.
У меня все в голове Дамаск и Бальбек вертятся и подмывают меня – и остается одна досада, что не попаду туда. Надобно было ехать дня два или три по приезде в Бейрут.
4 июня, воскресенье. В Бейруте встречаются женщины-единороги. У некоторых из них головной убор состоит из рога, серебряного или золотого, дутого в пол-аршина, если не более; сзади для равновесия, т. е. для того, чтобы рог не клонил головы, висят шарики довольно толстые. Рог прикрыт белой тканью, которая опущена по плечам. Женщины не скидывают убора и ночью, и спят с этим орудием пытки. И в семействах других князей жены носят этот убор. Любопытно было бы знать – откуда и как усвоился здесь этот странный наряд?
Вчера ездил я верхом в одно селение, часа за два от города, на первом приступе Ливанских гор. Прогулки в окрестности здесь очень хороши, роща пинов, когда еще более разрастется – древняя срублена – будет в жаркие дни лета прохладным и благодатным убежищем. Эти pins – облагороженные наши сосны и елки. Зонтичные pins a parasol очень живописны. Я видал их в римских садах. Кто-то сказал, что кипарисы похожи на свернутые зонтики, а те – на развернутые.
Вчера обедал у Базили французский врач Grimaldo, бывший при Ибрагиме-паше во время походов его. Теперь он в Сайде главным врачом центрального госпиталя. Он рассказывает много забавного про фантастический и дон-кихотский поход знаменитого Иокмуса из Иерусалима к Газе, где 18 000-ный корпус турецкий едва не дал тяги при нападении 300 наездников из войска Ибрагима.
Он говорил, что леди Стенгоп умерла в бедности и оставив по себе до 200 000 пиастров долга. Она была в руках арабов и других пройдох, которые совершенно ею овладели и пользовались помешательством рассудка, чтобы ограбить ее. После посещения Ламартина и рассказов его об этом посещении она не допускала до себя путешественников.
Чтобы определить и оценить Ламартина, довольно одного замечания: никто из путешествующих по Востоку не берет книги его с собой. И этот гармонический пустомеля мог держать Францию под дуновением слова своего во власти своей несколько дней! Не доказывает ли это, что в некотором отношении Франция мыльный пузырь.
Правда, что иногда этот пузырь начинен порохом и горючими веществами. После Иерусалимского Шатобриана напал я в Бейруте на замогильного Шатобриана в листках «La Presse», и он иногда завирается, но у меня сердце лежит к нему. В нем и более дарования, чем в Ламартине, и более благородства. Он мыслит и чувствует как благородный человек, как дворянин, а – воля ваша – это не безделица в век бунтующих холопов.
В замену леди Стенгоп, здесь поселился потомок славного Мальбруга, он обарабился, женился на арабке низшего состояния и во всех отношениях ничтожной – и выписал двух дочерей своих от первого брака, которых отдал в руки необразованной и сердитой мачехи.
5 июня. Выехал из Бейрута в десятом часу утра. Дорога часа на полтора по берегу моря, у подошвы Ливанских гор. Море как необозримая лазурная скатерть развертывается, и серебряная бахрома ее плещется в берег и стелется под ноги лошади. Голые горы дико и грозно возвышаются – наконец сворачиваешь к ним и начинаешь подыматься, подыматься, подыматься. Иудейские горы – шоссе в сравнении с ними.
Вообразите себе, что подымаетесь верхом на Ивановскую колокольню огромного размера, на несколько сотен Ивановских колоколен, взгромоздившихся одна на другую, и подымаетесь по ступеням, оборвавшимся и катящимся под ногами лошади; но арабская лошадь идет себе по этой фантастической дороги как по битой и ровной. Море всегда в виду. Я принимал сначала селения, лежащие в ущельях, за кладбища. С высоты дома казались мне надгробными каменьями.
На один час останавливались для отдыха в селении маронитском Брейз. Тут все народонаселение маронитское. Оттуда дорога получше и природа живее и зеленее. Шелковичные рассадники – по ступеням горы, снесены камни и образуются гряды. Здесь обработка земли, или лучше сказать, камня, исполинская работа. Наши европейские поселяне не управились бы с нею.
За четверть часа до Бекфея монастырь; пред ним огромные камни и большое тенистое дерево; оттуда виден Бейрут, словно сложенные камни, и бейрутский рейд с кораблями, которые как мухи чернеют на воде, а пред глазами дом эмира Гайдара, который европейской наружностью и зелеными ставнями своими приватно улыбается усталому путнику.
В четвертом часу я подъехал к дому и заранее отправил к князю переводчика своего с письмом Базили. Вышли ко мне навстречу все домашние, дети, внуки князя и вся дворня. Князь ввел меня в приемную комнату; после первых приветствий поднесли мне рукомойник со свежей водой; потом покрыли меня флеровым, золотом вышитым, платком и поднесли курильницу, окурили меня, или, пожалуй, окадили меня, после вспрыснули благовонною влагою; тут шербет, кофе, трубка. Внуки князя, дети единственной дочери его замужем за его племянником, очень красивы, лица выразительные. Одеты синим плащом, с воротником, шитым золотом. Комната очень чистая, белая штукатурка порядочно расписанная цветами. Дом еще не совсем отстроен.
В селении Брейз принимали меня за доктора, подводили больных детей, водили меня к постели одного больного, движениями давали мне знать, чтобы я пощупал у него пульс. На Востоке старые сказки путешественников и поныне все еще действительная быль. Чтобы отделаться от своих пациентов и не дать им подумать, что я равнодушный и безсострадательный врач, я велел им сказать чрез переводчика моего, что я не лекарь, а московский эмир, который едет в гости к их эмиру. Тут оставили они меня в покое.
Наверху дома эмира терраса с фонтанами. Вид прекрасный. Подалее нагие горы здесь одеты роскошною и свежею зеленью. Море разливается у подошвы их.
Народонаселение очень любит эмира. Он человек набожный, справедливый и добрый. Несмотря на доброту его, на другой день при рассвете, под окнами его, раздавались крики несчастных, которых били палками по пятам. Я в то время собирался ехать и пил чай. Мне хотелось послать к эмиру и просить его помиловать несчастных; но мне сказали, что эти люди, по приговору судей и депутатов, наказываются за совершенные ими преступления.
Вечером обедали мы, или ужинали, сидя на полу. На подносе было около двадцати блюд разной дряни. Были вилки и ножи, но более для вида. К тому же, сидя поджавши ноги, неловко резать и покойнее и ловчее есть по-восточному.
Ничего нет скучнее разговоров через переводчика. Переводчики обыкновенно люди глупые и худо знают один из языков, с которого или на который переводят. Все вертится на тонкостях. Скажешь пошлость и слушаешь – как переводчик переносит ее на другой язык. Собеседник отвечает также пошлостью; ждешь, пока положит он ее в рот переводчику, который пережует ее и потом уже передаст тебе. Здесь же, на Востоке, каждое слово обшивается комплиментами. Я не понимаю, как европейские путешественники и книжники имели дар заводить любопытные разговоры со здешними жителями, не зная ни одного из восточных языков. Я думаю, что многие из этих разговоров выдуманы на досуге, чтобы бросить на книгу местную краску. Меня тошнит от всякого шарлатанства – после двух-трех фраз мне всегда хочется сказать через переводчика собеседнику: убирайся, пожалуйста, к черту и оставь меня в покое, как и я оставлю тебя.
Во вторник, 6 июня, отправился я из Бекфея в 6-м часу утра. Ночевать должен я был в Захле, часов за 7 или 8 – заезжал я в иезуитский монастырь возле дома эмира. Два иезуита, церковь и школа. В горах есть и другие иезуитские заведения.
Нельзя не отдать справедливости иезуитской и вообще римской церковной деятельности. Зовите ее властолюбием, но она приносит полезные плоды, а лица, которые именем церкви действуют, достойны всякого уважения и не заслуживают никакого нарекания. Они учат тому, во что сами верят и чем проникнуты с детства. Церковь их, может быть, ошибается, но они добросовестные, ревностные исполнители ее воли и учения. Самоотвержение их поразительно. Духовные лица эти вообще люди образованные – и должны жить посреди невежества и лишений всякого рода. Что же им делать, как не пропаганда? На то они и посланы – духовные воины, разосланные по всем концам мира, чтобы завоевать края оружием слова и покорять завоеванных власти, пославшей их. Они бодрствуют на страже и не упускают ни одного случая умножить победы свои. Да это жизнь апостольская.
От настоятеля узнал я, что жив еще иезуит патер Розавен, который был при мне в иезуитской школе в Петербурге. Я просил его передать ему поклон от старого ученика, про которого он, вероятно, забыл, хотя он, и вообще иезуиты, меня любили и отличали; но никогда, ни полусловом не старались поколебать во мне мое вероисповедание и переманить к себе.
Можно охуждать правительство или владыку за честолюбие его, но преданные ему воины, которые, не жалея трудов жизни своей, ратуют с честью и самоотвержением по долгу совести и присяги, возбудят всегда почтение во всех беспристрастных людах, и потому толки о пронырствах римского духовенства всегда мне кажутся нелепы.
Духовные начала, на коих основана церковь наша, могут быть чище, но духовное воинство римской церкви образовано и устроено гораздо лучше нашего. Их точно снедает ревность о Доме Господнем – как, то есть чем, учили их признавать этот дом. Смешно же требовать от этих миссионеров, чтобы они обращали в христианство в пользу протестантской или греческой церкви, а надобно же обращать или набирать в какое-нибудь вероисповедание, пока не будет общего, пока не будет единого пастыря и единого стада. Единый Пастырь и есть, но стадо разбито и ходит под различными таврами.
Дорога в Захле лучше Бейрутской, усеяна зелеными оазисами деревьев. Есть даже рощицы – что-то вроде нашего ельника. Так пахнет иногда от них Русью, что захочется слезть с лошади и пойти по грибы, но вспомнишь Тредьяковского и скажешь:
Лето, всем ты любовно,
Но, ах, ты не грибовно.
На дороге роща старых и широковетвистых деревьев в местечке Эльмруз, с маронитской церковью и школой. Мальчишки на дворе у церковной паперти твердили уроки свои по арабским книгам, вероятно, духовного содержания. Что из этого будет, Богу известно; но семена сеются.
Нельзя вообразить себе, как вся эта страна взволнована, взъерошена горами. Какая революция, почище всякой Июльской и Февральской, раскопала эту мостовую и раскидала ее громадные камни. Ламартину, вероятно, было бы завидно, глядя на это. Революция его рукоделия – датская игрушка; а тут видна рука Божия. Впрочем, и эти титановские и, казалось бы, неприступные и непереступные баррикады не заградили пути ни человеческой промышленности, ни суетному человеческому любопытству. И здесь, где только можно и где природа немного уступчивее и ручнее, засеяны полосы, зеленеют виноградники и шелковица. И здесь путешественник от нечего делать, покинув гнездо свое, карабкается по этим чудовищным горам, под опасением, при малейшей неверности шага лошади своей, нанятой за 15 пиастров на день, переломать себе ноги и руки, если не голову, один раз навсегда.
Впрочем, надо отдать справедливость горам: они здесь очень живописны и своеобразны: то иссечены они в виде крепости с башнями, то громадные камни лежат в каком-то порядке, точно кладбища с гробницами исполинов, допотопных титанов. Поминутно прорываются, с прохладительным туманом, стремительные потоки. Нет сомнения, что в этой знойной стороне чувствуешь не только внутреннюю жажду, но жаждут зрение и слух; и один вид, и одно журчание воды уже усладительно, и утоляет и освежает воображение. Со всем тем горы хороши как декорация, но лазить с непривычки по декорациям тяжело и накладно.
А.Л. Нарышкин, путешествуя в Германии, отвечал проводнику своему, предлагавшему взойти на высокую гору, что он обходится с горами, как с женщинами, и любит быть всегда у их ног. Шатобриан написал против гор злой и красноречивый памфлет.
К вечеру приехал я в Захле. Остановился в доме шейха Абу-Ассафа, православного, род арабского старосты или бурмистра, но старосты на лихом коне и воинственного. В Захле смешанного народонаселения тысяч до десяти. За несколько лет они воевали с друзами и одержали над ними победу. Мой староста показывал мне с гордым удовольствием место его военных подвигов. Захле на горе, в виду Анти-Ливан, внизу извивается речка. У меня вовсе нет местных красок, имен урочищ не помню, а записывать по пути скучно. Берега реки обсажены высокими тополями царство прохлады. Отужинав с шейхом, лег спать. Тут было царство мух и мошек невидимых и неслышных – только догадаешься о них, когда тайно и предательски впустят они жало свое в щеку или веки, которые они особенно жалуют.
В среду, рано утром, отправился в Балбек. Дорога ровная как скатерть по Балбекской долине, широко расстилающейся между двумя стенами Ливанской и Анти-Ливанской. Она почти вся обработана. Жатва, луга, на коих пасутся богатые стада. Шелковая мурава, на которую можно и прилечь. Сельские картины, успокаивающие и освежающие чувства после судорожных сцен истерзанной и ломаной природы утесов; тут можно пустить коня своего вскачь, что я и сделал к неудовольствию спутников и проводников моих. Пришлось же мне прослыть отчаянным наездником: я был всегда далеко впереди от каравана своего. Долина простирается верст на 60 в длину и, судя по глазомеру, верст на 20 в ширину. Я проехал ее с небольшим в четыре часа, а казенная езда – шесть часов.
О развалинах Балбека, после того, что было о них мною сказано, говорить нечего, к тому же жарко и писать не хочется. Развалины сами по себе, какие бы они ни были, для глаз и чувства моего, не имеют много приманки. Я рад, что видел Балбекские развалины, но еще более рад, что на пути к ним проехал часть Ливанских гор и Балбекскую долину.
Природа, в каком бы виде она ни была, для меня всегда привлекательнее зданий здравствующих и зданий развалившихся; но здесь любопытно и поразительно видеть, что делали люди за несколько тысяч лет до нас, какими громадами они поворачивали и какие памятники воздвигали. В сравнении с ними наши монументальные здания – карточные домики и детские игрушки; а Краевский толкует о прогрессе. Пришел бы он посмотреть на развалины храма Балбека, посудить по нему, что должен был быть город, вмещавший в стенах своих такое громадное здание. На какую высшую степень просвещения, промышленности и художественности такое строение указывает, и сравнить все это с опустением, невежеством и бедностью духовной и материальной, которые овладели ныне этим местом.
Я два раза осматривал развалины: в первый день приезда и во второй при месячном сиянии. На другой день еще посвятил несколько часов на прогулку по развалинам. Они обведены речкой. Вода превосходная. К развалинам на ней построена мельница. Под широкими сводами сучат веревки. Вот нынешняя жизнь и значение некогда знаменитого и великолепного храма. В Трое и того не найдешь. Впрочем, там найдешь Гомера и его «Илиаду», как в Гомере найдешь Трою.
В Балбеке ночевал у мутрана, епископа, грека Нимскаго. Он спрашивал меня о графе Остерман-Толстом.
Возвращаясь ночью от прилунной прогулки по развалинам, проходили мимо сада, где за стенами совершался мусульманский девичник, пели предсвадебные песни и били в ладоши. Провожавшие нас турки и христиане боялись долго оставаться на улице, чтобы не нарушать близким присутствием нашим таинства женского сборища, которое признается у турков гражданской и домашней святыней, неприкосновенной для мужчин и особенно для гяуров.
В четверг в 3 часа пополудни выехал я из Балбека; часу в 8-м вечера возвратился в Захле. За полчаса до селения выехал ко мне навстречу шейх в красном бурнусе, соскочил с коня и с поклоном вложил мне в рот свою курящуюся трубку – величайшая восточная учтивость, которая некогда переводилась на Западе предложением понюхать табаку из табакерки. И тут и там табак – символ приветствия. Если хорошо бы порыться в древних обычаях, то, может быть, найдешь, что обычаи одни и те же, как мысли и понятия, обходят с некоторыми изменениями круг земли и столетий.
Шейх провез меня по всей столице своей, вероятно, с мыслью удивить меня ее обширностью и многолюдством, которое стекалось по пути его со знаками почтения. А мне хотелось проехать по другой стороне – низменной, чтобы при вечерней прохладе и блеске звезд полюбоваться течением реки и темной зеленью тополей. Но, несмотря на мои убеждения, которых он, впрочем, не понимал, я должен был переменить свою поэтическую прогулку на торжественное, но прозаическое шествие по кривым и крутым улицам, мимо мазанок и лачуг, и только с вершины прислушиваться к плеску струй, разливавшихся в глубине оврага.
Вечером арабы пели, плясали передо мною род восточного канкана с отрывистыми и угловатыми телодвижениями. Мало-помалу плясун входит в пассию, кидается, вскликивает, перегибает спину свою назад так, что, закинув голову назад, чмокается сзади губами своими с одним из присутствующих и изнуренный падает на свое место.
На другой день, в пятницу, худо выспавшись от нашествия разноплеменных насекомых, отправился я в обратный путь в 5 часов утра. По маршруту моему, этот переход разделен был на два дня. Так и лошади были наняты; но я совершил его в один присест, к неудовольствию моих спутников и к удивлению ожидавших меня в Бейруте не ранее пятницы. Около тринадцати часов был я на коне, с малыми остановками в конаке, чтобы выпить чашку кофе, и к 7-ми часам, т. е. к обеду, был я в доме Базили.
Мой возвратный путь лежал, или карабкался и корячился, по другим горам. Путь такой же тяжелый и со всяким другим конем, не туземным или тугорным, опасный; при солнечном сиянии ехал я часы по туманам, или облакам, и проникнут был плавающей надо мной и вокруг меня влагой. Дороги разглядеть не мог; но тут были нужны не мои глаза, а лошадиные.
По вершинам некоторых гор лежали снежные полосы, как у нас холсты для беления по деревням. Горы еще тем нехороши, особенно для усталого путника, который видит перед собою цель своего странствования, что эта мнимая близость обманывает его зрение. С крыльями и легко бы долететь по прямому направлению, но тут кружишься иногда час и более почти все на одном месте, потому что крутизна скалы не дозволяет прямо спускаться, а надобно лавировать.
В субботу пришел австрийский пароход; прибывший на нем из Константинополя… дал нам известие об отъезде Павлуши и другие стамбульские вести. В воскресенье пришел русский бриг «Неандр» с архимандритом Софониею и Галенкою. У Базили обедали архимандрит, капитан брига Рябинин и граф Бутурлин с сыном, променявший свое русское графство, свои русские поместья и свою коренную личность на состояние не помнящих родства и приписанных к Римской церкви. Итальянцами им не бывать, разве потомкам их, а русскими они уже не суть. Если все это по убеждению и для спасения души, то и прекословить нечего. В некотором отношении можно иногда пожалеть о них, но еще более должны им позавидовать, ибо временные блага принесли они в жертву.
В понедельник, в Духов день, архимандрит служил обедню в греческой церкви. В отступнике Бутурлине замечательно много русского духа и вообще русской складки. Он даже усердный читатель «Северной Пчелы» и говорил, что по отъезде из Италии тоскует по ней. Ему известны и приснопамятны выходки Булгарина против толстых журналов.
Во вторник, к пяти часам пополудни, сели мы на австрийский пароход «Шилд». Он был окрещен во имя Ротшильда, но Ротшильд не согласился быть восприемником его, и пароход обезглавили. Дня два пред отъездом нашим дул сильный ветер и раскачал море. До острова Родоса нас порядочно било, тем более что машина не в соразмерности с величиною судна. Мы шли медленно, узлов по пяти в час. Пароход новый, и деревянная обшивка его, хотя очень щеголеватая, не обдержалась и не отселась. Никогда не слыхал я подобной трескотни и скрипотни. Казалось, что все лопается, трескается и того и смотри – распадется. Со всем тем в субботу, в 4-м часу пополудни, бросили мы якорь в Смирнском рейде; и к 7 часам были мы уже заключены в свою карантинную тюрьму.
На Смирнском рейде стоял французский пароход, отправляющийся в Константинополь, – и на нем Ламартин. Если турецкое правительство не было бы нелепо, то оно засадило бы Ламартина в карантин, вместо того, чтоб дать ему богатое поместье в своих владениях. Ламартин перевернул Францию вверх дном и после того бежит из нее как кошка, когда напроказит и разбросает посуду; а Диван, который ищет покровительства и милости Франции, оказывает неслыханное благодеяние безумцу, от которого все партии во Франции отказались и которого все равно обвиняют. Да и он хорош, устроив у себя республику, христорадничает у потомков Магомета и записывается к ним, более нежели в подданство, а в челядинцы, ибо идет питаться их милостынею и хлебом.
На возвратном пути ничего замечательного не было. Плыли мы по знакомой дороге и мимо знакомых островов, только приставая к некоторым, а не выходя на берег, согласно с карантинными правилами. Либеральные врачи воюют против карантинов, но они видят в них вопрос, более политический, нежели вопрос общественного здравия, и негодуют на них как на стеснение свободы человеческой – наравне с цензурой, с запретительными тарифами и пр. и пр.
Дело в том, что, со времени учреждения турецких карантинов, о чуме в Турции не слыхать. Это лучшее свидетельство в пользу карантинной системы – разумеется, благоразумной и умеренной, а не произвольной и излишне притеснительной. Что чума заразительна, что неограниченная свобода тиснения, в своем роде, общественная чума, что безусловная свобода торговли мечта несбыточная, все это оказывается на практике вопреки человеколюбивых и благодушных теорий. Смирнский карантин очень порядочен – на берегу моря, свежий ветер от него утоляет жар, и шум разбивающихся волн сладостно пробуждает внимание. Комнаты просторны и чисты, вероятно, потому, что султан на днях проехал через Смирну, и на всякий случай все в ней освежили и побелили.
Точно то же делается и на святой Руси. Карантинная стража не пугает, как в Одессе, своими смертоносными мундирами, забралами и проч. У нас все пересолят. Между тем наблюдательность здешней стражи очень бдительна и вовсе не докучлива. Я бросил бумажку из окна, и через несколько времени пришел ко мне один из надзирателей и спросил меня: я ли бросил? На ответ мой, что я, просил меня вперед не делать. Сошел в сад, подобрал все лоскутки бумаги, апельсинные корки и бросил их в море.
Обедаем мы с августейшего стола, то есть обед наш готовится поваром из Смирнской гостиницы Des deux freres Augustes (Два брата Августа). В карантине с нами англичанин Робертсон, сын датского консула в Смирне с женою, ребенком и братом, барон Шварц, баварец, наш иерусалимский спутник, два немецких живописца и около ста человек разного сброда. Вечером турки поют, играют в жгуты на дворе. Много в них живости и веселости. В то же время другие турки обращаются к востоку и не смущаемые ни присутствием нашим, ни играми своих братьев – с благоговением совершают, под открытым небом, свою вечернюю молитву. В числе стражи есть турецкий офицер, балагур и шутник; около него собирается кружок и потешается его рассказами и разными выходками.
Вообще в Турции заметно равенство между различными степенями состояния. Дух братства, вероятно, от того, что степень образованности, то есть необразованности, почти всем общая. Вместе с тем много у них челядинства, и турок, немного зажиточный, ничего сам не делает и окружен большей или меньшей прислугой.
В среду (я сбился числами), при восхождении солнца, отворили нам ворота нашей карантинной темницы. Множество барок было уже у берега. Все бросились нагружать на них свою кладь, и через час никого уже не было в карантине. Дул довольно сильный ветер против обыкновенного, ибо он поднимается вообще не ранее десятого часа, – и море барашилось. Жене не хотелось пасти это волнующееся стадо, и мы послали в город за portechaise (носилками) и за лошадью, чтобы ехать берегом. Между тем море стихло, и мы спокойно отправились в лодке, под охранением русского матроса, поселившегося в Смирне. Остановились мы по-прежнему в «Августейшей» гостинице.
Был я у паши, московского знакомца. Он немного говорит по-французски, помнит Петербург и многие лица, которых он там знал, и расспрашивал меня о них. Его почитают приверженцем русской системы и потому удаляют его от султана.
Султан заехал в Смирну вопреки маршрута, начертанного ему министерством. Уверяют, что сераскир, другой его beau-frere (зять), умолял его на коленях не заезжать в Смирну, пугая его болезнями, землетрясениями etc. Но, если не удалось им помешать султану быть в Смирне, то успели они ограничить пребывание его в ней несколькими часами, тогда как приготовления и праздники устроены были на несколько часов. По всему видно, что паша в оппозиции. Он очень худо отзывался об египетском паше, которого султан видел в Родосе и от которого принял в подарок богатый пароход, чему Галиль-паша будто верить не хотел, говоря, что это противно последнему торжественному постановлению султана принимать подарки свыше стольких-то ок (мер веса) винограда, груш etc.
Говоря о Ламартине, недавно проехавшем через Смирну, припоминал он слова его в Палате депутатов, что Турция – это труп; и я сказал, что тогда Ламартин – червь, который питается этим трупом, что очень рассмешило пашу.
Я просил его держать построже своего нового помещика. Он отвечал мне, что не боится его. Вообще пашу очень хвалят за деятельное и хорошее управление. От него поехал я на Мост Караванов и опять не видал ни единого верблюда.
Вместо пятницы пароход отправился в четверг. К четырем часам переехали мы на него в лодке, которую порядочно качал противный ветер, но русский матрос перевез нас благополучно. На пароходе нашли мы знакомое семейство муллы, бывшего в Иерусалиме, и очень дружно жили с гаремом его, на пароходе, очень обходительным и даже не закутывающим лица своего. Ветер был сильный и совершенно противный. Мы шли медленно, пароход скрипел во всю мочь, но качка была сносная. Нервы мои сначала несколько взбудоражились, но вскоре угомонились, и все обошлось благополучно.
Ночью остановились мы у острова Мителена и нагрузили на наш пароход около ста сорока негров и негритянок, – более последних, которых везли на продажу в Константинополь. Вот тебе и работорговля, против которой так либерально толкуют и так либерально крейсируют на далеких морях и которая здесь открыто производится под австрийским флагом. Впрочем, негры эти казались очень покойны и даже веселы, лежа на палубе, как скотина. Их ощупывали и осматривали, чтобы видеть, нет ли каких телесных пороков. Охотники и знатоки определяли, каждому и каждой, чего тот или другая стоит. Кажется, средняя цена от 1500 пиастров до 2000 и 2500. Но капитан парохода говорил, что совершить покупку на пароходе он не дозволит.
Нас пугали усиления качки в Мраморном море, но ветер к вечеру утих, и мы спокойно проспали последнюю ночь нашего плавания.
В субботу, 24 июня, к десяти часам утра, бросили мы якорь в красивом Константинопольском рейде.
В том или другом восточном городе славятся в особенности какие-нибудь плоды, например сидонские абрикосы (белокожие). Но вообще нет для фруктов лучшего климата как Милютинские лавки. Здесь нет поры зрелости для плодов. За неумением и неимением средств сохранить их в холодном месте, срывают их с дерева зелеными, да и пора их кратковременна. То их еще нет, то их уже нет. Восток роскошен только в тысяче и одной ночи. Какая роскошь в стране, где женщины невидимки.
Буюкдере. Мы переехали сюда в дом Титова 28 июня. Утром в Пере около 5 часов утра пробудило нас легкое землетрясение. Встал с постели. Все в воздухе, на небе, на море, на земле было тихо и ясно. Волновалась одна внутренность земли. Нас провожало из Перы землетрясение (8 апреля), и на обратном пути почти встретило землетрясение. Неприятная мысль, что если было одно землетрясение, почему не быть еще землетрясению завтра, послезавтра и так далее. Землетрясения, по несколько пароксизмов в день, били же, как лихорадка, Смирну в течение целого месяца.
Ламартин нанизывал фразы перед Фуад-эффенди о благоденствии Турции, которую он не узнает, так много подвигнулась она на дороге успехов и улучшений. «Это огромный прогресс, настоящее воскресение», – отвечал ему Фуад, лукаво намекая на прежние слова Ламартина, который на трибуне говорил, за несколько лет перед сим, что Турция это труп. Ламартин попал на мель и закусил губы.







