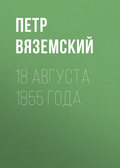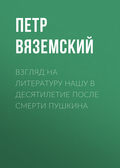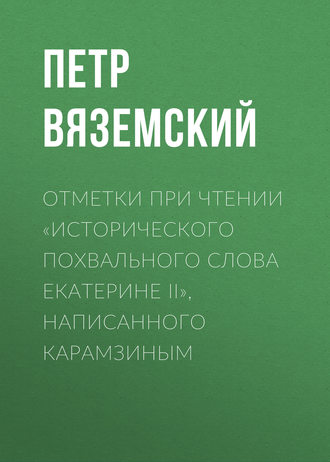
Петр Вяземский
Отметки при чтении «Исторического похвального слова Екатерине II», написанного Карамзиным
Но, может быть, такой уклончивый оборот речи не ладил с требованиями и условиями похвального слова, хотя бы и исторического. Но как бы то ни было, не законы и не учреждения виноваты, когда общество не умеет вполне ими пользоваться. Много званных, мало избранных. Но были же избранные, которые при равнодушии других постигли важность даруемых им прав, добросовестно признавая, что права возлагают и обязанности. Далее: «Новое учреждение», говорит автор, «пресекло многие злоупотребления господской власти над рабами, поручив их судьбу особенному вниманию наместника. Сии гнусные, но к утешению доброго сердца, малочисленные тираны, которые забывают, что быть господином, есть для истинного дворянина, быть отцом своих подданных, не могли уже тиранствовать во мраке; луч мудрого правительства осветил те дела; страхе был для них красноречивее совести, и судьба подвластных земледельцев смягчилась».
Многие обвиняют Карамзина в пристрастной приверженности к крепостному помещицкому праву. Мы сейчас видели, как сильно восстает он против злоупотреблений этого права, не обинуясь позорит он злых помещиков клеймом гнусного тиранства. Как человек, он, без сомнения, в душе своей за уничтожение крепостного состояния, которое влечет за собою ужасы, им упоминаемые; как политик, как публицист, он мог думать, что время для этого уничтожения еще не настало. Он не доктринер, готовый принести все в жертву единственно для торжества принципа. Он мог ошибаться по части политической экономии, мог опасаться гибельных последствий, которые могли и не осуществиться. Это дело другое; публицист не обязан быть пророком; довольно и того, если правильно судит он о настоящем: взвешивает выгоды и невыгоды вопроса, суждению его подлежащего, и приходит к заключению по совести своей и по своему разумению. Чтобы о действиях человека и писателя (а писания его – тоже действия) судить беспристрастно и правильно, нужно всегда принимать в соображение эпоху, ему современную, и, так сказать, внутреннюю среду умственного и нравственного положения его. Всякая картина, для прямого действия ее на зрителя, требует, чтобы выставлена была она в приличном и свойственном ей свете. Карамзин писал записку свою «О древней и новой России» в то самое время, когда над Европою, особенно над Россиею, висела шпага Дамоклеса, т. е. Наполеона, уже поразившая две трети Европы. Карамзину могло казаться неудобным крутыми преобразованиями и мерами делать в то время опыты над Россиею, т. е. ломать, уничтожать живые силы, которыми так или иначе держалась она, и создать наскоро новые, еще неизвестные силы, которые, во всяком случае, не успели бы перед подходящею грозою достаточно развиться и окрепнуть. С другой стороны, он уже посвятил несколько лет трудолюбивой жизни своей на воссоздание истории глубоко и пламенно любимого им отечества. Он шаг за шагом, столетие за столетием, событие за событием следил за возрастанием и беспрерывно мужающим могуществом государства. Не мог же он не прийти к тому заключению и убеждению, что, несмотря на частые, прискорбные и предосудительные явления, все же находились в этом развитии, в этом устоявшемся складе и порядке, многие зародыши силы и живучести. Без того не удержалась бы Россия. Он полюбил Россию, какою сложилась она и выросла. И это очень натурально. Вот вдохновение и основы консерватизма его. Либералу, т. е. тому, что называют либералом, трудно быть хорошим историком. Либерал смотрит вперед и требует нового: он презирает минувшее. Историк должен возлюбить это минувшее, не суеверною, но родственною любовью. Анатомировать бытописание, как охладевший труп, из одной любви к анатомии, истории, есть труд неблагодарный и бесполезный.
В доказательство того, что Карамзин не был политическим старовером, приведем следующие строки из похвального слова: «Я означил только главные действия Екатерины, действия уже явные, но еще многие хранятся в урне будущего, или в начале своем менее приметны для наблюдателя. Оно, необходимо просвещая народы, окажется тем благодетельнее в следствиях, чем народ будет просвещеннее».
Следовательно, Карамзин не замыкал народ в известных и не перешагиваемых гранях: он ни граждан не закреплял к неизменному вовеки строю, ни земледельцев не закреплял вечно к земле. Он понимал, что тем и другим должно прорубить новые просеки, раскрывая новые горизонты, но под одним условием, а именно Просвещения. В этом слове заключается все.