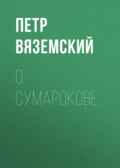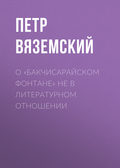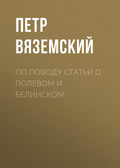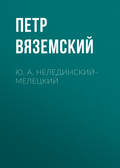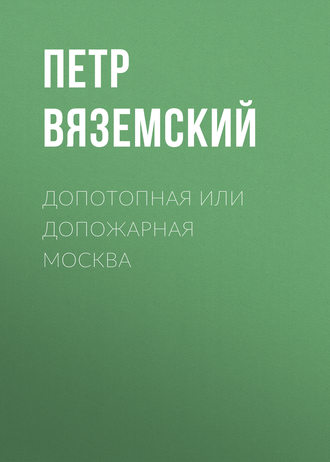
Петр Вяземский
Допотопная или допожарная Москва
Первые мои детские и отроческие впечатления сливаются в памяти моей с воспоминаниями о замечательных лицах, которых видал я у отца моего. Тут рано свыкся я с внешнею жизнию и обстановкою образования. Эти явления были для меня более галлереею отдельных портретов, нежели полною картиною действительности. Знакомства и сближения с лицами быть не могло. Но все же чуткое свойство отрочества не лишено было некоторой восприимчивости. С учителями своими, признаться должно, учился я плохо; но мне сдается и ныне, что эта живая атмосфера, в которой я жил, хотя и не сознательно, была для меня не совсем бесполезною школою. Постараюсь оттиснуть хотя бегло и слегка кое какие фотография из моей памяти. Лицо моего отца сделается явственнее при начертания среды его окружавшей. Некоторые из этих лиц были Москвичами и постоянными посетителями нашего дома; другие заезжие в Москву. В числе последних начнем с канцлера графа Александра Романовича Воронцова. Он долго управлял иностранными делами государства. Князь Андрей Иванович был с ним особенно дружен и вел с ним постоянную переписку на Французском языке. У обоих почерк был почти недоступен глазам простых смертных. Мой отец обыкновенно диктовал свои письма сестре моей, бывшей после замужем за князем Алексеем Григорьевичем Щербатовым. Но граф писал собственноручно. Письма его были нередко предметом напряженных изучений и усилий, на которые сзывались все домашние, от мала до велика, а иногда и посторонние.
Братья Зубовы, князь Платон и князь Валериан.
Еще помню красивое лицо и деревяшку последнего, сильно поразившего мое внимание. Из двух братьев, кажется, с ним особенно дружен был мой родитель. Помню, как, в царствование Императора Павла, он в дорожном платье прямо въехал к нам в дом, проездом из ссылки своей в Петербург. Кажется, что князь Андрей Иванович по связям своим отчасти даже содействовал возвращению его из ссылки, о чем после, вероятно, и сожалел и упрекал себя, хотя лично и любил его.
Светлейший князь Петр Васильевич Лопухин. Письма его к моему отцу, хотя писаны и не очень грамотно и на Французском, и на Русском языке, отличаются некоторою живостью и литтературностию. В них встречаются цитаты из Diderot, что дает легкое, но довольно верное понятие о диапазоне тогдашнего настроения умов и верований. Многие полагают, что в жизни и привычках отцов наших литтературная стихия или вовсе не существовала, или была едва заметна. Это совершенно противоречит истине: деды и отцы были гораздо литтературнее внуков и сыновей. Можно решительно сказать, что нигде и никогда не было двора столь литтературного, как двор Екатерины II-й. И Людовик XVI, покровительством, оказанным Расину и Мольеру, и сам Фридрих Великий, сей ученик Вольтера на Прусском престоле, не могут затенить в этом отношении блеск Петербургского двора. У Екатерины Великой был, так сказать, собственный литтературный секретариат: Храповицкий, Козицкий и другие лица, между прочими государственными делами, занимались при ней и литтературными. Великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Феодоровна имели в Париже литтературного корреспондента, в лице ныне только-что известного, а в свое время знаменитого писателя Лагарпа. Письма эти, впоследствии изданные, представляют любопытную картину тогдашней современной литтературы. В отсутствии всякой принужденности и оффициальной чопорности, они приносят честь и писавшему их и тем, к которым они были писаны. Подобные примеры, истекающие из царского двора, не могли не иметь увлекательного и значительного влияния на людей приближенных к двору, на высшее общество, а потом и на средние слои его. Вельможи и государственные люди, как Шуваловы, Бецкие, Румянцевы и другие, вступали также в переписку с иностранными писателями, особенно Французскими, и каждый хотел иметь в своем портфеле хотя одно письмо Вольтера или Д'Аламбера. Не касаясь настоящего времени, чтобы с ним не ссориться можно искренно и положительно сказать о прошедшем, что некоторая часть высшего нашего общества была гораздо выше нашей тогдашней литтературы. Любознательность, вкус, потребность в умственных наслаждениях были пробуждены и тонко изощрены. Не скажу, чтобы уровень просвещения был тогда возведен на значительную степень. Учение, положительные знания были довольно поверхностны. Но все же не было не только невежества, но не было и равнодушие к уму и его проявлениям. Пожалуй можно витиевато и сердито восставать на тогдашнюю французоманию. Но справедливы ли будут эти нарекания? Здесь кстати припомнить Русскую пословицу: нужда научит есть калачи. Любовь, алчность к чтению сильно давали себя чувствовать в высшем обществе, а домашнего хлеба не было. По прочтении нескольких Русских поэтов, и пожалуй двух трех Русских книг, образованные и мучимые голодом читатели по неволе должны были кидаться на Французские книги. В переводах с иностранных языков, особенно с Французского, они не нуждались, потому что могли читать подлинник. Переводами они пренебрегали, а в туземных произведениях родной почвы был недостаток. Что же оставалось им делать? Неужели безграмотность или совершенная бесчитательность, из упрямой любви к родному и благоразумного презрения к иностранному, были бы благоразумнее и лучше? Знаю, что ныне некоторые патриоты-публицисты, из ненависти ко всему привозному, негодовали бы на разрешение привоза хлеба из заграницы, в случае общего неурожая в России. Но патриотизм прежних поколений не доходил до этого геройского самопожертвования.
Князь Лопухин имел, как сказывают, много природного ума и Русского шутливого остроумия. Помню, как однажды, в проезд его через Москву, представлялись мы ему с Карамзиным и почти всею Москвою, что было в обыкновении при всех проездах сановников и высших государственных людей. Тогда только что получено было известие о назначении Мертвого генерал-провиантмейстером, «увидим, сказал князь, что будет от Мертвого, а от живых по этой части доселе проку было мало». При Екатерине князь был в С.-Петербурге полициймейстером, и цензура книг была ему подведомственна; позднее, когда он был председателем государственного совета, а Дмитриев – министром юстиции, и дела цензуры стали многосложнее и щекотливее, – «а помните ли, говорил он Дмитриеву, как в наше время все это проходило тихо и просто? В залу, куда собиралось множество народа и всякого звания, кто с прошением, кто с схваченным на улице за шум, пьянство или буйство, ты бывало приносил мне свою рукопись, – я наскоро прочитывал ее, подписывался на ней, и дело с концом». Дмитриев поступил на место его в звании министра юстиции и в дом, по этому званию им занимаемый. Спустя несколько дней князь, встретясь с ним, спросил его: «Как устроились вы в министерском доме и приняли ли вы в целости всю казенную мебель»? Дмитриев был очень щекотлив и раздражителен; такой вопрос показался ему странным и неуместным, и отвечал он довольно сухо. Вы видно меня не понимаете, сказал ему князь: я говорю о – и тут назвал он одного из сенаторов, который был неизменною принадлежностью каждого министра юстиции и его то причислял он в мебели казенного дома.