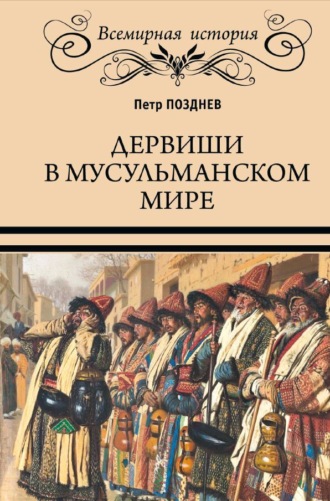
Петр Позднев
Дервиши в мусульманском мире
Таковы характерные особенности аскетизма и мистицизма. На основании их нельзя назвать дервишество в строгом смысле аскетизмом, а скорее – мистицизмом, потому что в дервишестве хотя и есть доля аскетизма, но преобладающим элементом является мистицизм, и до того преобладающим, что аскетизм осужден в нем на самую «карикатурную» роль. Впрочем, это зависело в значительной степени и от характера ислама, среди которого явилось и развилось дервишество.
История, учение, устройство и жизнь дервишских орденов служат вторым основанием, почему дервишество должно считать скорее мистическим явлением, чем аскетическим. Не менее важными для понимания дервишества представляются вопросы о том, оригинальное ли явление в исламе представляет собой дервишество? Если нет, то где его начало? Эти два вопроса сводятся к одному – о происхождении дервишества в исламе. Вопрос о происхождении мусульманского дервишества в магометанской и европейской литературе решается различно. В самом мусульманском мире даются неодинаковые ответы на вопрос: где начало дервишества? Иначе отвечают на этот вопрос сами дервиши; иначе отвечают мусульманские ученые, не принадлежащие к дервишам, но признающие их ордена законным учреждением в исламе; наконец, иначе говорят об этом магометане – враги дервишества. Суннитские дервиши искренно убеждены в том, что некоторые их ордена ведут свое начало от первого мусульманского халифа Абу Бакра, а большинство – от четвертого халифа Али и что сами эти халифы получили право на учреждение и духовное главенство в дервишских орденах от Мухаммеда, который, в свою очередь, получил позволение на учреждение дервишества от самого Бога через Архангела Гавриила. Таким образом, по верованию суннитских дервишей, основателями их орденов были следующие лица: Аллах (Бог), Джебраил (архангел Гавриил), Мухаммед, Али и Абу Бакр54. Шиитские же, или персидские дервиши, по словам Малкольма, считают Али, его сыновей (Хусейна и Хасана) и всех 12 имамов проповедниками суфизма (дервишества тож). По свидетельству Шанаваз-хана, четыре лица были уполномочены Али распространять учение суфиев. Это были два его сына – имамы Хусейн и Хасан, и два ученых мужа: один – по имени Хасан Аль Басри, а другой – Камил, сын Зейда. Хасану Аль Басри преемствовали Абдул Вахид, сын Зейда, и Хубиби – Аджуми, или Хубиби из Персии. От этих двух лиц и произошли все дервишские секты: но сам Али, по верованию дервишей, получил право на духовное главенство в дервишских орденах от Мухаммеда55. Таким образом, шиитские дервиши вовсе устраняют от главенства над дервишами Абу Бакра, признавая виновниками суфизма, после Бога и архангела Гавриила, только Мухаммеда и Али. Мнение мусульманских ученых, не принадлежащих к дервишам, но признающих законность дервишества, лучше всего выражено Ибн Хальдуном, ученым суннитского толка. Полемизируя с шиитами по вопросу о дервишестве, он настаивает на том, что Али вовсе не отличался таким высоким благочестием, каким Абу Бакр и Омар56, но что и эти последние не были основателями суфизма, потому что все компаньоны (асхабы) Мухаммеда вели такую же благочестивую, или суфийскую, жизнь, как Абу Бакр и Али57. Поэтому Ибн Хальдун признает основателями суфизма не Али или Абу Бакра, а всех Мухаммедовых компаньонов, говоря: «Вот чему обязан суфизм своим началом. Образ жизни, усвоенный этого рода людьми (суфиями), всегда был в силе, начиная со времени первых мусульман. Самые превосходнейшие между компаньонами и их учениками (табии) и между преемниками этих последних считали (этот) образ жизни истинным и прямым путем (к спасению). Он имел своим основанием обязанность постоянно предаваться подвигам благочестия, жить единственно для Бога, отрекаться от пышности и суетности мирской, не стремиться к тому; чего ищут обыкновенные люди, т. е. к удовольствиям, богатству и почестям, наконец, избегать общества, чтобы в уединении предаваться подвигам богопочитания. Ничего не было общего между компаньонами и другими верующими первого времени. Когда во втором и последующих веках ислама страсть к мирским благам распространилась и большинство мусульман увлечены были в круговорот мирской жизни, явились лица, которые посвятили себя благочестию под именем суфии, или мотесуфии58. Таким образом, по мнению Ибн Хальдуна, хотя суфии существовали еще при жизни Мухаммеда, в лице всех его компаньонов, и хотя все они были основателями суфизма, однако название «суфии» последователи их получили уже после, во втором и последующих веках. С Ибн Хальдуном согласен и другой мусульманский писатель, цитируемый Гарсоном де Тасси: только он выражается определеннее относительно времени и лиц, когда и кто из магометан первым принял имя «суфии». Он говорит, что первым, принявшим имя суфия, был Абду Хашим аль-Куфи, живший в последней четверти восьмого столетия по P. Хр.59 Интересно во всяком случае упомянуть здесь и о том, что некоторые благочестивые мусульмане, признающие дервишество законным учреждением в исламе, а также и все дервиши относят начало суфизма даже к началу рода человеческого. «Семена суфизма были посеяны во время Адама, дали зародыш во время Ноя, стали распускаться при Аврааме, а плод их появился при Моисее; созрел же он при Христе, а при Мухаммеде произвел чистое вино»60, – говорят верующие мусульмане и дервиши. Словом, как сами дервиши, так и мусульманские писатели, признающие дервишество учреждением законным в исламе, вообще полагают, что дервишество есть оригинальное, самобытное явление в исламе.
Не так смотрят на происхождение дервишества мусульманские же писатели, но открытые враги дервишей. Все писатели этой группы согласны между собою в том, что дервиши ведут свое начало от древних сабеян61 и от древних философов Греции, особенно от Платона, или, вернее, от неоплатонизма. Но они расходятся в признании количества первоначальных дервишских сект в исламе. Так, Ага-Мухаммед Али, знаменитейший шиитский ученый и самый ожесточенный враг суфиев, посвятивший все свое искусство на объяснение и опровержение их учения, замечает по этому поводу: «Суфии делятся на великое число сект. Некоторые утверждают, что оригинальных дервишских сект только четыре и что все остальные секты только ветви этих четырех. Первая из них – хулуль, или “вдохновленные Божеством”; вторая – иттихади, или “союзники”; третья – усули, или “соединенные”; четвертая – гашки, или “друзья”. Некоторые прибавляют к четырем сектам еще две. Пятую они называют телькини, или «учителями», а шестую – зурики, или “проникающими”. Другие упоминают еще о седьмой секте, которую они называют вахдетти, или “отшельниками”»62. Сам же Ага-Мухаммед Али ни с одним из этих мнений не соглашается и признает оригинальными только две секты, именно хулуль и иттихади. Остальные же пять сект он считает ветвями этих двух 63. Указав две оригинальные секты, он замечает, что «обе они произошли из секты, называемой германи, которая заимствовала свое учение от древних сабеян64. Желая во что бы то ни стало доказать немусульманское происхождение дервишества и не будучи основательно и надлежащим образом знакомым с христианством, этот шиитский ученый даже ошибочно думает, что на учении первых дервишских сект отразилось влияние и христианства. Так он говорит о первых двух сектах: «Нечестивые люди, желая скрыть от самих себя великое заблуждение, в которое они впали, старались связать учение этих сект с учением о двенадцати священных имамах, с которым они не имеют ни малейшего сродства; но главные положения хулуль, конечно, сродны с символом назарян, которые веруют, что Дух Божий вошел в утробу Девы Марии, а потому веруют в учение о Божественной природе своего пророка Иисуса»65. Считая мнение Аги-Мухаммеда Али вернейшим из всех приведенных, нельзя, однако ж, не принять при этом во внимание и следующих слов Малкольма, высказанных им по поводу взгляда этого писателя: «Вахдетти, или “отшельники”, которых [Ага-Мухаммед Али] считает ветвью иттихади, признаются многими другими писателями одною из оригинальных сект суфизма… Этот класс суфиев считается последователями древних философов Греции, и в особенности Платона»66. Из всего этого между прочим видно, что, при всей своей правдивости, мусульманские писатели последней группы, хотя и враги дервишей, но, как мусульмане, являются не вполне беспристрастными в решении вопроса о происхождении дервишества.
Европейские ученые в своих взглядах на происхождение дервишества основываются на показаниях как самих дервишей, так и вообще мусульманских писателей; но к этим показаниям они присоединяют еще и свои собственные соображения. И между европейскими учеными существует несколько различных мнений относительно происхождения дервишества, что зависит от разных точек зрения, с которых известные писатели преимущественно смотрят на дервишество. На этом основании почти у каждого европейского писателя взгляд на происхождение дервишества носит свой особенный оттенок. Но если не обращать внимания на эти оттенки в мнениях, то все взгляды европейских ученых можно подвести под три категории, сообразно трем главным идеям, отличающим мнения каждой из них. Первая группа писателей признает дервишество явлением самостоятельным, независимо от посторонних влияний возникшим в исламе. Так думают д’Оссон, фон Гаммер, Толук, а из русских – автор статьи, помещенной в энциклопедическом лексиконе ІІлюшара67. При этом д’Оссон главную причину появления дервишества видит в энтузиазме и исступленном воображении первых последователей Мухаммеда, фон Гаммер – в склонности арабов к созерцательной жизни, а Толук – в самом характере магометанского учения68. Для наглядной характеристики взгляда этой группы не мешает буквально привести мнения д’Оссона и фон Гаммера. Первый из них говорит: «Энтузиазм, какой Мухаммед был способен вдохнуть в своих учеников, возбуждение их воображения картинами чувственных удовольствий, какие он обещал им в будущей жизни, и победами, которыми он поддерживал свое мнимое посланничество, способствовали появлении между верующими в Коран киновитов, строгость жизни которых, кажется, сделала их в глазах легковерного народа совершенными странниками на земле»69. Фон Гаммер в своей знаменитой «Истории Турецкого государства» пишет: «Выражение пророка “нет монахов в исламе” должно бы быть достаточным для того, чтобы препятствовать всяким нововведениям и подражаниям монашеству индийцев и греков; но естественное расположение арабов к уединенной и созерцательной жизни заставило их скоро забыть это правило: а другая его фраза “бедность – моя гордость” была аргументом, на котором, спустя тридцать лет после смерти пророка, его последователи утвердили начало своих многочисленных монастырей»70.
Вторую группу европейских писателей составляют д’Эрбело, Рикот, Кантемир, Деллингер и др. Все они единодушно говорят, что дервишество образовалось в магометанстве под влиянием христианского монашества, в подражание ему. Но и эти писатели, как и приведенные выше, различаются между собою в частностях. Разность у большинства из них особенно, заметна в отношении времени, в какое, по их мнению, явилось дервишество. Так, д’Эрбело, признавая, что дервиши многое заимствовали у христианских монахов, относит их начало ко времени Насра Саманида 71. Рикот признает, что хотя для дервишей христианский и иудейский закон и служит образцом, однако они «зле» его употребили, и полагает, что начало дервишеству положено при Орхане II, турецком султане, спустя 350 лет после смерти Мухаммеда72. Кантемир же считает первыми основателями дервишества халватийя и накшбандия, но при этом сознается, что не мог узнать определенно, в какое время жили эти лица73. Что же касается Деллингера, то вот как он решает этот вопрос в своем прекрасном, уже цитированном выше, труде о происхождении дервишества: «Обыкновенная на Востоке склонность к созерцанию, с одной стороны, и стремлению к неутомимому скитальническому образу жизни, с другой, равно как и явление христианских монастырей и аскетов были настолько сильны, что ввели в ислам, против воли его основателя, отшельнический институт»74. По такому взгляду Деллингер отчасти примыкает и к первой группе европейских ученых.
Взгляд третьей, и последней, группы европейских писателей обнимает собою оба предшествующих взгляда, но в то же время и резко отличается от них как по своей полноте, так, главным образом, и по одному весьма важному пункту, который пропущен был без внимания учеными первой и второй категории и который, собственно, и ставит высказывающих его писателей в отдельную группу. Считая верными приводимые писателями первых двух групп основания для объяснения происхождения дервишества, третья группа прибавляет к этому, что главным источником, из которого дервиши заимствовали и учение, и некоторые чисто дервишеские формы жизни и богопочитания и перенесли их на почву ислама, служили неоплатонизм, магизм и буддизм. Этого взгляда держатся Сильвестр де Саси75, Уильям Джонс76, Малкольм77, Шмёльдерс78, Убисини79, Баденштедт80, Мадден81, Гарсен де Тасси82, Джон Браун83, а из русских ученых – Мирза Казем-Бек84, Ханыков85 и неизвестный автор указанной выше статьи «Современника»86.
Таким образом, некоторые из европейских ученых по своим взглядам на происхождение дервишества примыкают к первым двум группам мусульманских писателей. Различие между теми и другими состоит только в том, что европейские ученые присоединяют к показаниям мусульман внутренние, так сказать, причины, по которым дервишество возникло в исламе, чего не делают мусульманские писатели. Другие европейские писатели образуют из себя особую, самостоятельную группу по своему объяснению, какое они дают относительно занимающего их предмета. Наконец, третьи, восполняя первые две группы, в то же время отчасти примыкают к мусульманским ученым третьей категории, хотя и от них отличаются своими более полными и более беспристрастными объяснениями.
Теперь вопрос в том, который из этих взглядов вернее? На основании истории, учения и жизни дервишей нельзя не признать более полным и более верным взгляд третьей группы европейских писателей. Однако и остальные взгляды как мусульманских, так и христианских ученых нельзя признать вполне неверными. В каждом из этих взглядов есть своя доля правды; их недостаток состоит в том, что они касаются одной какой-либо стороны вопроса и ей стараются объяснить все сложное явление дервишества; значит, недостаток этих взглядов – в узости, односторонности. Зато они прекрасно освещают для нас предмет с этой именно стороны, на которую обращено все их внимание. Так, например, дервиши и мусульманские писатели второй группы, не говоря о первоисточнике дервишества, указывают, кто именно из магометан были распространителями суфизма; мусульманские ученые третьей группы, совершенно изгоняя дервишество из ислама, говорят о настоящем его источнике. Европейские же ориенталисты первых двух групп, не обнимая дервишества со всех сторон, верно объясняют возникновение его в исламе с той именно стороны, на которой они по преимуществу останавливаются. Но все-таки самый полный и самый верный взгляд из приведенных – это взгляд третьей группы европейских ориенталистов. Следуя этому взгляду и самой истории, можно следующим образом очертить историческое происхождение дервишества в исламе.
Дервишество, или суфизм, существовало в Аравии и Персии задолго до Мухаммеда, только под иным именем, и притом в Аравии – под одним, а в Персии – под другим. Разность в названиях зависела от того философского элемента, от которого оно получило свое начало и который преобладал в дервишестве известной страны. Этот элемент налагал свой особый отпечаток и на самый характер дервишества. Так, в Аравии преобладал неоплатонизм, и суфизм носил его характер; в Персии же преобладали буддизм и магизм, и они придавали суфизму свой характер. В той и другой стране суфизму благоприятствовали как характер, так и умственно-религиозное состояние народов, населявших эти страны, – впрочем, не в равной степени. С появлением ислама в Аравии суфизм принял здесь особенный характер. Под подавляющим влиянием ислама суфизм в Аравии до того изменил свой первоначальный вид, что становится едва заметным для немусульманского глаза, а для магометан остается совершенно неуловимым, почему слово «суфий» на первых порах ислама было синонимичным выражению «истый мусульманин». Затем совершилось если не слияние ислама с суфизмом, то полное заимствование от суфизма религиозных форм двумя чисто мусульманскими общинами, которые были основаны еще при Мухаммеде в видах частью религиозных, частью практических – именно для взаимного поддержания ислама и для взаимной материальной помощи. Но, по мере того как ислам глубже и глубже проникал в сердца своих последователей, его учение своим давлением все более и более возбуждало и усиливало суфизм, который заметнее начинал обнаруживаться, находя себе прочную поддержку в естественном расположении арабов-мусульман к мистицизму. Наконец, в период Аббасидов суфизм открыто заявил о себе и стал искать в отрывочных наречениях Корана и особенно в мусульманских преданиях оснований для своего законного существования в исламе. Век Аббасидов как век мусульманского просвещения вполне благоприятствовал утверждению суфизма в исламе; в это время в Аравии появилось много «суфийских» сект, которые не только стали пользоваться правом законного существования среди ислама, но и приобрели глубокое уважение со стороны мусульман и сильное влияние на них. Между тем еще задолго до этого ислам утвердился в Персии и вступил в борьбу с религией этой страны и ее различными сектами, а также и с персидским суфизмом. Хотя персидские секты и уступили силе ислама, но вместе с тем они проникли в ислам, значительно изменили его характер и тем содействовали утверждению ислама в Персии в измененном уже виде. Ислам поддавался со своей стороны такому изменению под влиянием выработавшегося в Аравии мусульманского суфизма, который, конечно, одновременно с исламом успел проникнуть и в Персию. В Персии аравийский суфизм нашел для себя более плодотворную почву, чем в Аравии, как в характере самих персов, так и в их суфизме, и слился с ним, но так, что претерпел некоторые изменения под влиянием последнего. Не будучи вполне сформировавшимся, измененный таким образом суфизм, однако ж, был настолько силен, что вместе с другими причинами содействовал появлению множества сект с суфийским характером в Персидском, уже мусульманском, государстве. Под влиянием одной из таких сект, носейри, он и сам получил настоящий законченный вид в своем устройстве и практической жизни, вполне развивши теоретическое учение через своих последователей – знаменитых персидских поэтов. И уже в таком виде оно распространилось из Персии по всем мусульманским странам в форме многочисленных дервишских орденов, под различными названиями.
Вот взгляд европейских ученых третьей группы на историческое происхождение дервишества: он составлен частью на основании исторических данных, а частью – на основании сравнения дервишского учения и образа жизни дервишей с учением ислама, с учением и жизнью неоплатонических и буддийских сект Аравии и Персии. Этот взгляд, как более отвечающий истории дервишества, принимается за основание и в настоящем исследовании.
Оренбург
17 марта 1885 года
Глава I
Происхождение дервишества в исламе
Характер арабов домагометанского периода; их образованность и религиозное состояние; дело Мухаммеда
Во введении к настоящему исследованию было замечено, что дервишество, или суфизм, существовало в Аравии и Персии задолго до распространения в названных странах ислама и что с появлением ислама в Аравии и Персии суфизм сохранил свое существование, частью изменив первоначальный характер, частью оказав влияние на характер самого ислама. Как происходило это интересное перерождение суфизма языческого в суфизм мусульманский, я постараюсь раскрыть в настоящей главе, сначала – по отношению к Аравии, а затем – по отношению к Персии.
Чтобы яснее и вернее представить историю происхождения дервишества в Аравии, необходимо предварительно сказать несколько слов о характере арабов домагометанского периода, об их умственном и религиозном состоянии и о совершенном Мухаммедом религиозном перевороте на Аравийском полуострове.
Верно обрисовать характер народа может только специалист своего дела, в совершенстве изучивший свой предмет. Таким по отношению к арабам является Гердер. Он пишет: «Арабы сохранили патриархальные нравы своих предков; они по особенному контрасту жестоки и рабски почтительны, суеверны и восторженны, жадны до верований и фикций; кажется, они одарены вечною юностью и способны на самые великие подвиги, когда над ними господствует возвышенная идея. Свободный, благородный и гордый араб в то же время вспыльчив и полон отваги: в нем можно видеть тип добродетелей и пороков его нации; необходимость самому удовлетворять своим нуждам делает его деятельным; он терпелив по причине страданий всякого рода, какие ему приходится переносить; он любит независимость как единственное благо, которым дано ему наслаждаться. Строгий к самому себе, он делается жестоким и очень часто обнаруживает жажду мести… Меч, гостеприимство, красноречие составляют славу арабов; меч – единственная гарантия их прав, гостеприимство заменяет для них кодекс гуманности, а красноречие служит к прекращению несогласий, которые не разрешались оружием»87. К этой характеристике для полноты нужно присоединить еще одну только фразу из Ленормана, именно: «С самой глубокой древности арабы была страстными любителями музыки и поэзии»88.
Страстно любя свободу и привольную жизнь, арабы не хотели никому быть обязанными в самом главном средстве истинной цивилизации – в искусстве письма, поэтому они долго и не имели его, между тем как даже родственное им племя – сабеяне Йемена – давно уже заимствовало это искусство от финикиян, а племена Каменистой Аравии – эдомитяне и мадианитяне – пользовались тем же алфавитом, каким и жители Сирии и Палестины. И только уже в VI веке по P.X. арабы усвоили письмо под влиянием христианской Сирии89. Вследствие этого арабы и не были цивилизованным народом. Знания их были ничтожны: в области астрономии они ограничивались лишь знанием тех звезд, которые служили им путеводителями в их странствованиях по пустыням; историю у них заменяли родословные, которыми они занимались с особенным старанием, заботясь о сохранении арабской крови в своих племенах90. Таким образом, в области, так сказать, естественных знаний и истории арабы являются вовсе не производительными. Более производительными они были в области поэзии, которую они так любили, что и в обыкновенных разговорах постоянно употребляли поэтические обороты. Более всего они любили в часы досуга и празднеств слушать, как их поэты, под влиянием вдохновения или с помощью удивительной памяти, декламировали свои поэмы, и предаваться всем чувствам, какие желали вдохнуть в них эти поэты. Средством для наслаждения прелестями поэзии арабам служили между прочим их общественные собрания. Эти собрания, которые происходили в Оказе, – городке, расположенном между Тайефом и Нахлой, – в Манджане и Дзул-Меджазе, за горою Арафат, и на которые стекались арабы со всех концов Аравии, были подобием Олимпийских игр. На них арабы решали самые важные вопросы, которых не могло прекратить даже оружие. Любя поэзию, арабы с особенною почестью относились и к своим поэтам. А вследствие этого различные арабские наречия объединялись в языке поэтов, и каждый араб, к какому бы племени он ни принадлежал, старался придавать выражениям своей речи тот смысл, какой под ними разумели поэты91. Можно сказать, что если где, так именно в поэзии древние арабы являются вполне самобытными, свободными от чуждых влияний. Однако же при этом надо заметить прекрасными словами Шмёльдерса и то, что «между тем, как у других наций первые звуки зарождающейся поэзии посвящались религии, прославлению того неизвестного бытия, которое наполняло душу поэта и заставляло ее изливаться, ничего подобного не находим у арабов, хотя они и со страстною любовью предавались поэзии. Муаллаки92, которые служат для нас образцами национального арабского гения, дышат только мщением и войной, гостеприимством и щедростью. Верблюд и лошадь, меч и пустыня – вот любимые и единственные темы арабской поэзии; религиозный элемент в ней не находил места»93.
Если в области практических знаний, в области истории и поэзии арабы остались вполне верными своему характеру и являются свободными от чуждого влияния, то в области философии и религии, напротив, у них замечается сильное влияние посторонних элементов. Особенно это должно сказать относительно философии. Не достигши высокой степени развития, они не могли самостоятельно предаваться философии, которой, по самой своей природе, придавали лишь второстепенное значение. Вследствие этого посторонняя философия, а также и чужие религиозные верования легко распространялись между арабами; при этом философские мнения сливались у них с религиозными верованиями, но не обобщались в одну народную религию, а разделялись на множество мелких сект, соответственно числу арабских племен.
Еще задолго до Р.Х. в Аравию были занесены философские и религиозные идеи из Персии, Египта, Иудеи, Греции и от семитических племен неарабского происхождения, каковы адиты, эдомитяне и др. Подробности судьбы этих чуждых идей в Аравии нам неизвестны; несомненно одно, что еще до P.X. здесь существовали уже семена зороастровой религии, иудейства, культа звезд и др. Гораздо более известна история посторонних философских и религиозных элементов в Аравии после Р.Х. до появления в последней ислама. В этот период арабам приходилось сталкиваться главным образом с христианством, с его ересями языческого характера, с остатками греко-римского язычества, персидским магизмом и иудейством. Христианство стало проникать в Аравию со времен апостола Павла из Иудеи, Малой Азии, Греко-римской империи, Египта и Абиссинии94. Когда в христианстве стали появляться различные ереси и когда они подвергались церковному осуждению, то их последователи удалялись в разные языческие страны и между прочим в Аравию. Когда христианство было объявлено господствующей религией в Римской империи и язычество должно было оставлять пределы этого государства по мере распространения в нем христианства, то в лице последователей различных философско-религиозных сект язычество проникло и в Аравию; хотя и до этого времени греко-римское язычество имело возможность появиться здесь, но в описываемый период оно уже прочно утвердилось между арабами, особенно в форме неоплатонизма и пифагореизма, мистицизм которых более всего нравился им95. И вот, по словам Убисини, «более чем за сто лет до Мухаммеда десять великих сект разделяют уже Аравию: мешайюны (гуляющие) и ширахайюны (созерцающие) напоминают нам, сходством имен и согласием в некоторых пунктах их учения, обе великие философские школы Греции, во главе которых стоят Аристотель и Платон»96. Впрочем, Мадден полагает, что начало упомянутых арабских сект кроется не в греческой философии, а в учениях Египта и Индии, почему, приведя свидетельство Убисини об этих сектах, тотчас же прибавляет: «…но возвышенные понятия и благородные начала божественного Платона, или смешение истины и религии в метафизике Аристотеля не находятся в основе учения этих рационалистических и мистических сектах арабов»97. Конечно, эти последние могут иметь связь и с древними учениями Индии и Египта; но ввиду того, что они делаются известными нам лишь в V–VI в. по Р.Х., вернее признать, что эти секты выработались под преобладающим влиянием позднейших философских школ Греции – неоплатонизма, пифагореизма и др. С этим последним предположением согласен Малкольм и др.98 Магизм, – или религия, представляющая собою смесь первоначального маздеизма99 с религией магов, или религией мидян100, – мог проникнуть в Аравию еще до Р.Х. вместе с маздеизмом, потому что эта смесь произошла еще в эпоху Кира, который соединил под своей властью Древнюю Бактрию и Персию101. Но главным образом магизм проник в Аравию после того, как был вытеснен из Персии и заменен там первоначальным маздеизмом, восстановленным Ардеширом Папаканом – потомком из фамилии Сасанидов в 226 году по Р.Х.102, что падает на время войн персов с греками из-за азиатских владений.
Иудейство также проникло в Аравию еще до Р.Х. Но особенно оно усилилось здесь с рассеянием иудеев по разным странам, когда в Аравию как в более безопасную страну переселились множество бедных иудеев, что случилось уже после Р.Х.
Если философские идеи и религиозные верования персов, греков и римлян утверждались в Аравии, главным образом вследствие равнодушного отношения арабов к делам философии и религии, то иудейство находило между арабами в высшей степени благоприятную для себя почву в исконных религиозных преданиях арабов об Аврааме, Измаиле и их религии, потому что, кроме занесенных извне религиозных верований, арабы имели и свои собственные. Эти верования отличаются чрезвычайной простотой и могут быть выражены в следующих немногих пунктах: 1) Авраам есть родоначальник всех арабских племен; 2) Измаил – его сын от Агари, через которого они происходят от Авраама и который дал им свое имя (исмаилиты); 3) Алла-тагала (верховное божество) есть Бог Авраама и Измаила, которому поклонялись Авраам и Измаил и которому должны служить и их потомки. Внешняя форма арабского культа, по преданиям, состояла: а) в чествовании черного камня, который будто бы прислан был Аврааму от Бога через ангела и который помещен был Авраамом в построенном им храме Каабе и б) в хадже или в религиозном путешествии в Мекку для поклонения Каабе в священные месяцы. Наконец, в тесной связи с историей Авраама и Измаила и с самым культом арабов находится верование их в ангелов (дочерей Божиих) и джинов103. Такова сущность чисто арабских преданий в их первоначальном виде. Сначала эти предания были одинаковы у всех арабских племен и всеми почитались в равной степени. Но по мере разделения и расселения арабов по всему Аравийскому полуострову, по мере учащения сношений их с иностранными народами и с соседними племенами кушитского происхождения, вследствие крайнего невежества арабов, эти предания все более и более стали перемешиваться с чуждыми религиозными верованиями и с различными суевериями и предрассудками и, наконец, ко времени Мухаммеда, до того исказились, что если бы не родословные, то их невозможно было бы и различить среди хаоса разнообразных позднейших верований арабов. Так, сначала к верховному божеству арабы присоединили множество второстепенных богов, затем мало-помалу главный бог стушевался среди этого множества, а под влиянием астрального культа соседних племен, и второстепенные божества были отожествлены с небесными светилами, и изображениям всех таких божеств дано было равное по достоинству место в Каабе. Ко всему этому присоединились еще самые грубые суеверия, как напр., вера в магию, гадание по стрелам и т. п.104, о чем упоминает Мухаммед в Коране. Таким образом, на месте единого божества у арабов явилось грубое многобожие, и Кааба превратилась в настоящий пантеон.


