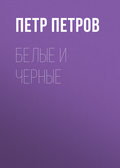П. Н. Петров
Царский суд
– Грешишь, Мисаиле, покайся!.. – отозвался как бы в сомнении, вполголоса Грозный, погружаясь в думу. При подвижности его страстной натуры редко не приводила эта дума ум его к решению, противному недавним убеждениям.
Это хорошо знали собутыльники – и погружение в думу давало им теперь большую смелость говорить что угодно, влияя на зреющее уже царское решение.
– Не только берет, да еще нахально ворует, обирая на деле, самом скверном и черном, – на гаданье! Держит при себе баб-ворожеек, и кладут им под стаканы с бобами чистое золото… и золота этого потом не оказывается… Духи, вишь, берут за труд!..
– Какая же то подлинно праведница, если ворожей при себе терпит заведомых? У нее живут, и люди к ним ходят ворожиться, бабье слепое, известно!.. – с горечью выговорил Левкий. Глаза его засверкали диким огнем ярости, нисколько не похожим на вспышку святой ревности.
– Бесчинниц таких бы изловить надо, чтобы зло отнять, – отозвался в качестве законника Никита Романович Юрьев.
– Да, так и отдаст тебе боярыня своих странниц?! Попробуй сунуться – и останешься в дураках. Где все заодно с хозяйкой, там не найдешь подчиненных. Магдалыня не так проста, чтобы себя выдать через этих баб; примись-ка за них, они тебе и откроют, какого цвету дух шепчет на ухо прорицательнице бед на царя православного… Для нас государь теперя сам начинает во все вглядываться, а для нее – после Алешки совсем ослепло царственное око.
– Мне наскучили вы своими бреднями негожими, – уже бледнея, отрывисто сказал Иоанн.
Над высоким челом государя, медленно приподнимаясь, слегка пришли в движение пряди жестких кудрей – признак ярости. Грозный вдруг взглянул на чашника – и ловкий придворный подал чашу. Из нее государь глотнул как-то глубоко и стремительно возвратил сосуд, отирая усы.
Левкий не унялся, но еще язвительнее продолжал внушение:
– Пора перестать… Явится неравно напущенный дух Алешки и испужает державного жалобой, что мы его тревожим.
Говоря это, он глядел на Грозного, кивком головы еще потребовавшего чашу. Когда пил державный, Левкий скороговоркою, вполголоса (только так, что государь все слышал) передал Мисаилу:
– Вечор один брат странный слышал в доме рекомой праведницы, что люди есть, напускающие по ветру, кому хочешь, страхи, виденья сонные и тоску, и немощь душевную, и глаз отведенье от своих шашней; напустят – и веры ни за что не дает, под чарами…
Договорить ему не дал вставший царь.
– Слышите?.. – загремел Грозный. – Чтобы про Магдалыню эту я больше не слыхал!.. Чтобы гнезда ее никогда не видел!..
А сам, нетвердо ступая от наката судорожного припадка, поднявшего дыбом кудри над челом, вышел из столовой избы.
– Сегодня так сегодня – починок! – металлическим каким-то голосом заговорил среди общего безмолвия Басманов – и все стали готовиться в наезд.
Мы оставили наехавших на дворе Магдалыниных палат.
С входной дверью с крыльца не так легко было сладить, как с воротами. Пришлось рубить дверь эту, не поддававшуюся от напора двадцати упертых каблуков. Пока рубили – за дверью поднялся робкий люд, ничего не понимая, что происходит. Весь этот люд безотчетно столпился перед теремом боярыни, где ей читали Псалтырь очередные любимицы при свете тонкой восковой свечи, оставлявшей чуть не во мраке обширную горницу.
Переполох был повсеместный, но встревоженная боярыня, думая, что пришли грабить понаслышке недобрые люди, и зная, как мало найдется у нее поживы для корыстолюбия, не принимала никаких мер. Да и что бы могли предпринять большей частью женщины против толпы вооруженных? Появление в тереме предводителей, в которых Магдалыня признала любимцев царских, навело панику на несчастную жертву… Однако указание Малюты и приказ Басманова: «Бери ее!» – не так-то легко было мгновенно исполнить. Женщины составляли хотя и слабую преграду между жертвой и палачами, но образовали бóльшую, чем можно было рассчитывать, задержку для стремившихся с ножами к обреченной. Безотчетно жертвуя собой для благодетельницы, десяток безоружных героинь не давали доступа убийцам. Самого Басманова неожиданно схватили за руки.
– Руби! – крикнул своим Басманов, остервенясь.
– Чего стал! – подстрекнул свирепый Малюта Субботу, ринувшегося вперед с мечом. – Не зевать пришли!..
Железо блеснуло и осталось на полпути. Сильная рука женщины схватила за рукоять.
От тяжести ли, налегшей на руку, медленно опустился меч, или это сделалось от звука знакомого голоса, мгновенно поразившего опричника?
– Суббота, ты это? – произнес женский голос. – С душегубцами?! Рази меня, неправедницу!
Осорьин вгляделся в лицо говорящей и узнал Таню, бледную, исхудавшую, постаревшую, но ставшую более привлекательной, чем была она в дни разгула.
– Оставь меня! Я ничего не слышу и не должен слышать, кроме приказа царского, – ответил, рванувшись, Суббота.
– Будь же проклят, душегубец!.. – проговорила Таня и сделала сверхчеловеческое усилие. Обеими руками направила она склоненный меч в себя, рванулась вперед и, падая, увлекла с мечом Субботу. В падении задели они подсвечник, свеча погасла, погрузив в полный мрак позорище убийства.
Неожиданность эта привела всех в невольный трепет, пригвоздив к месту.
Когда прибежали со светцами – Магдалыни не оказалось в тереме, и только хрипенье зарезанных женщин да лужи крови являлись свидетельством борьбы за исчезнувшую жертву.
Товарищи подняли Субботу, залитого кровью Тани. Он не вдруг пришел в себя.
– Ничего, привыкнешь! – молвил Малюта, благосклонно дав знак увести его. Загнувшийся меч не могли вытащить, так и оставили в сердце убитой.
Видя, что жертву трудно отыскать впотьмах в обширной усадьбе с бесчисленными тайниками, вожди опричные отдали приказ привезти с казенного двора скорее пять бочонков пороху. Обыскав предварительно и найдя совсем пустыми чуланы и закрома, отверстия наскоро забили досками. Разведя в верхних ярусах огонь, подложили они порох подо все четыре угла главного терема. При блеске зарева кучка губителей, забив ворота, остановилась издали наблюдать, но недолго ждала довершенья своего подвига. Сверкнуло мгновенное, как молния, полымя, раздался гул взрыва, треск, и терем «праведницы» рухнул безобразной грудой обгорелого дерева.
Иоанн проснулся от сотрясения и послал узнать, что такое.
– Гнев Божий поразил чародейку-предсказательницу!.. – донес, воротясь с наезда, Малюта Скуратов.
– Что же произошло? – спросил нетерпеливо государь.
– Огонь, говорят, сперва показался из терема Магдалыни, и зельем чародейским подняло вдруг всю усадьбу. Так что трудно разобрать теперь, где она и что с людьми сталось…
– Жаль боярыню, неосторожно, видно, с огнем обращалась!… – отозвался, погрузясь в раздумье, Грозный. – Может, и злой умысел чей? Ехать отсюда немедля в слободу: не то и нас сожгут, изменники!.. – прибавил государь с тоскливым чувством бесприютности.
VIII
Медвежья травля
Грозная пора опричнины висела непроглядной тучей над Московской Русью, заставляя каждого бояться за себя: если не по вине, то по ошибке люди гибли от усердия богатевших временщиков. Ездоки с метлой за спиной да с собачьей головой над околышем шапки были только исполнителями велений чужой, кровожадной руки, рыская то там, то здесь и являясь в земских усадьбах как молния, не разбирающая жертв. Издали заслышав топот коней и залихватскую песню, в поле на большой дороге либо даже на базаре городском в торговый день, мгновенно все бросались куда глаза глядят и входили в незнакомые дома, прося приюта. Стоять на пути проскока ватаги опричников либо заглядываться на их гарцеванье никому, ребятам даже малым, не приходило в голову – до того сильна была боязнь ожидания верной беды, одолевавшая мгновенно самых бесстрашных.
За Старицей, по дороге в Волоколамск из Осташкова, на реке Шоше стоит богатое село Ярильцево – недавно еще место подвигов ватаги, знакомой нам по неудачному закабаленью Субботы мужиком, выдававшим себя за слепца. Он сам был уроженцем деревни Шиловки, здешнего прихода. Испытав крушение надежд на поправку дел после отнятия медведей воеводой, прибрел мужик на родину, нищенствуя. Как русский человек, с горя запил, разумеется, на последние крохи; и теперь был в таком положении, что жалобная песня «Милостинку Христа ради!» была у него искренним признанием в полном отсутствии всего, что только могло быть пущено в оборот. Взывая к человеческой щедрости, пропившийся хитрец не думал делать никаких различий и крикнул: «Милостинку Христа ради!», завидя даже кучку всадников с метлами за спиной и собачьими головами на шапках. Вожак-философ не боялся и этих представителей урагана, не оставляющих ни кола ни двора там, где гостили. Да бедняку, как он думал, нечего бояться их. Все свое носил он с собой, и это все могло разве вызвать плевок разодетых боярами опричников.
Жалобный крик «Христа ради!» в устах пьяницы, еле державшегося на ногах, был так наивно смешон и составлял такую противоположность с наружностью просящего, что всадники залились звонким смехом. Скача мимо, ездоки приставляли к лицу ладони и показывали длинный нос мужику, сами продолжая хохотать.
– Прямые кромешники! – крикнул хохотунам пьяница. – Выдают себя за царских слуг, а сами смеются безвременью людей, ограбленных воеводами!.. – резал, не успокаиваясь, пьяница.
– Какими воеводами? Кто ограблен? – благосклонно стал спрашивать, должно быть, нáбольший ватаги насмешников, ехавший поодаль.
– Кого грабили, гришь? А хочь бы меня! Вор-воевода, князец Ванько Шуйской в Новагороде… Медведей отнял – себе взял!.. Чтобы подавиться ему, собаке, моим куском… последним.
– Суббота! – крикнул набольший. – Поспрошай-ко этого мужичка… Медвежья охота тебе доверена…
Один из крайних всадников с неохотой поворотил коня и не торопясь подъехал к ругавшемуся, бывшему вожаку, держа наготове здоровый арапник.
Допрос заявителя претензии на князя Шуйского продолжал Суббота недолго. Спросы бывшего хозяина его, после того как допросчик и ответчик друг друга признали, были напрасны.
– Я знаю его, все вправду было так, как пересказывает он… – отозвался Суббота нáбольшему. – Нужно время выбрать да государю донесть, каких важных мишуков про себя таит воевода, забрав на царя-государя.
– А мишуки важные впрямь?.. – счел за нужное высказать набольший, добавив – Можно бы и усердие показать тебе – надежу государя потешить.
– Такие звери были, государь, у нас, – отозвался вслушавшийся вожак, – што, право слово, люди не всяки таковы разумливы бывают. И што с ими Суббота откалывал!.. Коли пересказывать стать – веры не дадут!
– Вправду, Суббота, так было?
– Бывало-таки!.. Плясывали и мы с мишуками да с марьюшками, хошь бы и с людьми пришлось – так не обсмеяли бы…
«Вот и новую потеху державному предоставим!» – про себя проговорил набольший повечеру, как въезжали в Тверь опричники.
В Твери был на ту пору Иван Васильевич, подбираясь под братца, князя Владимира, да все побаиваясь, чтобы самого ворог попрежде не подкосил каким ни на есть угощеньем, через бояр ласковых, на чествованье да на радостях.
Переходя от робости к гневу, и наоборот, сменяя пыл злобы внезапным наплывом неотвратимого ужаса, Иван Грозный в Твери то запирался один, бросаясь перед налоем на колени и горячо принимаясь молиться, то садился после молитвы, задумывался и, мало-помалу представляя себя жертвой мрачных козней, приходил в ярость, а выходя в переднюю палату, отдавал какое-либо строгое приказание. Ярость гневливого усиливалась, когда не находил он на своем бессменном посту внутреннюю стражу.
Часто выходил государь из спальни своей в этот вечер, но особенно не выказывал гнева, видя всех на местах своих, в полной готовности на посылку либо в разъезд. В бытность государя в слободе заведен был порядок, чтобы воротившиеся ко двору тотчас являлись налицо и без повеления не уходили из передней палаты или с крыльца. Докладывать о приехавших никто не смел, а коли государь заприметит – сам спросит. Яковлев, сойдя с коня, вошел в переднюю палату и сел подле дневальных спальников, а Суббота, как заурядный опричник, остановился у дверей со стражниками.
В палате было тихо. Так тихо, что слышно жужжанье шальной какой-то мухи, неведомо как спозаранку ожившей, хотя весна еще не начиналась. Уныло горели сальники, только наполовину выделяя из мрака фигуры сидевших и стоявших на дневанье. Скрипнула дверь на переходе из царской спальни – и на пороге палаты показался Иван Васильевич, побледневший и, как видно, не владевший собой от душевной тревоги.
– Ну-тка, молодцы, кто горазд из вас теперь прогнать от нас тоску-безвременье?
– Сказку изволишь повелеть… аль иным чем ни на есть потешить? – отозвался, встав с лавки, Яковлев.
– Вместо сказки потешной рассказывай свою, нонеш-ную, приезжий!.. – велел государь, как бы обрадованный появлением нового лица. – Ступай ко мне.
И любимец, оглядев не без самодовольства присутствующих, скрылся вслед за державным на переходе в спальню.
Что происходило там за стеною – никто не смел подслушивать. Донесение Яковлева длилось, однако, долго. Оно, должно быть, вызвало полное удовольствие владыки, более не выходившего, стало быть, не ощущавшего гнева и не поддававшегося более страху. Уже перед утром вышел Яковлев. Отпустил на покой приехавших с ним, послал к государю стольников и мигнул Субботе остаться.
– Государю пожелалось видеть твои потехи с медведями. Потому повелено тебе – со стариком этим, что к нам привязался, – порадеть, поискать ученых медведей, где их отыщете. Сколько найдете – всех берите и ведите в слободу! Прихватите и веселых, разбитных малых на все руки… Сроку воротиться вам заране государь не полагает, а надеется, что ты сам не задержишься напрасно.
– Да, коли препятствия не учинят в городах воеводы.
– А указы на что? Заставят слушать, наистрожайше…
– А коли ворог попадется, можно его будет постращать маленько?.. – с невольным трепетом горячего желания мести вдруг спросил, оживившись внезапно, Суббота.
– Вдруг не советую круто прижимать, а глядя по человеку, по силе, и при случае почему не прижать, можно…
– Мне бы дьячишку мерзкого одного.
– Смотри, эти пакостники – кляузники! Осторожнее с крапивным семенем!.. Обнесут. Раскричатся.
– Не придется много раз крикнуть под медведем! – мрачно вполголоса крикнул Суббота, выходя на крыльцо. – Наша берет! – крикнул он, хлопая по плечу старого вожака, крепко заснувшего на крыльце под теплой попоной.
– Што гришь? – отвечал, не вдруг приходя в себя, проснувшийся.
– Ехать велено нам с утра, странствовать, твоих медведей выручать да у всех отбирать лучших зверей на потеху царскую.
– На нашей, значит, улице праздник теперь! – злорадно засмеялся отрезвевший уже ватажник.
Думал он тоже об отместке ворогам, и первому из них – дьяку Суете.
Общее чувство оживляло и распаляло одинаково жаждущих мщения, уполномоченных на сбор медведей, и старика, и молодого опричника. Только у каждого из них были разные побуждения к мщению, разные планы выполнить его, в груди у каждого ворочались черные думы, неспособные угомониться с утолением жажды мести разгромом ненавистников.
Старый ватажник конечную цель стремлений и достижение желаний своих видел в возврате своих медведей да в сборе правдою и неправдою как можно больше московок и новогородок. Благо есть случай и можно приступить к вымогательству, опираясь на царское поручение и полномочие. Самого дьяка-обидчика ватажник, за откуп покрупнее, готов был, пожалуй, оставить в покое. Но обобрать все, где что можно, казалось случайному исполнителю лестного поручения самым главным и необходимым в настоящем случае. Словом, он хотел себя вознаградить за чужой счет вполне и за один раз.
В мыслях Субботы горела одна жажда мщения лишившим его счастья в жизни. Никакие другие побуждения не имели места и значения прежде выполнения кары над ворогами.
С мыслями о мщении проснулся Суббота, разбуженный присланным за ним – для явки к государю перед отправлением.
В той же передней палате, теперь наполненной находившимися в Твери окольничими, думными и боярами, пришлось и нашему Субботе ждать милостивого слова державного посылателя. Никакого следа истомы или бессонницы не было на лице самодержца, когда он, уже в дорожном платье, готовясь садиться на коня, вышел в переднюю среди путевых неизменных спутников-любимцев.
При появлении государя шедший впереди него Яковлев выдвинул Субботу из ряда и со словами: «Вот он!» – указал на посылаемого.
– Ты, молодец, как узнали мы, вызываешься показать нам свою удаль да досужество? Поезжай выищи нам самых лучших медведей… Даю тебе полную мочь брать, где найдешь… Привези, покажи свое молодечество, а насчет милости нашей будь надежен… Не оставляем мы усердных слуг без возмездия… Так ведь, присные мои? – обратился Иоанн к окружающим, и вдруг лицо его стало важно и сурово. Как будто, дав час потехе, он снова вернулся к делу. – Малюта нам доносил, что готов ты для нашего царского покоя живот положить не задумываясь… Ино тебе, паря, отличие наше дадим неотменно.
Малюта, скрывавшийся в тени, теперь выступил и на ухо что-то шепнул Иоанну. Царь вдруг нахмурился и резким движением поворотил на Субботу беспокойный уже лик свой, вперив подозрительно взгляд в спокойные, но теперь вдруг загоревшиеся глаза опричника. Зашевелив губами, он хотел сказать что-то, когда Иоанн предупредил его новым обращением, с дрожью уже в голосе, получившем приметную жесткость:
– А проездом, молодец, поразведывай: не говорят ли про какие ни есть затейки наших ворогов внутренних – душегубцев заведомых… Не прослышишь ли про прием какой, с подвохом вредным обереганью нашего государского здравия от кого ни на есть?.. Родня наша как, веселится али думу думает, как бы изжить нас… – Государь с выражением вскипавшего гнева перевел дух и хриплым шепотом продолжал – Не засылают ли кого на наш путь-дорогу?.. Зелья не варят ли где про что?.. Бояре земские как у себя живут-поживают да перед нами как сбираются лицедействовать?.. Слугами усердными прикидываются, а сами…
– Грабят народ бедный, мучат своих приспешников!.. – не владея собой от прилившей к сердцу горечи памятованья прошлого, вставил стремительно Суббота, мгновенно покраснев и затем бледнея от ярости.
– Ого, какой он у нас?! Молодец! – одобрительно ответил державный, приходя в расположение.
– Ерш как есть!.. – вставил, по-своему оценя вспышку Субботы, Малюта.
– Нет, не ершом смотрит… Выше поднимай!.. – произнес государь, придвигаясь к ответившему Субботе, и прибавил – Гляди мне прямо в очи!
Устремленный взгляд Иоанна Суббота не только вынес, не опустив ресниц, но еще грознее сам глядел в глаза Грозному царю.
– Не мигнет даже! – отозвался государь, довольный этим обычным своим испытанием. – Ни искры трепета!.. Не ершом мы назовем, братец, тебя. Слыть тебе Осетром у нас в опричнине!.. Это не мелкая рыбка, в плесу ей не след болтаться, надо руки пошире развязать… С головой малый… и стоек!.. Первого вижу, чтобы взгляд наш выносил не сопривычки… Как зовут?
– Субботой.
– Ты, Суббота, впервой с нами говоришь?
– Впервой, государь, довелось…
– Знай же, я тебя не забуду… Такой взгляд – что стрела!..
Глубокое раздумье осенило теперь прикованного к месту Иоанна. Он потупился и концом острого посоха стал царапать теснину половой настилки. Потом медленно поднял еще раз глаза на Субботу, стоявшего в том же положении, с непотухшим пламенем в очах, от которого молодое лицо получило ужасную прелесть: смесь злобы и язвительности, хватающей за живое. Чувства эти теперь кипели в груди дождавшегося часа мщения – и разгар их не думал тухнуть, одобренный царской похвалой.
– Зверь крупный! – вырвалось у Иоанна невольно при взгляде на хваленого им опричника. – Верю, что ты сам ничего не упустишь, что следует… Не ротозей и не мямля. Ученого учить что мертвого лечить – поздно!.. Наказа поэтому давать не нужно тебе, сам смекнешь, что и как!..
– Только бы исполняли наши спешные требования… – еще раз отозвался Суббота, пользуясь остановкою в речи царской.
– Написать, это само собой! – отдал приказ комнатному дьяку Грозный и тут же прибавил, обратившись к Субботе: – Только ты сам смотри востро, не забывайся!.. Развязываю руки тебе на дело наше, царское, для опыта. Если похлебствовать станешь другим ради корысти, ответа спрошу у тебя – я!.. И не спасут тебя никакие заступы. Ступай! Делай и возвращайся, памятуя, что царское око изощряет Бог… По силе – даем силу. Воровства не терплю. Сделаешь что противное нашему веленью – сам себе судья и кара!
Субботу затрясла лихорадка при этих словах полномочия и угрозы царской. Он чуть слышно произнес, но так, что долетело до слуха чуткого юноши спальника Годунова, стоявшего с ширинкой подле Грозного: «Погибнуть – только бы отомстить!»
Грозный милостивым кивком державной головы отпустил нового любимца – как решили приближенные к царю по словам, обращенным к Субботе, и по данному прозванью, имевшему важный смысл для честолюбцев.
– Остер больно, как раз шею сломит!.. – по уходе царском решил Алексей Басманов, вздохнув как-то неловко.
Яковлев только посмотрел в сторону уходившего с верховным дьяком Субботы, подумав: «Чего доброго, в товарищи к нам затешется бывший батрак!..» Малюта Скуратов при словах Басманова изобразил князю Афанасию Вяземскому очень наглядно сдавленье руками чьей-то шеи. Ответом пригожего князя было пожатие руки кровожадному Малюте, без сомнения раньше сообщавшему ему, чья шея на очереди.
Через час с письменными полномочиями к воеводам, с достаточной суммой денег на расходы в голове десятка опричников выезжал из Твери по дороге на Ржеву-Пустую наш знакомец Суббота. На него теперь смотрели недавние товарищи как на восходящее светило и новую силу при царском дворе.
Ездоки двигались мелкой рысью, а за ними немилосердно погонял только что купленную лошадку мужичок навеселе, исправно и тепло уже одетый, напевая себе под нос и путая слова песен. Трудно было бы в этом певуне узнать отчаянного горемыку, корчившего когда-то слепца, еще не знавшего накануне, куда преклонить голову.
Десяток опричников, предводимых Субботой – пожалованным царской волей в Осетры, – много раз возвращался в Александрову слободу и дня через три-четыре снова пускался в новые разъезды, прежде чем очутился к осени в Новагороде. Говорили в слободе Неволе, что Субботу всю весну и лето отвлекали от прямого выполнения первого поручения беспрестанными ничтожными исполнениями боявшиеся нового соперника нáбольшие опричные. Вот и следили они ревниво за всяким шагом этой «крупной рыбы», как выражался царь, дававший теперь уже третий раз лично поручения, удачно ему приходимые на ум. Но всему же бывает конец, как и всевозможным отвлеченьям. Получая благодарность державного за рассеянье правдивым донесеньем душевного страха, навеваемого ворогами, в последний раз, по счастливой случайности, целых два часа беседовал с державным ночью и успел испросить неотложное повеление: доставить мишуков к Покрову. Так что он лишил ворогов своих всякой возможности засылать себя за чем другим до привоза медведей.
По дороге к Новагороду, – в прежние поездки давно уже разведав, где найти зверей, – забрал Осетр обильный улов косматых плясунов. Удалось прихватить десятка три и разгульных скоморохов. Нáбольшим над этой ватагой он поставил старика, бывшего своего хозяина, не выпускаемого из виду и довольного только наполовину своим положением. Забирать все, что хотелось, умный Осетр не давал старому загуле – и не думая, не гадая в лице его нажил тайного ворога, которому завистники-нáбольшие поручили в свою очередь разузнавать про действия Субботы. Передавать им все исправно, незаметно и потому без всякой опаски для себя взялся ватажник тем охотнее, что считал себя обиженным даже и царской милостью. В глазах завистника только перехватил будто он принадлежащее ватажнику право сорвать высочайшую улыбку приводом медведей – для него делом обычным. Умственного превосходства в своем начальнике-сопернике ватажник ни за что допустить не хотел. Так что когда вступала в грязные, немощеные новгородские слободы медвежья ватага с обозом потешных принадлежностей и тремя десятками скоморохов, непосредственный распорядитель ими уже питал к своему нáбольшему Осетру полнейшую ненависть. Выискивал он всякий случай, какой бы только представился да годился, чтобы погубить его. Суббота же – теперь более мрачный и несообщительнее, чем когда-нибудь, – с приближением так долго ожидаемого часа мести ворогам находился в тревожном состоянии. Боялся он, как бы не сделать ложного шага и не дать жертвам возможности избегнуть уготованной участи.
Въезжая в людный город, Суббота, давно не говоривший со своим ближайшим помощником, вдруг попросил его разведать тщательнее: где воевода теперь и где найти дьяка в приказе? Чтобы, прибавил многозначительно, весь отдавшийся страсти отмстить, можно было без шума дать знать себя дружкам сердечным!
– Ладно… Узнаем-ста! – с особым, дурно скрываемым оттенком злобы ответил ватажник.
Вмиг решил он сделать именно противное: если нужно – обмануть, но не допустить скрыть то, что хотелось бы мстителю покончить, как он говорил, «без шума». Так и принялся работать изворотливый старичишка, почуяв возможность втянуть в петлю неосторожного.
Узнать, где воевода, было так легко знавшему приказные порядки ватажнику. Знал он, что Субботе нужен воевода не для выполнения царского наказа, а чтобы проделать с ним какую-нибудь пакость. И как бы чувствительна ни была она для высокопоставленного лица, но, вероятно, последуй она наедине, господин воевода не посмеет жаловаться даже. А что Суббота способен был проделать прехитрую штуку, ватажник знал по собственному опыту соглашенья с дьяком о кабале. Нужно было, главное, сделать свиданье Осетра с воеводой отнюдь ни для кого не тайным. Мысль эта, однако, в ту же минуту заменила другую: нужно совсем не допустить до воеводы горячего Осетра, прежде чем сделает он какое ни есть крупное безобразие со злости. А злость эта у нетерпеливого пса, рассуждал достойный ватажник, невольно придет, когда воевода скроется на время и он, не найдя его, пустится на поиски, чего доброго, очертя голову, в бешенстве. Попытаемся так! Хлестнув сердито своего гнедка на повороте к мосту через Плотницкий ручей, старик свернул в переулок и исчез в извилинах узких улиц, сообщающихся с ним, образуя частую сеть перекрестков и проездов задворками. Пустившийся смело в эту путаницу загородей, тесовых ворот, пустырей и лачужек, приземистых, покривившихся или склонявшихся дружески к соседу, словно с ним беседуя, – ватажник знал, где чаще всего пребывает государь воевода. Из палат своих бесследно исчезал он, хотя с утра до вечера осаждали их неотвязные просители. Была одна купчиха вдова, нестарая и пригожая. В хоромах ее, близ Знаменья на бережку, дневал и ночевал теперешний воевода, все управленье предоставив, как человек военный, своим дьякам-дельцам да усердным подьячим. Несмотря на личную храбрость, беспечный воевода был трус во всех тех случаях, где приходилось ему действовать против представителей двора либо любимцев сильных земли. Вне рамок указанных нами воеводских отличий князь воевода был человеком надменным, перед слабым любившим показывать свое значение. Был он способен, если подзадорят его только, учинить и крупное бесчинство, надеясь, что легко с рук сойдет. Купчиха-любимица была заведомая взяточница, и жалоб на нее отовсюду подавалось видимо-невидимо. Только воеводская власть челобитья клала всегда под сукно. Уничтожались жалобы тотчас же, а сетования слышались не на правосудие, а только на подьяческую одну волокиту. Знала любимица, что и ввысь достигали иногда гласы вопиющих в пустыне, поэтому чутко ловила всякую весть, долетавшую от средоточия силы и людской охраны от обидчиков. О посылке опричных долетали уже слухи по въезде их в город, когда, вступив на заднее крыльцо хором, где воевода отдыхал от тяжких трудов, постучался не очень громко ватажник, хозяйку дома назвав по имени.
– Уехали по обителям, – ответила сама хозяйка из-за плеча отворившей сенной девки. – Может, и скоро будут… Зачем нужно-то?
– Князю воеводе нужно бы дать знать, что теперь наехал сюды озорной один опричник, придира и прощелыга такая… А язва, и невесть Господь подобной. Все ставит в строку. Особливо коли один на один с кем бывает – и не вздумать что всклепнет, не расчерпаешь… Так князю воеводе следует поостеречься, не показываться без товарыщей… А паче на очи не примать того безобразника да и наказать приказным людям, коли учинит какую ни на есть пакость, – не молчали бы, а постаралися бы «Разбой!» крикнуть: звать мир крещеный на помощь, а не то и в набат грохнуть… Чтобы свидетелей больше набралось да не отвертелся бы ворог, забожиться бы не мог… Меня вот с опричнины же послали надсматривать: что чинить будет непутный!.. А больно уж грозен, покуль не проучен, и царь, вишь, милостью помянул… Да недолго буйствовать, глаза откроют державному!.. А покаместа не бурлит малый, не худо бы князю воеводе схорониться куда ни на есть… Пусть скажут, выехал, а будет он ужо…
– Да князя и подлинно нет, и не у нас, и не в городе он… Взаправду на ловы съехал, позавчера еще. Ждем с часу на час… А тебя, почтенный, как звать-то будет? – продолжал голос из-за плеча сенной девки.
– Нас-то?.. Да все едино, как ни зовите… Наше дело маленькое… Мы, только обороняючи княжескую честь, надумали предостеречь от лиха… И все тут… А мы тоже с опричными едем: мишуков едем выискивать на потеху великому государю.
– Только будто за этим одним?
– Истинно так, мы едем про мишуков, а набольшему-то в десятне опричной и другое, может, что велено запримечать – про то он знает… А предъявит прямо указы о мишуках да об веселых людях, чтобы нам их забирать да с собою везть в слободу к царю.
– Спасибо, голубчик, за раченье да за труд князя от лиха отвесть… Потом придешь – государь князь тебя пожалует, доведем до сведения… А теперя нет их никого, подлинно…
Дверь захлопнулась – и на половину, довольный внушением своим, ловкий политик переехал на гнедке своем по мосту в Софийский детинец. Заехав за собор Софийский, ватажник легко отыскал выход из приказной избы и юркнул в сенцы, где двое подьячих перебранивались из-за неровного будто бы выделенья одному из них части поминка, оставленного на всю братию.
– Подавиться бы тебе, Евсей, да и Андрюхе-разбойнику моими тремя алтынами… На саван вам троим с Семеном Брыластым мои денежки!.. Может, как околевать станете, недостача будет, думалось вам, так по алтыну на рыло и прихватили… Давитесь, черти!