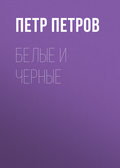П. Н. Петров
Царский суд
Он подал кошелек Субботе.
Пропуск вручен, и, освобожденный в первый раз после семи лет ссылки, Суббота поехал из Переяславля-Рязанского новой дорогой, не чуя под собой земли. Конь был здоровый и прежде вечера домчал до Рязани… Перед Москвой пришлось день потерять, пока впустили в столицу, оцепленную словно от какого нашествия. С отъездом царя Москва загрустила. Народ толпился в храмах, служил молебны. Везде уныние.
– Что такое у вас поделалось? – примеряя новый охабень и сторговав чуть не за бесценок пышный, яркоцветный кафтан, спросил Суббота у купца.
– Ты приезжий, должно быть, и не ведаешь, что царь-государь нас оставил. Посольство нарядили мы к ему… принять-то принял, да наговорил про такие новшества. А сам все грозил да сулил гнев свой. Так что у всех голова кругом идет. Что-то будет?!
– Я сам слуга царский… государь хочет только земских волостелей унять, а народу обид меньше доведется.
– Дай-то бог! Да не верится… по делу-то не то!.. Страхи великие отовсюду, завести, говорят, хочет свою стражу – самых лютых людей набирают…
Суббота крепко задумался – и в ум его запало подозрение: «Не мне ли быть в числе этих лютых-то? Кому они люты-то будут?.. Ну, как да народу… а не притеснителям?..»
Всю остальную дорогу безотвязная мысль эта не выходила из ума у Субботы.
Через Новагород Великий промчался путник – не смотря на воеводский двор, не заглянув в их храм Святой Софии, чтобы хоть на свечку подать. Вот и Ладога уже за борзым ездоком нашим. Вот и выставка, где отец жил. Открылся и дом, где пестовала мать своего Гаврюшу ненаглядного.
Вошел он на двор; привязал коня к кольцу. Из сеней выходят, разговаривая, дядя Молчанов да слуга, Ястреб, с которым он, Суббота, совершил два первых похода на Оку.
Оба остолбенели, начиная узнавать в приехавшем Субботу, давно уже записанного в помянник.
– Никак, это впрямь Суббота Захарыч? – окликнул первый слуга-соратник.
– Я… самый!
– Где пропадал, племянничек? Голубчик ты мой!
– Отец писал ко мне с Москвы… стало, узнал, где держали меня на службе.
– Да сам-то он где? Другой год о самом ни слуху ни духу.
– Все наши что?
– Ступай в избу, много пересказывать.
Гость за столом подкрепляется и засыпает вопросами дядю, начинавшего приметно стареть.
– Губного ворога твоего в живых уж нет, заели волки на озере… Нечай в тюрьме сидел, теперь выпустили на поруки.
– А семья его что?
– Ничего… Здоровы все.
– И Глаша? – не без надежды и страха выговорил Суббота.
– В Новегороде она ведь… замужем за дьяком земским…
Суббота больше ничего уже не слушал. Он только побледнел немного и крепче стиснул зубы.
Через час он выехал из отцовского дома обратно, той же дорогой.
Яковлев, приехав в Москву, нашел завербованного в опричники уже у себя в доме.
– Я ваш совсем… дайте только с ворогами рассчитаться! – бросаясь в ноги Яковлеву, вымолвил Суббота.
V
Видно, так на роду написано…
Глаша с тех самых пор, как ее привели в чувство после разлуки с нареченным, не слыхала больше имени Субботы. Не раз пыталась она заговорить с матерью, но та отвечала слезами, не произнося ни слова.
«Что же такое сделал им всем Суббота в этот несчастный день? Что мог он сделать перед самым обрученьем, когда простились мы с ним, желая одного, чтобы ночь прошла скорее? Не воротился ли он не в себе к отцу в ночь эту да не обидел ли его, не ведая сам, что говорит? Как бы отцу не догадаться, что с малым творится неподобное? С чего же так осерчать на него, чтобы вместо обрученья запереть меня с утра в светлицу и запретить выходить без приказу? Что бы все это значило?» – ломала напрасно голову Глаша, силясь разгадать несообразности несчастья, разразившегося над ней так нежданно-негаданно.
Иначе не могла она и думать, не представляя себе бури, унесшей разом все золотые надежды, с которыми сжилось и сроднилось молодое горячее сердце Глаши. Она и хотела бы перестать думать о Субботе, но это не удавалось, несмотря на желание наказать его за жестокие слова, произнесенные при расставании.
«Он тогда заведомо не в себе был, коли толковал несообразное и непонятное, о каком-то кладе, о продаже отцом души дьяволу… А главное, мог ли Суббота, ведая и сознавая смысл своих слов, отсылать от себя так жестоко свою Глашу? Ну кто разъяснит эту загадку, всем нам такую прекрушительную? Вот хоть бы и отца взять: когда бывал он таким зверем? Когда ходил он по неделям да по месяцам понурив голову, как обваренный? Что-нибудь да кроется тут неладное. Он так любит свою Глашу и так часто сам учил меня Субботу звать моим богоданным суженым, – да ни с того ни с сего сам же нарушил свое слово… Недаром все это! От того, словно Касьян взглянул на наш дом, все и опустили руки, что грех вышел непоправимый».
И Глаша ясновидением сердца разгадала, как и где завязывался узел неприглядной проделки с сердцем родителя, Нечая Севастьяныча. Действительно, со дня разрыва с домом Удачи словно потерял он голову.
«Эко помраченье нашло, прости Господи!.. – рассуждал Нечай, признаваясь только самому себе в непоправимом зле из-за спешки. – Попутал меня Бог с этими приказными кровопивцами… Поверил им и…» – Он не смел докончить, признать самому себе черное дело, им учиненное во вред испытанному другу. Успехи ходатайств в Москве не были тайной. При каждом получении вести, что хитрость дьяческая должна разорваться паутиной с дальнейшим разбором дела Удачи, Нечай больше и больше хмурился. А тут подоспел учет казначея Софийской стороны… Стал нырять делец, зная недохватку, довольно существенную, в наличном сборе по книгам оброчным. Недохватка эта была общим грехом казначея с Нечаем, получившим на время ссуду казенную на одно дельце, сулившее хороший барышок, обещанный в раздел пополам с казначеем. Дела такие делались не один раз и сходили с рук с обоюдной выгодой для ссужателя и ссужаемого. Как же было не прибегнуть в десятый, может, раз к казенной мошне, где даром лежали новогородки да ефимчики[6]? Оборот ожидался всего в две недели, да затянулась верная уплата из-за самого плевого дела – за болезнью расходчика в отъезде. Без него кто печать сорвет именную, хоть бы и с общественной казны? Сомненья никакого не остается, будет она, наутро же с приездом расходчика, ожидаемого с часу на час… да беда беду родит. Больной с усадьбы не двигается, а в Новагороде считать казначея велят. Просто хоть петлю надевай! Удача, вишь, выходил себе все желаемое, и протори и убытки. Никак, воротить принимается вдесятеро перед прошлым. И в деньгах недочета нет, и выручка в корчмах хорошая… да как к нему приступить? Не такой парень, чтобы дался на упросы да на раскаянье! Мимо Ракова чаще стал ездить и на Назее выставку снял, встречается на дороге… да не замечает словно поклонов приветливого Нечая. Подослал Коптев самого казначея софийского, с ворогом злопамятным ничего не имевшего. Выслушал, кажись, приветливо просьбу казначея Удача, даже вопросил: «Сколько надо?» Шло все как по маслу, да вдруг запинка, от себя же, вышла у казначея с ним.
– Надолго ли требуется? – спросил Удача.
– Да всего по приезду, голубчик, немца нашего колыванского – братского расходчика… Заболел, вишь, у себя, в чухонщине. Сегодня приедет – назавтра получим и с благодарностью принесу… сам готов десять раз услужить.
– Ладно, ладно… почему тебе не дать?.. Охотно!.. Скажи только, как колыванский немец с тобой в дело-то вошел?.. Ведь в подряды тебе вступать нельзя же…
– Да, чудак, тут не я своей рожей, а есть юркий молодчик на все руки… Он сорудовал… Клементью не дал и у Гришухи из-под лап вырвал верный барыш… Да барыш-то какой?! Как не поддаться искушенью!..
– А! Понимаю теперь и без слов! – вдруг сделавшись из расположенного чуть не зверем, рыкнул Удача. И захлопнул ящик с деньгами, начав уже отсчитывать просимую ссуду.
– Захар Амплеич, да что с тобой сталось? – робко спросил озадаченный казначей.
– То, что не дам тебе ни полушки… Тут Нечайка замешался… пропадай же и ты с мошенником, коли водишь с им шашни!.. Мне не след на свою голову… за посмех… из петли вынимать змея… Довольно подурачился!.. Пора подумать об отливанье мышкиных слез блудливой кошке…
Встал. Ушел и не показался больше приведенному в отчаянье казначею.
Вон он какой гусь – Удача-то! Стало, все кончено с ним. И на глаза не примет…
– С Субботой, будь он дома, может, и удалось бы повернуть дело по-старому!.. – видя тоску мужа, вздумала ночью раз посоветовать Февронья Минаевна.
За запретом она хотя и долго не смела упоминать имя прежнего жениха дочери, но теперь, выслушав от сожителя затруднительные обстоятельства казначея софийского, грозившие бедой и им, разумная советница считала и себя обязанной высказаться.
– Пролитое полно не бывает… Руками не сложишь этой свадьбы, коли парня нет, а отец знать нас не хочет!.. – отозвался чуть не в бешенстве Нечай. Перед ним воскресли вдруг теперь все низости, проделанные им, чтобы сделать разрыв полным.
– А как бы ладно было!.. И Глаша бы перестала таять…
– Девичье сердце что погода: глянет солнышко – и повеселеет. Найдем другого жениха – первого забудет со вторым… А наше дело непоправимо…
– Ну, как тебе сказать?.. Не чаю, чтоб забыла… да чтобы сдалась на улещанья какого жениха… Не та девка.
– Тем ей же хуже!.. Мужья такую дурь упрямства выколачивают… покорность одна от жены требуется.
– Только не в Глашке найдешь ты эту покорность… Хоть режь ее – она будет тебе отмалчиваться… а на уме все свое…
– Ишь какое зелье!.. Под пару Субботке, видно.
– Да, с ней добром только сделаешь!
– А какое у девки другое добро, коли неприглядность: приглянется молодец – и сдастся упрямица.
– Да был бы еще кто на примете… кому приглянуться-то?
– Увидим…
– А Субботу бы легче…
– Да коли нет его… и… нельзя…
– Я бы попыталась сама… съездить к Удаче.
Нечай задумался… Эта лазейка из явной петли ему не представлялась, а, казалось, она имела некоторую вероятность успеха; поэтому муж разрешил хозяйке-матери ехать к старому другу… еще ее куму.
Но и Февронья Минаевна брала на себя много, отваживаясь пускаться в послах для умилостивленья сурового Удачи. Боялась она сперва, что он ее не примет; но после въезда в ворота и доклада встречена была на крыльце кумом, как бы ничего не происходило между их домами. Ввел сам в светлицу. Усадил как самую дорогую, ожидаемую гостью. Спросил о здоровье детей – первой Глашеньки.
– Не больно, чай, тоскует она?
– Нельзя сказать.
– Жаль!..
– Я не могу на ее сама смотреть… Уйду и проплачу… Тает.
Удача глубоко вздохнул и погрузился в думу о Субботе: где он, сердечный? Мало-помалу пришел в себя Осорьин; пришли ему на память упросы жены – и лицо получило выражение сочувственно-трогательное. Февронья воспользовалась добрым расположением хозяина, за которым ее взор следил с удвоенною внимательностью, и поспешила вступить в речь, идя прямо к делу:
– А я, Захар Амплеич, помня твое к себе всегдашнее расположение, хочу милости просить…
– Ты, Февронья Минаевна… у меня?
– Да, голубчик, опричь тебя у меня нет человека, которому открыла бы я, кум, свою печаль да горе непоправимое.
– Печаль и горе непоправимое у тебя, Февронья Минаевна?.. Я, голубушка, ума не приложу… в чем бы я-то тут причинен оказался?
– Не ты причинен, куманек… а в беде моей ты один можешь пособить… Ты, а не кто…
– Признаться сказать, удивляешь ты, матушка, меня немало… Не знаю, что и отвечать тебе… Я, истинно говорю, не догадываюсь никак, потому что сам пальцем не двинул и не заикнулся во вред ни тебе… ни кому из ваших… Верь Господу Богу!
– Готова верить, коли говоришь и потому что не желаешь ты мне лиха – не можешь и деток моих, и бедную мою Глашеньку по миру пустить… оставить без крова…
– Разумеется, нет, да чем же я показал намерение повредить-то тебе, кума?.. Уж изволишь, за приязнь мою, клевету изводить… Тебе я совсем не хочу и не позволю нанести малейшего неудовольствия, а не только лишить крова. А вольно твоему Нечаю беспутному так спешно сунуться в шайку врагов моих да думать, что Удачу вот сейчас и связали по рукам по ногам да по миру пустили! Ведь не так же вышло… Было мне немало горя-притесненья, да правда взяла верх… Ущербу понес я малую толику, а выкрутился и ворочу помаленьку потери свои… А вот с поворотом на пользу мне дьячьих затеев да лжей, как на их поворотились да глядеть стали в оба, потребовалось перечесть софийского казначея… Человек хороший он, а из-за смутников да по милости твоего сожителя в петле словно затянут… Так это пахнет истинно правежем ему, да и Нечаю твоему… А я тут ни при чем, могу на Бога взглянуть не зазираючи совести. – И он перекрестился, взглянув на икону.
Февронья вздрогнула – и ужас невольно выразился на ее открытом лице, когда речь Удачи прямо доказала ей, что ему все известно, что бесполезны будут дальнейшие окольные рассуждения.
От проницательного Удачи не укрылось действие слов его на Февронью; но, как ей показалось, лицо кума было еще более расположено на добро и нисколько не проявляло холодности, скорее всего ожидавшейся ей при обращении к нему, тем более после неудачи подхода, ясного ему как день. Жена Нечая Севастьяныча, одаренная здоровым, прямым смыслом, в понятиях о добре и зле расходилась с мужем вполне, оставаясь доброй женой и нежной матерью. Не думая приукрашивать черноту Нечая относительно поступка с Удачей, она тем не менее захотела испытать все средства для спасения семьи от неминуемой нищеты и, собрав все свои нравственные и умственные силы, едва могла выговорить Удаче, опускаясь невольно на колени:
– Пощади меня и семью… не доводи до гибели…
Вся кровь бросилась в лицо бледному обычно Удаче. Он тяжело дышал и отдувался, словно в груди его не было места для выхода из легких воздуха. Холодный пот выступил на побледневшем лице старого Осорьина, но он молчал, выдерживая, должно быть, страшную борьбу с собой. Наконец эта борьба, должно быть, кончилась с явлением новой мысли, озарившей благодатным светом ум Удачи. В глазах его блеснула искра удовольствия, мгновенно смягчившая суровые черты сосредоточенного дельца. Он дохнул свободной грудью. Поднял Февронью и, ближе к ней придвинувшись, словно не желая, чтобы кто слышал, что будет он ей дальше говорить, спросил шепотом:
– Сколько же нужно, чтобы покрыть недочет казначея?
– Шестьдесят рублев, никак, да три рубля еще, да сколько-то алтын…
– Казначей софийский не дурной человек, рука руку моет… У меня есть свободные деньги одного приятеля, дьяка софийского теперь, Данилы Микулича Бортенева. Их я могу ссудить, кума, казначею софийскому на выручку… Только пусть эти рубли запишутся не за Нечаев счет, а за твой, Февронья Минаевна… Якобы ты дала эти деньги в рост с наддачею, на часть дочери твоей Глафиры Нечаевны, из твоего материнского наследства… Слышишь?.. Так вот, а не иначе!.. И не перечь…
– Господь да благословит тебя, кум!.. В тебе одном вижу я Божеское милосердие к себе бесталанной… Да наградит Он тебя сторицей, что воздал нам добром за зло!
Она тихо заплакала, не владея собой, от радости.
Удача ходил по светлице, давая время куме прийти в себя.
Вот она успокоилась – и он продолжал наказ:
– Только чтобы этого не знал Нечай… Сделаю я для тебя – что любила моего Субботу, как мать, да для Глаши… Не дал Бог мне видеть счастья сына. Жив ли он, не ведаю. – Удача вздохнул тяжело и прослезился. – Ни для кого другого… Пусть заяц потрусит, пока расчухает, как и что… Ты – молчок! Я уж все обделаю, повидаюсь с казначеем и возьму от него расписку на твое имя… как я тебе сказал.
И суровый делец улыбался в эту минуту, как казалось Февронье, детской проделке либо потешке своей: хоть страхом наказать низость Нечая. «Не совсем, значит, он ему противен… а, разумеется, прямо простить не след… опять непутный забудется!» – решила она.
Добрая жена в этом случае жестоко ошибалась – и если бы знала она самую суть дела, может быть, удивляясь величию доброты в Удаче, помнившем вечно оказанное ему благодеяние, нашла бы она естественным допустить в человеке с такими правилами возможность и вечного памятованья зла. Для Удачи Нечай не существовал; но зла ему желать или делать не думал отец Субботы, тосковавший о сыне и простиравший почти родственную нежность на бывшую невесту его, Глашу. Во имя Глаши и для Февроньи Минаевны сделал Осорьин это последнее одолжение, вечно помня добро, оказанное ему Данилой Микуличем, в первый раз тогда с ним сошедшимся и сделавшим все, чего просил Осорьин, уверенный в своей правоте. Не допустить разорить его ворогам было самым важным одолженьем для Удачи со стороны недельщика, – и, обделав дела свои, признательный Удача принес Бортеневу поминок. Тот не принял, отозвавшись, что ему не за что брать, что это взятка, – и ее поставит злодей Змеев в укор ему, Даниле, ища всякого случая придраться. Между тем Бортенев, оставаясь человеком небогатым, разумеется, не терял случая иметь барыш через торговые обороты, участием паями в торговых предприятиях, если бы были средства – как исстари в Новгороде делали все служилые люди по заведенному порядку, еще при вечевом укладе. Перечет софийского казначея озадачил всех новгородских дельцов, потому что к ссудам из его сундука прибегали все они в крайнем случае, не встречая отказа и посильно делясь выгодами, к обоюдной пользе. Откройся недочет – за ним сделается гласным и это нескудное выдаванье ссуд на короткие сроки. А затем как поручиться, не разъяснится ли вполне вся обходимая, окольная стезя доходов служилого класса путем торговли на счет замедляемых в пересылке денег великого государя? Наказанье уличенных тут будет меньшей долей зла, а истинным, общим наказаньем станет прекращенье этим путем всякой наживы. Вот отчего все в Новагороде повесили нос, когда прослышали о вероятности недочета у софийского казначея. Удача, как делец, не имел рассчета в прекращении из софийского сундука займов. Сам прямо вызваться на услугу для местных дельцов служилых тоже не хотел он, хотя казначея, как человека, явно погибавшего за других, и человека сговорчивого и доброго, ему не могло не быть жалко. Просьба Февроньи, заставшей врасплох Удачу, дала ему возможность разом сделать два дела: выручить казначея и выполнить долг благодарности Бортеневу. Да так еще, что ему не было возможности и отказываться за неизвестностью руки дававшего.
Угощенная и обласканная кума воротилась только вечером, даже провоженная Удачей до Ракова. На спрос супруга она, вздыхая как можно искуснее, разыграла потерпевшую неудачу. Правда, Нечаем себе уже давно представляемую. Поэтому он два раза не переспрашивал о приеме, по-своему оценя Удачу и ни на минуту не сомневаясь, что со временем Удача сдастся, а теперь упрямствует только.
Решение это если не утешило, зато дало ему случай пуститься на новые поиски денег, при спросе которых уже беззастенчиво Нечай заявлял, что размолвка с другом у него не продолжится долго. «Тогда Удача заплатит все, а он теперь богаче, сами знаете, чем был». Но и эта уловка на этот раз не залучила в мошну искателей займа ни одного алтына. Гоняясь безуспешно целую неделю, Нечай в отчаянии заехал в Новагород. Сам идти к казначею не имел он духа, а осведомиться о положении дела мог на постоялом дворе без больших затруднений.
– Ну что, приступили к счету казны-то софийской? – спросил хитрец в разговоре будто ненароком, остановив выходившего из ворот знакомого служку владычного дома, подметавшего и казенный приказ иногда.
– Как же, начали, да, надо полагать, и покончили. Владыка вчера звал московских счетчиков к себе. Казначея за обедом целовал святитель, и целовались братски счетчики на радостях, что все исправно, вишь, да в порядке нашли. Все власти были, и приказные… И мировую заключили с Удачей приказные люди… Весело таково было… Носили мы, носили жбаны с медом… нализались все исправно… Власти черноту-то сволокли, так что от бельцев не отличишь… инда лысинка лоснится… Вот тебя, Савастьяныч, не было… а уважил бы твою честь! Сколько хошь пей. Право, так.
Нечай зажмурил свои маленькие глазки, слушая этот рассказ и все еще ушам не веря: как могло сойти все благополучно? Находчивость кулака, впрочем, недолго давала ему ломать голову, и он отгадал по присутствию Удачи, откуда могла прийти благовременная помощь, – на свой пай, значит, пошел… А все же меня выручил! Исполать тебе, Нечай, обойти умеешь… Удача – наш, значит; насчет же ломанья… пусть потешится!..
Обрадованный, поспешил Нечай к софийскому казначею. Нашел его, разумеется, очень ласковым, то и дело жавшим руку ему, величая милостивцем. Хитрец, довольный оборотом дела, позволял себе принимать изъявления дружбы казначея как обычную дань своей изворотливости, полагая, что участие Удачи освободившийся от беды чиновник и не может не относить к его, Нечаеву, примиренью и забвенью прошлого с Осорьиным. Хотелось ему выспросить, положим, подробности; но прямо сделать это было неловко, не поставив себя в положение незнающего. А на окольные вопросы ссужатель не отвечал, уже подготовленный Удачей. Так ни с чем и уехал успокоенный в душе Коптев в свое Раково. Жене наврал целую кучу Нечай о свиданье и разговоре своем, будто и с Удачей в городе. Она было и поверила сперва, да, разовравшись, отважный изобретатель рассказа начал распространяться о самой сущности помощи друга не в том виде, в каком она была оказана. Февронья Минаевна захихикала, поняв, что муж все врет, потому что ей уже передана была возвратившимся после обеда в городе Удачей расписка казначея на имя Бортенева. «Ври же, дружок, сколько хочешь! – сказала себе жена. – Коли так, то я ничего тебе не открою, как сперва хотела!»
И поставила на своем.
Прошло полгода и больше. С немецкой артелью у софийского казначея счеты покончились с наживой за задержку на рубль по пяти алтын. Надобно было отдать с благодарностью Даниле его мнимую ссуду. По милости ее мог ссужатель, в памятный обед у владыки, весело опоражнивать кубки да лобызаться со своими учитывателями, смеясь в душе простоте их. Видя, что софийский дьяк не спрашивает своего пая, казначей подумал, что он желает и дальше пускать в оборот и ссуду, и рост на нее.
Еще две недели дал оборотиться его семидесяти трем рублям, двум алтынам, четырем деньгам, нажив на них по три деньги на гривну. Горячая пора была, общее безденежье, и набежал на кости еще десяток рублей. «Пора, – думает, – дать знать милостивцу, как он – дальше ли велит в рост пускать или часть барыша возьмет теперь же, на нужды свои». Выяснилось, что дьяк Бортенев просил у владыки шесть рублей на выдачу сестры в замужество. «Чудак он у нас, своих не спрашивает, а владыку беспокоит, указ дан мне: взыскать по полуденьге за рост из окладу. Ну чем платить их… пусть разрешит не брать казенного».
Подумал-подумал и пришел к дьяку.
– Здорово, Данила Микулич, как живется да можется?
– Вашими молитвами, друг сердечный… Не об указе ли владычном скажешь нам?
– Да и об нем поговорим, а главное о ваших-то… К чему же, батюшка, окладные забирать, коли твои у нас растут да прибавляются?
– Какие там мои, голубчик?
– Да те самые, благодетель, что под землишку Февроньи Минаевной, жены Нечая Коптева, дати нам изволил, напереверт, когда в петлю ровно приходило лезть при недохватке пущенных в оборот, с наездом счетчиков из Москвы… Даны тобой, благодетель, нам в те поры шестьдесят рублев и три рубля да восемнадцать алтын, четыре деньги! По расчету с немецким двором, что в Колывани… проклятые затянули шесть недель сверх трех месяцев уплату! Я, вишь, поседел как в ту пору при расплате!.. По пяти алтын на рубль накинули нехристям – охотно внесли. Ты не спрашивал, благодетель, я еще оборотец сделал, тоже по пяти алтын в две недели, а теперь на счету твоем оказывается восемьдесят рублей и четыре рубля да алтын с полуденьгою. Изволь получить.
Данила Микулич стоял как громом пораженный, не перебивая казначея. Окончив речь и подавая деньги, казначей прибавил:
– Пересчитай же, благодетель, деньги счет любят…
Бортенев вздохнул и, легонько оттолкнув кучу денег, отозвался:
– И считать нечего, деньги эти не мои… Я вам не давал… по той простой причине… что дать мне было не из чего… За душой – землишка материна да оклад софийского дьяка. Спрашивал тебя насчет ссуды из оклада…
– Слышал я и указ получил… Да что же мне прикажешь с деньгами твоими… этими-то делать?
– Говорят же тебе, Софрон Архипыч, не мои они… Кто вам давал – не знаю… Только не я.
– Да голубчик ты мой, – сказал казначей, поняв теперь, почему Удача наказывал не говорить ни под каким видом Нечаю об этой ссуде, – коли за твоим счетом состоят, тебе отрицать своего неча, коли потребность есть. Лучше эти взять, чем с окладными возиться… Да нас, говорю… нас ты пощади, милый человек, владыку, наконец. Наушники везде, что про владычни раздачи толкуют…
В душе честного Бортенева происходила борьба. Подвести владыку он не хотел, и деньги нужны были – нужны до зарезу. Почему не взять у казначея?
– Понимаю, друг… Ты так или иначе хочешь мне всучить свои деньги?.. Ну, ин быть по-твоему… коли не велик рост.
– Какой тут рост?.. Ты еще сам получишь приращенье. Сколько теперь-то возьмешь?
– А сколько можно?
– Сколько прикажешь!
– И десять рубликов можно… и с походцем?
– Да возьми хоть все восемьдесят и четыре. А я бы советовал шестьдесят оставить для переду… так двадцать в год бы наверстали – и опять бы сполна все…
– И ты не шутишь?
– Чудной ты человек, Данила Микулич, от своих денег при надобности отказываешься!
– Да видишь, я бы и занял… да у Нечая не хотелось бы… претит мне этот человек с того самого, как со Змеевым, да с Суетой вашим, да с Казариным… не тем будь помянут покойный!.. Удаче Осорьину они зло учинили. Отец, положим, выкарабкался, а сына-то потерял… Нигде ведь ни следа, ни весточки… Пропал – что сгинул… Так с таким черным человеком я сходиться не хочу.
– И не сходись с Нечаем – с женой у тебя дело; просила она… как, бишь, ее (казначей поперхнулся, вспомнив наказ благодетеля Удачи и соображая: не будет ли это нарушением его воли)… Она другого поля ягода…
– Чудное дело!.. – вскрикнул Данила. – Деньги нужны мне до зарезу… взять предлагаешь чьи-то, называя моими, вводя меня в соблазн. Я теперь так слаб, признаюсь, что, увидя деньги, два десятка рубликов беру!.. Не могу устоять… Тайна тут какая-то!.. Ничего не смыслю в ней, и в бабьих делах вообще понять я никогда ничего не мог… С матушкой посоветуюсь. Пошлю ее к этой Нечаихе… Держись только, Софрон Архипыч, ты сам, коли, греховным делом, да дал ты мне чужие деньги!..
– Ну, на этот счет спокоен будь… От века еще не было таких олухов между старыми казначеями, чтобы Фому приняли за Ерему, деньги выдавая… А я, брат, двадцать лет казначеем – и, коли придешь, в книге покажу твой счет, от которого ты, скромности ради, отрекаешься… Напрасно только осторожность напустил излишнюю!..
– Какая тут осторожность, коли чужое беру без зазрения совести, да и не спрашиваю, сколько росту платить!
– Ничего… ни росту, ни… – Он не договорил, так как голоса подходивших посторонних людей заставили Данилу Микулича поскорее опустить в карман два десятка рублей, а казначея – с поклоном уйти с остальными.
Вечером Данила рассказал матери про необычно предложенные ему деньги – и умная старушка взялась сама разузнать все, что в этом случае было особенно непонятно. По отцу своему мать Данилы Бортенева была в дальнем родстве с родительницею Февроньи Минаевны и, под благовидным предлогом приглашенья на свадьбу дочушки дальней родственницы, какой оказалась жена Нечая Коптева, поехала с ней вместе в Раково.
В путешествии ничего не могло случиться; ехали с верным человеком, да и сто верст не такая даль. Хозяина дома не было, когда повозка ввалилась на двор усадьбы Нечая Севастьяныча. Сбегалась дворня с приездом неожиданной гостьи, назвавшей хозяйку.
– Не дочушка ли Миная Филиппыча ваша милость?.. – обратилась приезжая к супруге Нечая Севастьяныча. – Я тетка родная сожительницы его, матушки вашей, Аграфены Лукинишны… была за Микулой Бортеневым… за Демоном тотчас наша землица. Сынок, Данилушка, в софийских дьяках у владыки; дочушку Серафимушку замуж отдаю. Прослышали мы: родня, никак… в Ракове. Дай, думаю, поеду, на свадьбу позвать, свои.
– Бабушка! Счастье какое!.. Матушка-покойница поминала, должно быть, и про твою честь… начинаю признавать… точно так… За честь благодарствуем!.. Пожалуйте, не обессудьте. У самой четыре дочки, прошу любить да жаловать.
И начались бесконечные припоминанья родных да свойственников. Девушек отослали в повалушу, девок выпустили из-за пялец. Остались одни родственницы, новые знакомые.
– Я до чести вашей дельце имею, – заговорила мать Данилы Микулича.
– Охотно к вам на свадьбу буду и сыночку вашему вручу расписочку, – отвечала Февронья Минаевна.
– Да сынок-от мой хотел бы не расписочку получить, а узнать, как это так должок-от ему отдают. А он ни сном ни духом не знает, за что про что получает.
– Не сомневайтесь на наш счет… Мы, бабушка, коли теперь родня будем, подавно не вороги вам, а вы нам.
– Знаю, сердце мое, смекаю. А все бы вам открыться не мешало… да лучше с сынком сами объяснитесь, как там и что. Я, чего доброго, и спутаюся… Так беспременно ждать будем… на веселье наше.
– Муженек ужо подъедет, ночуйте, бабушка, у нас и с тетушкой – коли изволите так нам приходиться…
Нечай приехал. Узнал, в чем дело: родня нашлась дальняя с дьяком софийским, с самым опасным и неподкупным изо всех дельцов новгородских. Сообразил делец, что опять Божья милость – дорога устраивается открытая и к Бортеневу, с которым случиться может столкнуться, как знать, напередки, и не один раз и не два. Пригодиться делец должен непременно, надо обойтись умненько с матерью – верное прибежище, коли беда неминучая либо что… И ну рассыпаться перед старушкой Бортеневой да величать себя ее внучком по жене, хотя Февронья сама затруднилась, как раздумалась, – да бабушкой ли, полно, звать Бортениху?
При отъезде старушка возобновила приглашенье на свадьбу.
– Приедут, приедут!.. – поспешил за жену и за дочку отвечать скороспел Нечай. – Сам привезу и сынку вашему, милостивцу, наинижайше челом побью на любви да на родственном обереганье от недругов.
Жена не перечила из расчета, нам хорошо известного. Только одного она боялась, чтобы Нечаю не брякнула новая родня про долг раньше объясненья с ней. Глашенька, приглашенная невестой, собиралась тоже и горячо хотела ехать в Новгород: авось удастся через нового родственника узнать что-нибудь про Субботу, не выходившего у нее из памяти. Мысль о возможности получить этим путем весть о милом, о котором никто ей не мог сообщить ничего дома, заставила быстрее обращаться кровь в жилах и возбудила надежды, к несчастью не исполнившиеся. Не ожидая такого исхода, Глаша повеселела и расцвела как маков цвет. Мать с отцом отнесли эту перемену к желанью Глаши развлечься на свадьбе и не думали ее удерживать дома, с другими сестрами, не выказывавшими особенной охоты ехать с матерью в город.