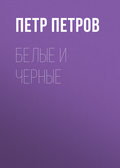П. Н. Петров
Царский суд
– Так изволишь и приговор писать?
– Почему бы нет?.. Я художеству не потатчик.
– Слушаю и выполню… Да и того мужлана не поучить нельзя же… Тако явен воровской его умысел… брать в кабалу человека не по рылу дурацкому. Судебник гласит, что сын боярской теряти вольности не должон, окромя воли великого государя… и кабала на вольного человека, кольми паче на сына боярского, в кабалу не вменится… Значит, яко противнику государевых уставов, кнут мужику-явителю кабалы заведомо воровской…
– Говорить нече!.. – молвил, зевнув, наместник. – Его, мошенника, бита и обивки вбити… да доправить за утружденье наше воеводское и приказное толикое же количество рублев, сколько поставил воровски…
– И вдвое бы не мешало, государь князь… понеже вор-грабитель людей обирает бездельной потешкой… медвежьими плясками…
– А?! – зевнув во весь рот, изрек наместник. – И медведи у него… важные? Я, братец ты мой, до мишуков охотник, надо тебе сказать.
– Так не изволишь ли, государь, медведей у мужика отобрать всех сполна?.. Почем знать… может, у такого вора и звери краденые… Не душегубец ли еще… чего доброго? Копни только его… может, откроется и невесть еще што…
– Да отправь, друг, в наш поселок, на Шелонь. А мужика посадить до выправки, как следует.
– А не то вдвое кабальной цены доправить тоже не мешает, ваша честь, княже милостивый…
– Своим чередом, – изрек наместник, отсылая дельца и растягиваясь на лавке.
Дьяк Суета не опускал воеводских повторений – и как только, не смея ослушаться, прибыли истец-ватажник, разыгрывавший слепого, и ответчик Суббота, он приступил к решению дела их по существу.
Гневно взглянул на подносившего поминок ватажника распалившийся Суета Дементьевич и, словно не узнавая своего недавнего угощателя, величественно спросил его:
– Кто ты такой, человек?
Ватажник смутился и, вытаскивая из-за пазухи кабалу, положил ее на поминок; потом, поминок подняв, сунул под него кабалу, а дьяк все смотрит и примечает. Да как крикнет на опешившего старика:
– Што ж не отвечаешь, мошенник? Что суешь!.. Давай сюда. Что там такое?
Дьяк взял поминок; вынул кабалу, прочел ее, будто в первый раз видит, да брюзгливо спросил:
– Послухи где?
– Запамятовал, хоть ты што хошь, запамятовал их привести…
– А! А это кто? – указал его милость дьяк на Субботу.
– Кабальный…
– Врешь! – резко отозвался Суббота, обнадеженный обещаниями дьяческими.
– Кто же ты такой? – спрашивал Суета.
– Сын боярский, Суббота Осорьин.
– Подьячий! – крикнул Суета. – Пиши, братец, что приведен в приказ неизвестный детина, называет себя сыном боярским Субботой Осорьиным. Где помещен… коли подлинно из боярских детей?..
– Батюшка мой, Удача Осорьин, в выставке Дятлово живет, в Спасском присуде.
– Подьячий! Запросить губного Змеева, есть ли в его губе по десятням Осорьин, где? Послать сейчас по Змеева.
– Чево посылать, он и сам налицо… – входя случайно в приказ, отозвался Змеев и, увидя Субботу, чуть не остолбенел от неожиданной радости: возможности насытить злобу над человеком, навлекшим на себя его ненависть.
– А я по тебя посылал… Вот неизвестного звания молодец приведен, якобы кабальный, этим старым плутом, а про себя говорит, будто из детей дворянских твоей губы.
– Это правда… Осорьиным, кажись, прозывается… Да спросить надо только его, где пропадал он по сей день.
– Это уже наше дело.
– А чего не мое?
– Воевода нам велел!
– Да ему какое дело?..
– Опять же не тебе знать, коли не спрашивают. Отвечай, коли спросят.
– Не мое дело это – нече и спрашивать.
– Окромя того, что требуется. Так ты вправду Осорьин! Губной признал, – обратился Суета к Субботе, а от него к ватажнику и крикнул: – Стало, ты, старый вор, кабалу явил облыжную… А в Судебнике стоит… за облыжное показание…
– Помилуй! – крикнул, грохнувшись на колени, ватажник.
– Не перечь… и то еще бить не велел… Это после будет… говори: за сколько рублев долгу писана кабала?..
– За одиннадцать… кажется.
– Вишь, мошенник… со счету даже сбиваешься, ясно, своровать хотел… Вынимай дважды одиннадцать рублев, коли в колодку не хочешь… за облыжное воровство… Подьячий, пиши. С вора доправить следует по боярскому веленью, чтобы воровать было неповадно, пени за воровскую кабалу вдвое – сиречь двадцать рублев и два рубля, бездоимочно… Каким промыслом живешь?
– Мы медведей водим.
– Много ли их?
– Пять медведей: три мишука, две медведицы.
– Изрядно. Где стоишь?
– На улице на Рогатице, у Климки у Онуфрева на дворе.
– Ярыга! Эй, кто здесь дневальный?
– Чего изволишь, я – Митюк Абросимов.
– Бери, Митюк, трех человек стрельцов да шестерых понятых, веди на Рогатицу, на двор к Климке Онуфреву. Там остановились вредные люди, поводыри, бездельные мужичонки, да с ними пять голов мишуков, самцов с самками. Всю эту самую ватагу забери и веди на воеводский двор сего часу… всех, никого не упустя, ни единого, затем што оные воры, забывши крестное целованье и диавольскую лесть излюбя, народ честной прельщают, у чернова люда деньги за посмех обирают. Слышь… все исполнишь, как повелено.
– Слышу.
– Иди же! А старого вора до взноса двадцати двух рублев на правеж поставити… и колодки наложить теперя.
– Господин честной, не тронь медведушек, трижды внесу.
– Давай.
Старик стал распоясываться и из-под пояса добыл кожаную мошну с серебром и принялся считать. Отсчитав же, положил на прилавок к казначею.
Тот стал считать и, пересчитав, взглянул на дьяка.
– Сколько внес?
– Двадцать два рубли, семь алтын, восемь денег новгородскими.
– Не трижды, как хотел…
– Видит Господь, в мошне осталось всего пять алтын…
– Ну… Бог с тобой. Подручный у ярыги дневального есть?
– Есть, – отозвался тот из-за перегородки.
– Ступай сюда! Бери старого вора теперь и сведи его в город, в колодничью избу… да скрути понадежнее, штобы не утек…
– Не боишься ты Бога, господин дьяк, коли обижаешь так бедных людей! – взвыл ватажник, которому подручный принялся руки крутить за спину.
– Не боялся бы Бога, злых людей, тебе подобных, на волю бы выпускал, а то врешь… шутишь… не уйти от нас… Веди скорее! – крикнул затем на подручного, и тот поволок старика вон из приказной избы. – Ну, брат, теперь твоя очередь, беглец!.. – кивнул Суета Субботе.
– Я не бегал никуда.
– Где же пропадал? Не слыхал, што ль, што баял губной? Отвечай же по чистой совести, не потая ничего, как на духу попу…
– Я не думал пропадать. После обиды, что нам нанес Нечай Коптев, я поехал с его двора и чуть не замерз… в этом самом кафтане и без шапки… Нашли меня монахи Корнильевой пустыни… выпользовали от немощи… А потом я к веселым попал… и от их… к ватажнику…
– Чего же перечишь, что не бегал?.. Это самое твое странствие за што же счесть, коли не за беганье от царской службы в явочную пору?
– На службу явиться мне было не про што и не с чем… без коня я, без оружия и без брони…
– И это все пропил… в непотребстве… Так ведь? Коли медвежьим вожаком стал, мужика смутил… в кабалу к ему пошел…
– Не шел я в кабалу… то чистая ложь…
– Ну, ладно… все ложь, а ты чище света солнечного… А великий государь воеводам гневное слово пишет, за ваши бездельные огурства да отлыниванья от службы, да от десятни… И то чините непригоже. И за такое воровство, указом князя, его милости наместника Новагорода Великого и Пскова и прочиих городов со пригороды, подлежишь ты, Суббота, опале государевой всемерно и кажненью тяжкому; но князь-государь наместник, вняв сродственному ему милосердию, повелением указал тебя, прогульника и вора, ради твоего исправления, отослать к полковым воеводам в Переяславль Рязанской и вписать в десятню бессрочных высылок, и быти тебе там до новой посылки.
– Да с чем мне ехать?.. Домой нужно быть и отца отыскать да срядиться к сроку…
– Отец твой в Москве теперя-тко; а пускать тебя в Белокаменную – опять сбежишь… – отозвался злой старик Змеев, нахально подсмеиваясь.
– Не в Москву, а домой, к нам.
– Да куда к вам, коли все описано на великого государя? Как Бортенев ни ершился, да пришлось уступить нам, – прихвастнул, заведомо пускаясь лгать, Змеев, обращаясь к дьяку Суете.
– Что же, у его своего и нетути теперя ничего, што ль? – спросил губного дьяк.
– Ни синя пороха… все Божье да государево.
– Ну, ин и из государева… отписного коня выдать, да пику, да саадак, да шапку железную… а сухарями сами оделим…
– Благодарствую твоей милости, – высказался тронутый Суббота, принимая за чистую монету дьячью мнимую заботливость, – куда же идти мне теперь прикажешь?
– В колодничью, известно, сведут… Сиди там до отправки.
– Да за что же сидеть-то мне там с извергами, что ожидать должны наказанья…
– И ты жди… воевода велел бить тебя батогами… до отправленья… за прогул и непотребства.
– Увидим, кто осмелится бить слугу государева!
– А хочешь?
– Не смеешь ты!.. Не удастся свинье на небо взглянуть.
– А взглянет свинья, как пить дать взглянет, – язвительно прошипел взбешенный Суета. – Эй, ярыги дневальные… батогов! Бери его… растягивай!.. – крикнул дьяк и указал на изумленного Субботу.
Тот, безоружный, приготовился к обороне, но десять человек одного, хотя и силача, осилили, повалили, сорвали кафтан и избили батогами до того, что поднять нужно было с пола надменного Осорьина, пылавшего бессильным бешенством.
– Помни же, приказная змея, по твоей милости мои побои… отплачу с лихвой.
– Пожалуй, попомним… в другой раз побольше всыплем. Сведите в колодничью поостыть горячее сердце!.. – нахально засмеялся дьяк, когда уводили избитого.
IV
Горькому – все горько
Русь при первых царях славилась уже обширностью, но сравнительно с этим и бедностью населения – скученного более только вокруг столицы, где земля была вся на счету и пашня врывалась в леса дремучие некогда. Теперь они уже начинали приметно редеть и в Московском уезде. Тяжелая нужда заставляла распахивать новины и смотреть на подмосковные усадьбы служилых людей как на главные источники прокорма для самих владельцев и многочисленной дворовой челяди их, за неимением хороших путей для подвоза. Зато в Заокской стороне, бывшем Рязанском уделе, земля почти ни во что не ценилась еще и в XVI веке. Что же было за Рязанью – о том в Москве имели самое поверхностное (чтобы не сказать, сбивчивое) понятие, считая там уже граничную черту со станищами кочевников, никогда точно не проводимую по пустыни-степи.
Во дни еще Грозного, за лесами рязанской и тульской окраин, к юго-востоку, начинались в полном смысле тамбовские степи – «дикие поля», куда долго еще соха не заходила и плуг не касался девственной почвы. По этим беспредельным луговым морям, с самой ранней весны покрывавшимся ярким ковром зелени, лишь изредка пролегали бесконечной лентой, терявшейся в дымке дали, пробитые тропки или шляхи – пути вторжения на Русь полудиких тюркских племен для грабежа и истребления. Едва справившись с ослабевшей от внутренних междоусобий кипчакской ордою, Русь уже стала высылать конные разъезды к концам этих шляхов, в степь, чтобы не быть захваченной врасплох набегом хищников. Местами высылок степных разъездов были немногие городки, срубленные по черте лесной полосы, откуда московские государи повелели, ввиду охраны своих пределов, засекать известные пути проникновения в Русь из южной степной полосы. Начав вести эти оборонительные линии засек от самой Оки-реки до болот и быстрых рек с крутыми берегами, время от времени отодвигали южнее эти заставы, останавливавшие конных ордынцев. В это время со стороны необозримых степей засечная черта обводилась рвом и валом, а в разрыве их ставились остроги с крепкими воротами, всегда оберегаемыми бессменной стражей. В засечных острогах постоянно годовала привыкшая к лишениям воинская дружина, иногда и подолгу оставляемая на месте без смены. Редкость же смен происходила от недостатка в людях, от того-то обыкновенно и назначавшихся на борьбу с трудностями всякого рода – не в очередь, а за провинность.
В одном из таких острожков за Шатью, где сидевших в бессменном бдении часто забывали даже благовременно снабжать толокном, горохом и сухарями – единственными средствами прокормления, – выпала очередь годовать и Субботе.
Жизнь кучки воинских людей на этой службе полна была не одних только лишений. К нужде человек легче привыкает в неволе. С невзгодами так же человек сживается, невысоко начиная ценить свою жизнь и обращаясь в рыцаря без страха, если не без упрека, разумея другие добродетели, а не одну личную храбрость, в которой недостатка не было и у предков, как у потомков. Острожная служба грозила участью хуже смерти: пленом и продажей в рабство в неведомой стороне – доведись только прорваться значительной толпе кочевников. Разумеется, осиливали они, когда по одному храбрецу приходилось на два, на три десятка голов басурманских. Тут уже не жди пощады и не ожидай выручки!
Явка Субботы к воеводе состоялась в обычном на эти случаи походном порядке, а назначение рода отбывания службы и места нахождения до отзыва устроилось по ходу обстоятельств. На этот же раз обстоятельства сложились для преследуемого новгородскими дельцами так невыгодно, что вполне оправдывали смысл пословицы: «На кого конь с копытом, на того и рак с клешней!» Воеводой правой руки оказался придворный белоручка, сваливший распорядок на товарищей. Попался воевода яртаульный – собака и невежда по части оценки людей, меримых им на один локоть; заеводчик[4] – еще злее и нелюдимее большака, а голов[5] понаделали они из-за посул. И вышло все дело – дрянь! Завели сперва отряды в остроги. Потом спохватились – выгнали всех в степь. О том же, что им всем делать в степи, никто не подумал.
Порыскал яртаул недели с три, в самый зной, бездельно, получил окрик от главного воеводы – и опять по щелям. Да кто где попал, там и оставайся. С Москвы перемены не шлют. Покров – на носу; припасы боевые изошли; хлеба – только корки догладывают; а на требования присылки не отвечают, не зная, как оборудовать. А тут зима ранняя нагрянула. Подножный корм прекратился – падеж на коней с голоду; и люди голодают. К Введенью прислали из Москвы наказ о роспуске. Остаток хлеба роздали по острожкам и посадили зимовать там всех бесконных. В список оставленных в самом далеком остроге включен Суббота. На всю зиму еда – один хлеб, да и того коли бы хватало. Одна путная связь жилая – на всех: грейся, как знаешь, по очереди и спи также в морозы, чередуясь, – вот его участь! И за что такая каторга, сам он не мог ответить, отличаясь все лето отвагой и исполнительностью. Почти не сходил с коня за посылками, то взад, то вперед, и все – спешно! И вот награда за усердье? Горька такая участь сама по себе; еще горше должна она была казаться в связи с бедствиями, вдруг разразившимися над головой бедняка. Но, кроме того, бедняку этому пришлось еще ни за что ни про что попасть под начало к злому олуху, проглатывать столько унижений и выпить до дна чашу ядовитых издевок, когда, видя неумение завести порядок, он этому нáбольшому высказал, что следует сделать на пользу службы государевой.
– Не меня тебе учить, молокосос!.. В пору – слушаться, коли бог убил: прислали сюда на исправление!..
Прошло три дня; нужда поступить, как предлагал Суббота, подтвердилась в присланном наказе, но голова и еще больше возненавидел его. Смешная трусость, проявленная набольшим при случайной тревоге, когда Суббота выполнил долг честно и разумно, без позволения спрятавшегося головы пустившись в разъезд, вызвала взрыв. Голова посадил подчиненного в цепи за самовольство. В яртаульной избе, взвесив по донесению мнимую тяжесть вины посаженного на цепь, велели цепи с Субботы снять, но оставили его по-прежнему в подчинении еще более обозленному голове. И дела пошли по-прежнему до нового случая придраться с его стороны. Голова, обеспеченный всем необходимым, нашел возможным колоть еще Субботу требованием приличной одежды. Знал он, что тому взять неоткуда на смену кафтана, обратившегося в лохмотья. Слово «оборванец» – как величать стал перед всеми голова Субботу – было горькой обидой при его гордости, только росшей под бременем оскорблений.
Все это должно было невольно ожесточить человека с характером, неспособного подчиняться чьей бы то ни было воле или падать духом, даже ввиду безвыходного положения и неотвратимости незаслуженного зла. Слабые характеры бывают сломлены, уничтожены и решительно втоптаны в грязь действиями верно рассчитанного преследования. Бывали поэтому чаще случаи, что жертва униженно просила наконец пощады у палачей своих, доведенная до скотского состояния ощущений одной телесной боли, с помрачением ума. Но, хотя реже, бывали, однако, явления и полного торжества жертвы, не склоняющейся до просьбы о пощаде, не желавшей ее получать униженьем и не думавшей вступать в какие бы то ни было сделки со своими преследователями.
Ничем не сокрушимую веру в достижение рано ли поздно ли возмездия врагам своим стал питать по мере ожесточения, с каждым новым месяцем тяжелой жизни в Зашатском острожке наш знакомец Суббота. Прежних порывов его и следа не было. Нужно ли прибавлять, что вместе с тем изменялись совсем и наружность и ухватки, а еще больше самый характер. В нем теперь замечали, пожалуй, презрение жизни в опасностях, хладнокровие, доходящее до бесчувствия, и ненависть к людям. Впрочем, ее, эту свою ненависть, сдерживал еще Суббота сознанием необходимости подождать, чтобы вернее нанести удар. Назовем точнее это чувство неутолимой мстительностью и прибавим, что из соединенья всех названных качеств в Зашатском острожке выковался железный характер молодого Осорьина. Черты лица его, все еще прекрасного, теперь постоянно подернуты были непроглядным мраком злобы. Когда же молния изредка просвечивала в его впалых глазах, они начинали искриться каким-то зловещим светом. Тогда облик бывшего жениха Глаши делался мрачно-прекрасен, но только прелесть эта отзывалась чем-то нечеловеческим, благодаря чуть приметной ледяной улыбке на крепко сжатых устах. Осклабленное же молодое лицо его получало выражение горькой насмешки презрения, способного уничтожать все, во что заставляют верить человечество, все, что может смягчать горечь людских утрат надеждою на лучшее, и все, ради чего забывается людьми застарелая злоба, когда слова любви оканчивают ее своею всепокрывающей теплотой.
Весна сменила зиму, не разогрев сердца Субботы. Служебные труды не заглушили ни на минуту дозревавшую жажду мщения, а новая зимовка с другим головою, в другом месте, была только повторением урока – и без того хорошо затверженного.
Так прокатилось шесть зим; бедняка совсем вывели из терпения.
И вдруг судьба его переменилась.
Ненастный день уже склонялся к вечеру, сырая изморозь вбиралась незаметно в некошное полукафтаньишко стоявшего на углу стены острожка Субботы, дневального. В одежде, мало-помалу намокавшей, начинал он чувствовать сильную дрожь по телу при каждом порыве небойкого ветерка, не разгонявшего туч. Субботе дневанья своего отбывать уж немного оставалось – всего до отданья первых ночных часов; а там с устатку можно было сладко поспать в сторожке целую ночь, без тревоги. Мысль о тепле и отдыхе – единственных наслаждениях угрюмого быта такой трущобы, как здешняя, – получала самые привлекательные краски в картине ожидания. Есть люди, конечно, неспособные развлекаться мечтами, их и не посещающими; но сколько молодых живых существ сродняется с мечтою в неприглядном житье-бытье, из которого рвутся они на простор сердцем? Суббота был из числа таких жаждущих какой бы ни было перемены положения, сделавшегося ему невыносимым. И вдруг, раньше ожидаемого, поднимается на стену сменный дневальный. Передавать ему нужно было только саадак, сбросив из-за плеч.
– Ступай к голове…
– Это зачем?
– Велено.
Ходить недалеко; закýта нáбольшего была в одной же связи с общей сторожкой. Отворил дверь с другого конца сеней – и у головы.
– Вези сего часу отписку, какому-то лешему требуется список, сколько нас здесь… В Переяслав!
– Да я со вчерашнего дня дневал на сторожке… не очередь мне посылка без роздыху.
– А за ослушанье… цепей не хочешь?
Суббота взял столб (рукопись) в досканце, зацепил крючок его за пояс, оседлал коня, оделся по-дорожному, захватил пику и выехал за острожные ворота, проклиная лихого человека.
Бойкая рысь застоявшегося коня скоро прогнала накипь неудовольствия, и когда наутро на повороте проселка блеснули на ярком солнышке главы переяславских храмов – Суббота был здоров и весел.
Стоял декабрь в половине 1564 года от создания мира. В Рязанской украйне все было тихо – и внезапный приезд царского стольника Яковлева в Переяславль был совершенной загадкой для воеводы, которому прислано повеление исполнять требования приезжего от двора. Яковлев потребовал доставки себе именной росписи наличных служивых в этой украйне, по острогам, наскоро. Этот приказ вызвал спешную доставку сообщений отовсюду. Посылка именно Субботы была, положим, допеканьем его головой, но он бы этого не сделал, если бы мог предвидеть последствия.
В воеводском доме в Переяславле с самого раннего утра из-за съезда гонцов идет необычная суета. У ворот спрашивают откуда и не задерживая пропускают. Суббота недолго ждал очереди. Впустили его в небольшую светлицу – и здесь лицом к лицу сошелся он с наводившим страх воеводой. Стольник сидел за столом, напоминавшим обилием яств и наливок пированье, а не дело государево, кольми паче спешное. Одет был царский доверенный слуга тоже щеголеватее, чем следовало бы мужчине, даже не ратному уж – и дворской белоручке.
Сверх шелковой красной сорочки надета была на Яковлеве серебряная кольчуга из такой тонкой проволоки, что сгибалась в складки. Кольчуга эта на взгляд могла бы разлететься вдребезги от удара боевого меча, для которого была уже плохой задержкой. По кольчуге пояс шел пестрый, из шемаханского шелка, и за ним, за поясом, заткнут был нож в мудреной оправе, горевшей что жар. Руки этого щеголя были как женские и на пальцах множество перстней, словно на веселье (свадьбу) собрался. Да и сапожки на ногах немецкой кожи, с золочеными подковками обличали скорее плясуна, чем делового важного сановника. Лицо его, еще молодое, не проявляло ничего замечательного, дальше врожденной хитрости. Присутствие же ее ясно выказывалось в живых, вечно бегающих, но постоянно прищуренных глазах, которые не глядели на человека прямо, а искоса чего-то в нем подозрительно присматривали. Нельзя сказать, однако, чтобы в лице Яковлева было что-нибудь злое или отталкивающее, но при первом же взгляде на него открытому нраву умного человека что-то претило до неловкости. Между тем несколько надменный говор его отличался замечательной слащавостью и видимым желаньем расположить в свою пользу того, в ком он почему-нибудь искал сочувствия.
Когда вошел Суббота, вельможный царский слуга, дочитывая какую-то смету, разводил пальцами правой руки, как будто что-то считал, левую руку заложив в мягкие кудри каштановых волос своих, то приглаживая, то поднимая их. Дочитав до конца и отложив в сторону ту смету, Яковлев протянул руку за подаваемой Субботой отпиской и, принимая ее у него, медленно смерил его глазами. Еще дольше остановил свой взгляд на привлекательном и вместе с тем злом выражении лица его.
– Откуда это?
– Из Зашатского.
– Много ли вас там?
– С сотню, кажись, а точно не знаю.
– Из годовалых ты там?
– Седьмой год уж, как меня там держат.
– Как, без смены?
– Бессменно!
– Может ли быть?
– Истину говорю.
– За что же тебя забыли?
– Говорят, за вину… а смекаю я, по клевете дьяков воеводских… с Новагорода.
– Вечно эти дьяки проклятые из-за корысти своей народу зло творят… а на государя нелюбье людское.
– До государя далеко… куда ему знать всякое людское притесненье!.. И воеводы ничего не смыслят… хоть бы и тот боярчонок, что меня усудобил.
– Видно, адашевец…
– Курлятев-князь, кажись, звали его.
– Заведомо адашевец… Да им всем карачун скоро дадут – подожди маленько.
– Уж и я бы… попадись только… что князю-воеводе нашему, новгородскому лентяю, что дьякам его, ворам заведомым… Согнул бы я их в бараний рог, бездельников… за надруганье над правдой человеческой… за слезы…
У увлекшегося Субботы на побагровевшем лице, в глазах действительно заискрилась влага. На губах доброжелательного Яковлева промелькнуло что-то похожее на растроганность – и он еще ласковее, чем сначала, выговорил:
– Подойди поближе, молодчик! Я надеюсь, ты будешь из наших. У кого накипело на ретивом от неправды земских вожаков, тот не может не желать, чтобы великий государь наш скорее дал расчет всяческим кровопийцам.
– На разделку с извергами пусть меня употребят: посмотрю я, как дьячьи рожи ухмыляться станут на битье безвинных!.. Боярин, веришь ли Господу?.. Мне одно пропадать!.. Но до пропасти довели меня злодеи-грабители. Покаюсь тебе, в чем не каялся на исповеди!
– Говори, дружок, говори… по словам твоим видно, как ты страждешь… Сам готов побожиться, что безвинно… И, стало быть, не подкупят тебя ничем… обидчики изверги… ни посулой, ни взяткой, ни ласковым словом… не склонят на пощаду… когда гнев Божий грянет на беззаконников.
– Верь Богу, боярин, никому я зла не думал делать… А мне все счастье мое помутили, душу из меня вынули, нищету нам с отцом подстроили – как я узнал из грамотки отцовой – приказные люди скопом, буесловием, лжою… Теперь отец выкоропался… Правда наша чище солнца стала… Пусть же великий государь даст мне поле с моими обидчиками! Первого назову Нечайку Коптева… другого – губнова старосту Змеева… да еще воеводу новгородского, вора и грабителя, князя Ивашку Шуйского, что мучит народ, слушая клеврета своего, дьячишку Суету… Выдаст мне государь головой этих недругов, решителей моего счастья, – я последнюю каплю крови отдам за его милость. Зло мне делал ватажник; князь Курлятев отягчил мою участь; голова Яхонтов безвинно ругался надо мной – черт с ними!.. Мне только с троими дайте, с первыми, разделаться сполна… Дьячишку – зверям кину на потраву… пусть ребрушки у его милости посчитают!.. Остальное зло забуду охотно – не ведали, что творили, окаянные! А эти трое… да дьяк Суета, мерзавец… ведали, что зло делают… и творили пакость не сумняся… совести темной не зазираючи… Вот где зло искоренить!..
– Спасибо тебе, друг Суббота, что правильно ты рассуждаешь… Проклятая прибыль доводит земских вожаков до общего притесненья людей Московского царства. Но, знаешь, друг, вся их ватага – земские-то кровопийцы – друг за друга стоят как один человек… Мирским негодяям сердобольные власти помогают… Государь возложить коли вздумает опалу на ворогов – просьбы да поруки, чуть не в тысячу голов за одного подают. Не сильна жалобница мирских – духовные приступят, и грозя и умоляя да на душу свою с государевой грех снимая. Со всем этим собором не сладить батюшке Ивану Васильевичу… хоша он, под иной час, и яр у нас – да отходчив: распустят нюни перед им, он и смилуется, чего доброго. Да теперь, вишь, беззакония грешников превзошли главу их и близок час гнева… Государь из столицы съехал… в слободу одну… Нас разослал набирать по городам верных людей, к нему в защиту. И не воротится в Москву без того, чтобы земцы не поступились ему своими обычными моленьями за опальных. Я знаю наших: трусливы как зайцы! Припугнет он их оставленьем своим, они и ото всего отступятся… Тогда все мы, ближние слуги государевы, опричь его, никому шапки ломать не будем… Выделит он нам медвежьи жеребьи из земель и угодьев своих ворогов… всем им башки поснимаем, начиная с приспешников до повелителей… Ни один адашевец не убежит, разве как голова их – сам Алешка… отравиться поторопится со страху…
– А вороги-то мои… как знать, адашевцы ли?
– Да говоришь ты, семь лет тебя здесь продержали. В ту-то пору Алешки Адашева да попа Селиверстки на всех воеводствах и во всех приказах слуги верные сидели и заодно воровали… то-то хваленое управленье было, умирать не надо… што в рот, то спасибо!
– Так… всей ватагой и кутили и мутили?..
– А то што ж… Надоели, наконец, государю их воровства – и нашлись добрые люди: намотали ему на ус… что попу простому править, выше архиреев стоя, грех великий. Преподобной Левкий прямо доказал, как вредно попа-проходима слушаться… Тут покончили, забывшись совсем, вороги царицу Настасью: опоили, вишь, утроба чуть не лопнула, а худощава была в последние годы… Отчего же раздуть, коли не от лихого зелья? Царь и прозрел в печали великой… Мы, разумеется, тешили его, как могли… чтобы забыл потерю. Отец Мисайло у черкешен выспросил, что бабы у их больно приглядные. И затребовали княжну черкесскую… подлинно, не покойнице чета, всем взяла. Да и погневливее будет, чем царица Настасья: ту не скоро, бывало, раздражишь, а эта – что зелье (порох)!.. Разом взорвет! Ей все нипочем. И царь таков же теперь… Полно ему неволить себя!..
– И доступен государь жалобщикам?
– На ворогов-то своих? Как же!.. Все выслушает – и рассудит. Ступай к нам… Я уж с десяток подобрал: молодец к молодцу… все обиженные, как ты же… Хочешь, впишу сейчас же тебя?
– Погоди, милостивец… дай в толк взять!.. Я не прочь… послужить государю.
– Не неволю!.. – проговорил Яковлев, берясь за столб, в котором вписаны были навербованные в новую службу царскую служилые люди. – Подумай, пожалуй… Я бы советовал и не думавши идти. Поверь, честь велика, и житье будет привольное, меньше ответственное, больше и справедливей ценимое… Десять сотен ведь всего набирать велено… Сотни с две уж на примете есть. Я готов тебя в свою десятню занести. Не какие-нибудь тут оборвыши вписаны… На прощанье попросился сам дворской Афанасий Иваныч, князь Вяземский. За ним есть, как и я же, два стольника, шестеро стряпчих, голова пятисотенной, князь Токмаков… Тебя за ним впишу… Из каких ты?
– Боярский сын, Суббота Осорьин… коли милость будет…
– Изволь… Потом у всех государь имена сам переменит либо прозванья свои даст.
– Только вот что, государь милостивой… прежде решенья моего пусти ты меня хоть на неделю к отцу съездить… Письмо его позапрошлое лето только получил – и сам не знаю: как он и что теперь…
– Изволь, настрочим тебе пропуск по третий день Рождества… явишься в Александровскую слободу, что за лаврой Троицкой…
– И ничего мне не будет от головы да от воеводы?..
– Как смеют… коли я пущу?! Хочешь, припишу «нигде не задерживать»?
– Будь милостив.
– Почему не исполнить твоей просьбы… изволь! Будь же к сроку готов… туда. Куда ехать-то тебе?
– В Новгородскую четь, в Водскую пятину, в Ореховский уезд…
– О! Да как далеко отсель!.. не успеешь… на Крещенье пусть срок! Буду в Москве в ту пору. Явись ко мне… в Китай, по стороне Знаменского монастыря двор мой… помни же!.. На, возьми на дорогу это…