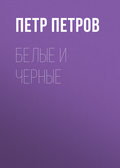П. Н. Петров
Царский суд
XIII
Развязка трагедии
Отъезд державного развязал руки бессовестным мучителям и доносчикам.
Теперь у них представление судейской трагикомедии получило два вида решений: людей состоятельных после трех-четырех вопросов и ответов обвиняли в попущенье, налагая большие окупы и ставя до уплаты на правеж, то есть под палки. Тех же, кто ничего не говорил (по неведенью, что отвечать) или в ответах повторял очень естественное «не знаю!», без всяких церемоний топили в полыньях волховских, на этот раз, к несчастью, очень больших и частых. Самая большая полынья была под середними городнями Волховского моста. Чтобы вернее бросать в нее несчастных, злодеи построили род эшафота на мосту. Взводили на него связанных по ступенькам с навязанными на шею камнями и сталкивали с высоты. Так что вода со льдом расхлестывалась высоко, принимая в ледяное лоно свою жертву, опускавшуюся прямо на дно. Случалось, однако, что жертвы боролись, выказывая сверхъестественную силу, и, разумеется, длили свою агонию, делая верную смерть более мучительной. Иногда, в борьбе за жизнь, удавалось сбросить жертве камень с шеи, и, падая, обреченный на гибель выплывал на поверхность и, держась на воде, хватался за край ледяной коры полыньи. Рассказывали даже про невероятное почти спасение некоторых и при таких обстоятельствах. Изобретательность злодеев, впрочем, не уставала придумывать средства пресечь и для таких героев способы к спасению. Кому-то из кромешников при виде выплывавших и вылезавших на лед пришла адская мысль: сесть в лодку с баграми и рогатинами да и доканчивать борьбу с топимыми. Всех ужасов, пускаемых в дело Малютой и его достойными клевретами, пересказать не хватило бы места и на десятке листов, не только в скромных наших указаниях на обстановку бедствий, при которых внезапно явился еще раз Суббота Осетр на свою погибель.
После открытия кровавого судилища Грозный не являлся уже на нем, но только получал донесения об упорстве обвиняемых.
– Заведомо заколдованы, – не забывал вставлять, говоря это, Малюта.
– Заколдованы… Все?! – с сомнением, но полный ужаса, отзывался Иоанн. – Что поделать с таким народом?
– Ничего не берет нераскаянных, и приходится угрозу выполнять нещадно.
– О! Горе мне, грешному!.. Неужели, однако, все упорствуют?.. – Иоанн знаком руки, показав на шею, сам боялся назвать рубленье голов, применяемое огулом.
Малюта понял, что ответ прямой при таком вопросе для него опасен, так как, делая вопрос, государь, видимо, не понимал всего ужаса избиения поголовного.
– Самых упорных, надежа государь, повелел ты, испытавши все средства склоненья к раскаянью… осуждать их, в страх другим…
– Однако, говоришь, все упорны?! Всех не перебьешь; вместо кары испытывали ли вы обещанье нашей милости? Велик ответ государь даст перед Богом за кару и тяжко виновных… Таких не может быть много… Остальные, может, и впрямь не знают, а не упорствуют?.. Уговаривайте!..
– Коли бы не колдовство, государь, заведомое, не посяжка на ваше, государево, здравие у злодеев – нечего бы им и запираться! А таких злодеев, кии вред царственному животу мыслят и творят, не грех карати за зло… – изворачивался Бельский, еще раз нагло обманывая своего повелителя.
– Однако так долго разыскивать виновных… Встречать упорство. Ничего не найти: ни хвостов, ни следа… Что-нибудь да не так?
– Кое-что открыли, а виноватых казнили уж.
– Это ты, Малюта, говоришь мне неправо! Показать сегодня же мне доспросные речи тех, кого вы судом своим совсем обвинили, – дал приказ решительно Грозный, так что увертываться больше нельзя было.
– Поднесу, государь, коли изволишь, велю вечером собрать…
Глубокая дума на лице царя, предвещавшая грозу, не утаилась от Бельского, видимо приунывшего. Неуверенно вышел он из палаты, направившись к Волховскому мосту. Здесь же внезапно перед глазами его разыгралась одна из тех невероятных неожиданностей, которые сбивают с толку самые обдуманные предприятия, хотя все, казалось, предусмотрено и приняты всевозможные меры, чтобы в деле не было ни колка ни задоринки.
Угрюмый выехал Суббота из обители, служившей ему лечебницей. С возвращением сознания пришла на память цель выезда из Москвы – Новагород. Власти монастырские подлинно знали, что государь и при нем Малюта Скуратов давно уже расправу чинят в волховской столице. Какая расправа эта – все молчали, и, подъезжая уже к Новагороду, Суббота только мог бы наталкиваться на действия своих товарищей кромешников, если бы внимание его не было притуплено собственным горем. Въехав на пустые почти улицы города, Осетр невольно стал чувствовать, что чинится тут что-то недоброе. Попал же на Волховский мост Суббота в то именно время, когда гнали по нем связанных плачущих женщин, которые были с грудными детьми, плохо прикрытыми лохмотьями матерей, босоногих и растерзанных. Следуя шагом по мосту почти вровень с грустной толпою жертв варварства Малюты, ничего не понимая, что бы это значило, Суббота случайно кинул взгляд на бедняжек, и показалось ему одно женское лицо знакомым. Мгновение – и в знакомом лице признает он черты Глаши, но в каком виде? Сердце перевернулось в Осетре – и он сам, не зная, что делает, крикнул:
– Глаша!
Услышав свое имя, скорбная мать обернулась, узнала говорящего, и инстинктивное чувство любви к ребенку сказалось в ее ответе:
– Спаси мое дитя – и я прощу тебе истязанье мужа, если в тебе есть крошка жалости и ты не злорадствуешь, окликая меня…
– Спасти дитя? А ты?..
– Пусть топят – конец страданьям!
– Кого топят?.. Как топят? – нерешительно, не веря еще своим ушам, переспрашивает Суббота, схватив уже за руку Глашу.
– Нас ведут топить, теперь…
– Кто? Душегубство разве позволено?.. Что вы сделали?..
– Мы – ничего, а топить ведут нас, как вчера утопили десятка три, и завтра.
– Да где я? Где мы! Ужели я опять грежу наяву?
– Не грезишь, в Новагороде мы, на мосту… И с моста здесь, по грехам людским, безвинных топят, бьют, рубят…
– Литва, что ль, здесь… Где же наши?!
– Не Литва… Свои губят… По царскому, сказано, повеленью.
– Не может быть… Ты ума рехнулась, несчастная!..
– Дал бы Бог, легче бы было!
– Что говорит эта женщина?.. Куда ведут их? – спрашивает у опричника Суббота, решительно и грозно.
Тот хотел огрызнуться, но, видя метлу и собачью голову, только оглядел с головы до ног спрашивавшего и отрезал:
– Не наше с тобой дело спрашивать… Больно любопытен!..
– Отвечай! – не владея собой и обнажив меч, крикнул Суббота дерзкому – и тот, по богатой одежде оценивая значение в опричнине, неохотно, но дал ответ:
– Топить… Известно! Да ты кто?
– Я стремянной царский Осетр. Таких разбойников, как ты, наряженных опричниками, угомонить еще могу… – И за словом рубанул его со всего плеча. Подскакал другой – и его уложил меч Субботы.
Гнавшие женщин бежали, крича: «Измена!»
Малюта побледнел, услышав внезапно этот крик, и пришпорил коня своего. Одновременно с ним, но другой стороной скакали на внезапного врага уже пятеро опричников. С одного удара он успел свалить поодиночке троих; удар четвертого попал вскользь, однако ранил руку, а пятый, споткнувшись с конем, не успел поднять меча, как потерял голову. Сзади наскакал в это мгновение Малюта и кнутовищем, безоружный, ударил по голове и между плеч ошеломленного храбреца. Но еще в горячности, Суббота быстро поворотился и размахом меча перерубил бы надвое смельчака, если бы Малюта не отскочил и не крикнул:
– Осетр!
Голос и наружность Григория Лукьяныча были слишком знакомы Осетру, чтобы он мгновенно не узнал своего начальника.
– Так-то ты своих бьешь! – крикнул Малюта.
– Разбойники заслуживают смерти.
– Не твое дело рассуждать! Как смел ты поднять руку на слуг царских?
– Царь не атаман разбойников… Суди меня Бог и государь, коли в чем винен, а невинных бить не дам, пока жив…
– Чего невинные… Кого же бьют? Ты все еще не пришел в себя…
– Нет, боярин… Хорошо слышал и Глашины слова, и подтвержденье того злодея, которого я первым убил, что этих женщин топить вели изверги!.. Не давая губить невинных, я – не разбойник, я слуга царский… верный…
– Это разберут после… Брось меч, тобой оскверненный убийством своих, и следуй за мною. Хватай его! – крикнул Малюта подоспевшим трем-четырем еще кромешникам.
– Коли своих бил этим мечом – не отдам его никому, пусть царь меня судит!.. Если скажет он, что губят народ по его указу, – поверю… А тебе, боярин, не верю! Погиб я, не спорю и защищаться не хочу… Но жизнь моя значит тут что-нибудь – правда!
И, махая мечом, Осетр не давал к себе подступить; отваги же броситься под шальной удар у опричников не хватало, видя убитых этим сумасшедшим.
– Вишь, он рехнулся, боярин! – отозвался один из опричников. – Пусть едет к царю, – подмигивая Малюте, чтобы он не перечил этой невинной лжи, чтобы провести страшного рубаку, внушительно добавил ему непрошеный советник. Когда бы он знал, как не любо явленье вновь к государю было теперь Григорию Лукьянычу!
Делать, однако же, было нечего. Пришлось уговариваться с Субботой, не выпускавшим и руку Глаши.
– Добро, пусть царь судит тебя, любимца своего, – поддакнул Малюта, не думая, чтобы горячему Осетру удалось доступить до державного. Сам он считал нужным предварительно доложить дело, чтобы еще раз колючая правда не представилась во всем неприкосновенном своем виде. Вышло не совсем так.
Суббота посадил к себе на коня связанную Глашу с дитятей. Малюта поехал вперед на Городище, за храбрецом в почтительном отдалении последовала кучка кромешников, не спуская глаз с твердо держимого меча, покрытого кровью.
Против царского дома остановился в сторонке этот кортеж, и Малюта ловко юркнул к государю с заднего крыльца.
Слух, что сделалось возмущение и привезли губителя опричников, вызвал на крыльцо толпу любопытных. Молодой Борис Годунов был одним из них. С первого взгляда он узнал стремянного – медвежьего плясуна, – и любопытство и расчет заставили царского любимца политика заговорить с учинившим побоище. Хитрый Борис выслушал дело и пошел в хоромы, тут же решив помочь виноватому, который не думал запираться и просить пощады. Это было выгодно для цели, у него уже давно обдуманной: низвергнуть Малюту, открыв глаза царю Грозному на злодейства, совершаемые его именем.
Воротиться к царевичу, нарядить его, явиться к отцу-государю с предложением выслушать лично преступника было для Бориса делом нетрудным, без потери дорогого времени.
Малюта не вдруг решился и не прямо сказал о бое опричников, подготовляя издалека царя, и уже забежал с известием о сумасшествии стремянного Осетра, который будто не помнил, за что поколол заигравшихся с ним товарищей, хотевших подразнить его медвежьею пляскою. Все шло как по маслу. Грозный сочувственно принял известие о болезни верного слуги своего. По обычаю своей подозрительности, Иоанн только прибавил:
– Разыскать, не было ли зла тут: не опоили ли его понасердку!
– Разузнаем, государь… Все разузнаем, а теперь нужно малого убрать в надежное место, не то бы дурна не учинил над собою.
Вошел сильно взволнованный царевич и прямо заговорил:
– Государь батюшка, на мосту на Софийском смута. Опричников побил стремянной наш Осетр, меч обнажив и напав на стражу…
– Это дело, Ваня, не так Малюта говорит. Осетр-то с ума сбрел… Не помнит ничего и понятия не имеет совсем. Поколол зубоскалов… Смеяться, вишь, да дразнить его вздумали.
– Малюта, государь, не то говорил тебе. Осетр Суббота во всей своей памяти в учиненном художестве не запирается, приносит полное покаяние.
– Просветление, что ль, малое нашло?.. Повидать мы его сами постараемся.
– Не просветленье малое, государь, а полное признанье… Осетр ведь перед дворец твой приведен и с поличным. Говорит все ясно и отчетливо. Сам изволишь убедиться, коли повелишь ввести его.
– Коли здесь он и может все помнить – ввести.
– Веди Осетра, Борис! – крикнул царевич, поспешив заявить, чтобы не предупредил Малюта, от этой неожиданности раскрытия лжи своей потерявшийся.
Растворились двери из сеней – и, всё продолжая держать плачущую Глашу с ребенком на руках, вошел суровый Суббота с окровавленным мечом своим и сам покрытый кровью из раны на прорубленном плече.
– Виноват, великий государь! – начал он, преклонив колени. – Побил я грабителей и разбойников, не признав в них слуг твоих, когда говорили они, что доподлинно губить вели безвинных женщин, вместе с этой Глафирой. Вины за этими женщинами быть не может, а слуги твои – не Иродовы избиватели младенцев. Меча, которым убил я извергов, не отдал я без твоей державной воли. Казни меня, виноватого, защити только безвинную. Я любил ее как невесту свою. Потеряв ее, хотел отомстить своим обидчикам. Стравил медведю ее мужа – дьяка Данилу – и за это казнь заслуживаю. За то же, что поднял меч на защиту, рассудит правота твоя: виновен ли я? Пощады не прошу и не заслуживаю, но тебе только поверю, коли сам скажешь, что с ведома твоего топят народ ежедень, с детями. Не мне верь, а этой женщине. Сам ее спроси.
И он сложил окровавленный меч к ногам царским.
– Поднявшие меч – мечом и погибнуть должны!.. – отозвался Грозный, выслушав признание Субботы. – Ты бы должен был помнить это и не быть мстителем, – прибавил государь грустно.
– Голова моя пред тобой, государь, повели казнить неключимого, но выслушай слова этой несчастной.
– Ее выслушаю, а ты приготовься! Не в катские руки отдам тебя, умрешь от руки товарища… Я не забываю, что ты – опричник! Говори всю правду – что знаешь? – обратился Грозный к отчаянной Глаше.
– Знаю, государь, я одно: неведомо за что бьют и топят у нас в Новагороде сотнями, слуги твои… Меня с другими женщинами волокли тоже топить, как попался Суббота… Признал он меня. Я попросила спасти дитя только. Он не поверил мне, что нас губить тащат… Переспросил опричника: так ли? Тот подтвердил… Суббота и ему не поверил, чтобы была на то воля твоя, государь: губить без вины всех нас. Убил прежде сказавшего, считая его не слугой твоим, а разбойником… Потом других порубил, что налетели на него. Меча не хотел отдать никому, кроме тебя. Ослушался боярина, должно быть, лютого губителя нашего. – Она глазами указала на Малюту.
– Карать государь должен за крамолу! – отозвался Грозный, но в голосе его слышались теперь не ярость и гнев, а глубокая скорбь и неуверенность. – Губить невинных мне, царю, и в мысль не приходило… Казнить без суда я не приказывал… Ведуньев каких-то, упорных, не хотевших отвечать, только я велел, за нераскаянность при дознанной виновности, покарать по Судебнику за злые дела их…
– Государь, – ответила отчаянная Глаша, – всех женщин да мужчин губили, не спрашивая, за что… Коли нечего отвечать на вопрос о деле, о коем ничего не знаешь сказать, поневоле скажешь – нет! Это ли нераскаянность и ослушанье? Это ли причина губить огулом, без разбору?
На лице Грозного выразился величайший ужас, лишивший его слов.
На всех присутствующих – исключая царевича разве да Бориса Годунова – слова Осетра и Глаши произвели разнообразные действия с общим ощущением трепета и неотразимости бедствия. Малюта, дерзкий и находчивый всегда, тут не мог владеть собой и собрать мысли. Взгляд, брошенный на него Грозным, заставил затрепетать злодея – и в сердце царя этот трепет его был самым неопровержимым доказательством страшного дела.
Иван Васильевич зашатался. Тяжело опустился на свое кресло, схватясь за голову, словно стараясь удержать ее на плечах. Действительно, от внезапного прилива крови голова у него кружилась и все предметы представлялись в движении, удерживая облики свои только до половины, наполовину же представляясь тусклыми. Тишина была так велика, что могло бы слышаться усиленное биение сердца в груди присутствующих, если бы их было не так много. Какая-то невыразимая тяжесть мешала вылетать порывам дыханья, хотя от напора его готовы были задохнуться многие. Осилив первый эту бурю ужаса, Иоанн движением руки подозвал к себе Бориса и, задыхаясь, сказал ему, указывая на Глашу:
– Возьми, чтобы была она цела и невредима… Останьтеся вы, – произнес Грозный, взяв за руку сына.
Держа за руку Глашу, Борис Годунов тихо молвил всем:
– Выйти велено.
За дверью отдал приказ взять раненого Субботу в сторожку и, как бы делая над собою величайшее усилие, шепнул на ухо подбежавшему было Малюте:
– Уезжай немедленно к войску, если жизнь дорога тебе! Уходится – дам знать… До того на глаза не попадайся.
Зверь Малюта подчинился приказу этого молокососа.
Эпилог
Сердце царево в руце Божией
Ночь. Царя Грозного узнать нельзя, так изменили его несколько часов тяжелой скорби, чуть не отчаяния. Ум страждущего монарха получил давно ему, казалось, незнакомую проницательность, при настоящем положении только усиливающую душевную боль. Сознание, что он сам, всей душой предан улучшению быта народного, служил игрушкой врагов народа, напускавших гнев державного на кого хотелось этим извергам, – было самым мучительным. Уверенность, теперь несомненная, что, напуская страхи придумываемыми восстаниями и заговорами, коварная клика злодеев набросила на самодержавного государя тень множества черных дел, самый намек на которые отвергнут был бы его совестью, умом и волею, – представляла Грозному положение его безвыходным. Тиран, мучитель безвинных, руками таких же зверей, как сам, – вот что скажут потомки, не ведавшие всей неотвратимости обмана, которым осетили умного правителя те самые, которых поставил он на замену адашевцев.
– Кто же поверит, что, выбирая в свои наперстники зверей, носивших только образ человеческий, я не удовлетворял личным побуждениям злого сердца! – горько рыдая, говорил сам с собою царь Иван Васильевич. – И будут они правы, по-своему верно ставя обвинения. Не нравились ему, скажут они, не за то адашевцы, что всем заправляли и все забрали в лапы, скрывая от царя правду и показывая, что им было нужно, набрал он им на смену таких же управителей. Значит, нужны ему были эти шайки полновластных хозяев, ворочавших его именем? Адашевцы оказались менее жестокими! Человеческая кровь нужна была. Пить и лить ее выискалась шайка кромешников. От них, говорят, никому нет пощады. А я?.. Опустил руки!.. Вижу и слышу только так и то, что мне говорят и по-своему, прежде натолковав, указывают… Где моя прозорливость была, когда сомнение щемило сердце, а ухо поддавалось лепету коварных сплетений лжи, на гибель сотням и тысячам?.. Ну, казню я своих злодеев, очистят ли меня осужденье и кара их от обвинения в потворстве с моей стороны сперва, а потом в взваливанье на них моей же вины? Их гибель, скажут, нужна была ему, чтобы себя обелить! Вот мое положение. Кому я, самодержец, скажу, что эти изверги меня так осетили, что я делал все им угодное и нужное и не подумал поверить да разузнать, подлинную ли правду мою представляют? Как царю не поверить донесенью слуг своих, когда он постоянно все и узнает из этих же донесений?! Сам собою не имею я возможности открыть подлог и ложь, если захотят меня морочить! Сознаться в невозможности видеть истину, самому сказать, что я не способен управлять? А другие, если ты откажешься, способнее, что ли, это выполнить? Сесть на престол многие поохотятся, пусти только. Выполнить царские обязанности если не сможет привычный кормчий, по человечеству несвободный от промахов, – где смочь понести их непривычному, неопытному?.. Меня – наследственного владыку – могут окружить прихлебатели, искатели милостей, первые враги государей. Не больше ли зла наведут они при случайно возвысившемся? Сердцеведец!.. Ты зришь глубину души моей! Впал я в сети коварства и перед судом Твоим не обинуюсь, за зло, моим именем учиненное, понести заслуженное мною. Верую в святость судеб Твоих! Если же перед Тобой не хочу оправдываться неведением, какая польза перед людьми сваливать мне, самодержцу, вину на презренных слуг? Карай меня, Господи, за зло, ими учиненное! Сознаю в этом правосудие: но – просвети, пока не настанет час кары! Просвети мои умственные очи, да вторично не сделаюсь орудием людской злобы… Невознаградима кровь, пролитая злодеями при моем ослеплении… По крайней мере, нужно вознаградить, кого можно и кто не предстал еще моим обвинителем перед Судьей Праведным. Эй, кто там?.. Позвать Годунова Бориса ко мне!
Любимец царевича предвидел, что уста Иоанна произнесут в порывах мрачного отчаяния, и только ожидал зова, готовый пролить бальзам утешения в душу сильно потрясенного государя. Пользуясь страхом, наведенным признаньем Субботы и словами Глаши, молодой царедворец сумел повернуть руль царской благосклонности в свою пользу – советом Малюте скрыться от гнева. Удаление этого корня зла дало возможность не тратя времени начать поправку содеянного вреда. В силу царского приказа он не только спас Глашу, но и вырвал из рук палачей еще другие жертвы их злобы и любостяжания. Опричники собраны и усажены в слободах, назначенных для постоя их. Оцепленья сняты. Ватажник с братиею сам попал в кандалы и на цепь. Поп Лука – тоже с ними вместе. Выводимые на правеж выпущены – и весть, что авось смилуется Создатель? – в этот еще вечер облетела опустошенные слободы. Напуганные только боялись верить слуху о прекращении ужасов, хотя песни кромешников смолкли.
– Что в несчастном городе? – спросил Грозный вошедшего Бориса.
– Боятся верить покуда минованью ужасов.
– О господи! Что мне делать, преступнику?..
– Во-первых, государь, благоизволишь ободрить заутра уцелевших… Разошлем, во-вторых, помянники по обителям о поминовении страдальцев и страдалиц от Малютиной злобы и коварства.
– Моленья о душах их наша обязанность, но не сильны они смыть с души моей злодейства рабов моих…
– Государь, мертвые не встают; не успел я спасти Осетра – Василий Грязной, услыша твое решение, уже покончил его.
– Впиши его, несчастного и правдивого, первого в па-мянник… Встал за правое дело и – погиб!
– На то была воля не твоя, государь, он поднял оружие на своих… По совести не могу обвинить его, но долг не дает возможности и оправдать: поднявшие меч – мечом погибнут! Он, как донесли мне, жаждал смерти, считая себя виноватым раньше за злодейство над мужем поведавшей пред тобой лютость мучителей… Грязной на зло скор, как и все опричные…
– Я бы мог простить ему ревность не по разуму… Но он не просил пощады… Да будет воля Божия! Не ворочу я к жизни его, а был честный слуга.
– Зато грабителей, государь, и притеснителей, ради корысти пустившихся на доносы, не пощадит твое правосудие.
– Делай с ними, что знаешь, и с Малютой…
– Ты не увидишь его более, государь… Разве донесу, когда сложит честно голову в бою…
– О нем не поминай мне. Приготовь все к выезду нашему, и… Собрать людей новгородских… Хочу уверить их в безопасности.
Наступило утро, в полном смысле великопостное, сырое, мозглое, туманное. Редкими кучками удалось расставить унылых, загнанных горожан, уцелевших от казней. Сами как живые тени – стояли эти остатки недавно еще зажиточного населения. В толпе их стояла и Глаша с мужем, оправившимся от травли, посматривая на мост, откуда должен явиться Грозный. «Едет, едет!» – торопливо заговорили десятники стрелецкие, равняя ряды приведенных. С приближением царского поезда оробевшие опустились инстинктивно на колени, сняв шапки.
Иоанн въехал в круг их и задрожавшим от волнения голосом заговорил:
– Ободритесь, пусть судит Бог виновника пролития крови! Зла отныне не будет никому ни единого. Узнал я поздно злодейство… Кладу на душу мою излишество наказанья, допущенное по моему неведению… Оставляю правителей справедливых, но, памятуя, что человеку сродно погрешать, я повелел о делах ваших доносить мне, прежде выполнения карательных приговоров…
Слова милости еще звучали в ушах не могших прийти в себя граждан, а царь и царевич уже скрылись из виду.