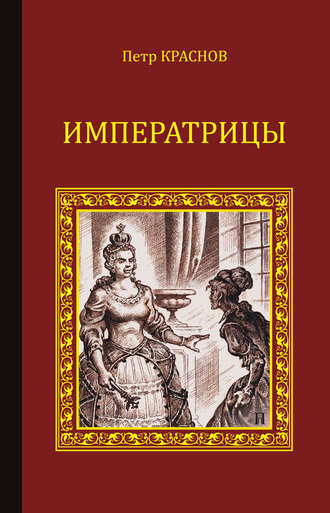
Петр Краснов
Императрицы (сборник)
XIII
Шетарди… Шетарди… Всю прошлую зиму в Петербурге только и разговора было по светским гостиным о вновь назначенном от французского короля посланнике к русскому Двору Иоахиме Жаке Тротти, маркизе де ля Шетарди. Он еще только ехал по Европе в далекую, холодную Россию, а уже различные «эхи», опережая его, бежали по Петербургу.
«Он стройный, красивый, остроумный, любезный, все женщины в Берлине, где он был раньше посланником, были без ума от него… Ему всего тридцать четыре года… Такой молодой и уже посол королевства Французского… Он едет для важных переговоров – закрепить дело Петра Великого, начатое нашим послом Куракиным, – установить вечную дружбу между Россией и Францией… Франция готова, – наконец-то! – признать за русскими государями императорский титул… Будут переговоры о торговле и свободном судоходстве… Франция обещает закрепить Ништадтский мир со шведами и быть посредницей между Швецией и Россией ввиду возникших последнее время недоразумений… Полномочный посол!.. Молод?.. Да, но как остроумен!..
И как богат!.. С ним едет двенадцать кавалеров, секретарь, восемь духовных лиц, шесть поваров под руководством шефа, знаменитого Барридо, того… знаете?.. что самого Дюваля, повара наследного принца Прусского, за пояс заткнул… При нем пятьдесят пажей, камердинеров и слуг!.. Целая армия французского шика двигалась за ним на Петербург. А какие костюмы он везет!.. Он покажет, что такое французский вкус и шик… Все модники и петиметры Петербурга с тоской думали об этом. Они заранее обегали всех портных и золотошвей, давали наказ – подглядеть, проведать, через подкупленных лиц снять фасон и сделать им первым все, как у маркиза Шетарди, лучше, богаче, чем у маркиза Шетарди… Шетарди!..
Сто тысяч!.. Вы слышите: сто тысяч бутылок тонких французских вин везет с собой новый французский посол в тщательно укупоренных ящиках, и одного шампанского – шестнадцать тысяч восемьсот бутылок!.. Вот она – Франция!.. Шампанского!.. Это тогда, когда у нас и по сию пору тосты за государыню пьют венгерским вином…»
Все эти «эхи» доходили до цесаревны и разжигали ее любопытство. Она следила за послом и, еще не видя его, интересовалась им по одним слухам. Ей подробно донесли, что 29 ноября 1739 года – еще и года этому нет – в Риге с помпой встречали маркиза де ля Шетарди. Войска и городовые роты были поставлены шпалерами до самого дома наместника и провожали поезд посланника батальным огнем. Посланник обедал у генерала Бисмарка, и об этом подробно писали в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Корреспондент из Риги, описывая празднества, не без зависти отметил: «Французский посол через три дня здесь во всяком удовольствии пробивался…»
Цесаревна знала Ригу – та умела принять и забавить… 12 декабря так же торжественно встречала посланника Нарва, 15-го посланник прибыл в Петербург.
Первый раз цесаревна встретилась с маркизом на придворном маскараде 15 марта. Этот маскарад был необычайно блестящим. Он начался в четыре часа пополудни и продолжался до пяти часов утра другого дня. Императрица Анна Иоанновна, она уже и тогда недомогала, удалилась во внутренние покои в одиннадцать часов вечера. Хозяйками маскарада остались цесаревна и Великая княжна Анна Леопольдовна.
Сейчас, качаясь и ныряя по ухабам в санном возке рядом с Ритой, цесаревна живо вспоминала этот маскарад.
Она была в голубой парадной «робе» и в голубом домино с кремовой кружевной отделкой. Маркиз де ля Шетарди оставался в маске не более четверти часа – все равно его все узнавали. Он ходил с фельдмаршалом Минихом. Герцог Курляндский предложил маркизу ужинать – был восьмой час. Шетарди уверял, что он никогда не ужинает. Миних сказал ему: «Не хотите ли по крайней мере пройти на галерею, чтобы видеть принцесс, которые уже там?..» – «Если сие доставит мне случай засвидетельствовать им мое почтение, я не премину им воспользоваться…» – сказал маркиз. Миних представил Шетарди цесаревне и Анне Леопольдовне… Великие княжны пригласили маркиза к своему столу, и цесаревна сняла голубое домино. Миних предложил Шетарди бокал шампанского, и тот просил разрешения выпить за здоровье Великих княжон. Они дали ему разрешение. Да… Удивительный это был бал!.. На нем, по приказанию императрицы, Шетарди поднесли золотую медаль, выбитую в память Ништадтского мира. «Дайте мне посмотреть медаль», – сказала по-французски Шетарди цесаревна. Как смешно округлились глаза маркиза от удивления. Она тогда не удержалась и, рассматривая медаль, толкнула локтем Анну Леопольдовну и шепнула ей по-русски: «Смотри, как он глядит на нас. Я чаю, он полагает, что мы какие-то китайские, что ли, принцессы и дикие совсем, – и сейчас же обернулась к Шетарди и сказала ему с очаровательной улыбкой: – Это на медали – мой отец, маркиз… Сия медаль в память великой войны, которой я была свидетельница, хотя и малой девочкой тогда была. Храбрость российского народа и многие изящные его дарования как по истории известны, так и на нашей памяти в последнюю войну всему свету доказаны и от самих неприятелей наших признаны… – и, обернувшись к Миниху, она сказала: – Граф, медаль сия не годится для маркиза. Посмотрите, как сбиты на ней буквы подписи».
Миних послал переменить медаль. Ужин между тем окончился, в галерее раскрыли окна. Была мартовская, точно не зимняя свежесть. Лед покрывал Неву, и от реки тянуло морозом. Дамы накинули шубы, кавалеры епанчи и смотрели, как на набережной толпился народ в ожидании фейерверка. На Неве чуть намечались какие-то постройки из шестов и дранок и казались странным кружевным видением. Цесаревна пояснила маркизу, что фейерверк устраивает итальянец Сартия.
Вдруг быстрыми, быстрыми змейками побежали желтые огоньки пороховых ниток, и запылал и засверкал бесчисленными плошками великолепный храм с колоннами. Внутри показался ярко озаренный бенгальскими огнями искусно изображенный герб Российской империи, за ним вспыхнул пьедестал со знаками победы и славы и выше их вензель императрицы, украшенный лавровыми и пальмовыми ветвями. Огненное солнце проливало на него яркий свет.
Народ шумными криками и «ахами» приветствовал каждое новое огненное явление.
Раздались пушечные выстрелы, сотни ракет, шипя, вознеслись к небу, и в нем, на невидимых столбах утвержденная, запылала цветными огнями изображенная надпись латинскими печатными буквами.
Изумленный шепот прошел по галерее:
– Что сие?.. Что оное означает?
Кто-то из академиков, за отсутствием императрицы, обращаясь к цесаревне, перевел громким голосом:
– Для славнейших твоих, монархиня, доброт – благословен твой дом пребудет в род и род.
Тогда заметила цесаревна, что все это: и роскошный праздник, и то особенное внимание, которое ей все оказывали в отсутствие императрицы, – произвело какое-то, и, вероятно, не малое, впечатление на французского посланника.
Сильнее разгорались огни фейерверка. Их огневая игра прерывалась новыми не виданными и не знаемыми в Версале картинами. Вдруг обнаружилась словно бы хрустальная галерея колонн, выточенных из льда. В ней стояли на пьедесталах статуи богини Весты с возжженной лампадой в высоко поднятой руке и Минервы с копьем и в шлеме с совиной головой. Цветные огни заиграли на них, освещая их то в розовое, то в голубое, то в зеленое. Странными видениями казались они в хладной галерее. В небе между тем все выше и выше вспыхивали одна за другой латинские надписи. Более получаса горели эти огневые картины, отражаясь во льду Невы струящимися цветными потоками. Потом закрутились, завертелись огневые колеса, брызнули желто-искорные фонтаны, ракеты понеслись в небесную темень и точно пушки взрывали швермера. В небе то сыпал огненный дождь мелких искр, то рассыпались цветные звездочки римских свечей.
При каждом удачном полете ракеты, когда, лопаясь, она рассыпалась на стайки огневых змеек, штопорами медленно спускавшихся к земле, на набережной вспыхивало и гремело восторженное народное «ура». Народ угощали от двора вином и пивом, императрица, стоя на балконе внутренних своих покоев, кидала в толпу серебряные и медные деньги…
Великолепный это был фейерверк, и цесаревна хорошо запомнила каждую мелочь этого дня своего первого знакомства с маркизом де ля Шетарди. После фейерверка цесаревна прошла во внутренние покои и там переменила свое платье, надев розовое домино, необычайно шедшее к ее свежему молодому лицу.
Во время бала играла итальянская музыка. Цесаревна много танцевала и менуэт прошла с Шетарди. Они говорили о модах, о «фонтанжах», о «корнетах», о «самарах» и «адриенах». Шетарди сказал цесаревне, что при Петербургском дворе одеваются много лучше, чем в Потсдаме, и совершенно так, как в Версале.
– Вы говорите мне льстивые слова… Все сие не больше как комплименты.
Но Шетарди ей клялся, что это правда. Цесаревне было приятно говорить с маркизом о Версале. Это было большое и больное чувство – вспоминать о короле, которого ей сватала ее мать, говорить о том, чьим прекрасным изображением в виде мальчика-рыцаря в стальных латах на воздушно-лиловато-сером фоне и теперь не без сердечной тоски она любовалась… Французский язык маркиза звучал, как самая лучшая музыка. Сама она была в ударе, была необычайно мила, приветлива, остроумна, танцевала лучше и больше всех и чувствовала себя царицей бала не только потому, что она была цесаревна и дочь того, кто завоевал весь этот прекрасный край и построил этот город, полный своеобразного очарования, но потому, что и точно она была здесь самая красивая, ловкая и изящная дама.
В два часа ночи она в третий раз сменила платье и появилась в «робе» соломенного цвета с серебряным и виолетовым гарлантовым туром по гризету, с бриллиантовым пером в волосах и огромными бриллиантовыми серьгами. В каждом платье она была все лучше и интереснее.
В пятом часу утра она уезжала. На растоптанном буром снегу горячились застоявшиеся лошади ее кареты, камер-лакей держал дверцу, гайдуки ожидали ее. Цесаревна в горностаевой шубе, покрытой желтой, богато затканной серебром парчою, с муфтой в руке, вышла на крыльцо, сопровождаемая Шетарди. Маркиз оттолкнул ее гайдука и сам подсаживал ее в карету, убирая широкую юбку ее платья. Она смеялась в муфту. В свете фонарей ее глаза были темными, прелестные ямочки играли на полных, разрумяненных жарой в зале, танцами и возбуждением успеха щеках…
Это было всего восемь месяцев тому назад. После бала она редко видела маркиза, и когда видела, то мельком, на выходах и куртагах при дворе. Императрица скоро слегла. Куртаги и ассамблеи прекратились, Бирон стал заносчив и неприятен, цесаревна заперлась в своем Смольном доме и часто уезжала то в Гостилицы, то в Перово…
Шетарди ушел в прошлое. Он был позабыт. Осталось только очень красивое и яркое воспоминание от того бала-маскарада 15 марта, когда она чувствовала себя очаровательной и когда она легко, интересно и остроумно говорила с посланником христианнейшего короля.
Сейчас этот посланник зовет ее приехать в Петербург… Видно, не одни солдаты, но и иностранные державы считают, что это она должна наследовать престол своего отца после Анны Иоанновны.
XIV
В седьмом часу утра цесаревна прибыла в Петербург, в Смольный дом. Доктор Лесток, Михайла Воронцов, Иван Шувалов и капитан Ранцев ее ожидали. Они сообщили ей, что в одиннадцать часов утра назначено всем особам первых четырех классов съезжаться в Зимний дворец.
– Ваше Высочество, – говорил ей Ранцев, – это ничего, что манифест в пользу Анны Леопольдовны у них заготовлен… Вы явитесь и сами провозгласите себя, и не правительницей, но прямо императрицей. Вас не ждут… Сие будет изрядный переворот. Они растеряются. Вся гвардия станет на вашу сторону. Правда и справедливость будут наконец восстановлены. Маркиз Шетарди говорил, что, если понадобится, шведские войска по приказу Франции займут Петербург и провозгласят вас императрицей.
– О, нет… Никогда… Только не это! – с возмущением воскликнула цесаревна. – Не простирайте вашего ко мне усердия до толь невозможных пределов.
– Ваше Высочество, – сказал Шувалов, – они до худшего доведут Россию.
– Пусть они, но не я, – сказала цесаревна и пошла переодеваться, чтобы ехать во дворец.
Она явилась и точно нежданная и совсем нежеланная. На ее свежем лице и следа не было бессонной ночи. В траурном платье, с высоко поднятой головой она прошла по зале мимо министров, сенаторов и генералов, низко склонившихся перед ней. Она не дошла еще до дверей, ведущих в аванзалу, как началось шествие. Великая княгиня Анна Леопольдовна показалась оттуда с сыном Иоанном на руках, за нею шли ее муж, фельдмаршал Миних и Остерман.
Когда цесаревна увидала на руках Анны Леопольдовны ребенка-императора в розовых, тканных золотом пеленах, на золотой подушке, увидала размягченную материнскую нежность на смущенном, покрасневшем лице Великой княгини, она почувствовала, что ничего не может предпринять и не знает, что ей нужно делать. Она низко склонилась перед ребенком как перед императором и пошла позади Анны Леопольдовны слушать, кому «до времени» прикажет младенец-император повиноваться.
Долго и невнятно вычитывал перепуганный Остерман по бумаге. Герцогиня Бевернская Анна Леопольдовна, именем своего сына, была провозглашена Великой княгиней, правительницей с титулом «Ее Величества», уполномоченной правлением страны на время малолетства ее сына. Герцог Брауншвейгский был провозглашен генералиссимусом.
По прочтении манифеста все бывшие в зале направились в церковь. О цесаревне в манифесте не упоминалось ни единым словом.
В ожидании молебствия цесаревна узнала подробности переворота. Арестованных еще вчера развезли по крепостям. Миних сам отказался от предложенного ему звания генералиссимуса, он заявил, что его желание, чтобы армия имела счастье видеть командиром отца своего государя. Его назначили первым министром, Остерман был пожалован в генерал-адмиралы и министром иностранных дел, князь Черкасский канцлером, Головин вице-камергером. Герцог Курляндский был лишен всех своих денег и имущества, даже золотых часов и платья. Только церковь при ектениях и многолетии не забывала цесаревны. Поминали царя, Великую княгиню Анну и после нее Елизавету.
Цесаревна первой подписала присягу. Что другое она могла сделать?.. Она ждала, что скажет народ. Но народ – ее народ, солдаты, на площади перед дворцом кричали «виват» правительнице Анне Леопольдовне!..
Цесаревна не была удивлена, возмущена или удручена случившимся. Напрасно покинула она уютное, теплое гнездышко в Гостилицах и холодной темной ночью мчалась в Петербург, напрасно отказалась от сладкого сна, – а как ей тогда хотелось забыться в тишине морозной, тихо шествующей зимней ночи!.. Но она уже знала, что событиями, историей никогда не двигают народы, но всегда единичные личности. Народ только способствует, а ведет кто-то один, кто знает, чего он хочет.
Теперь историю России повел Миних, как раньше ею распоряжался Бирон. Все – немцы… Цесаревна прекрасно знала историю своего отца. Сколько раз ей ее рассказывали, а многому она и сама была самовидицею. Она знала, как боролся Петр с правительницей Софьей, как расправился собственноручно с бунтовавшими стрельцами и казаками, все делал сам, во имя России и ее благоденствия и величия. И сейчас это не солдаты свергли Бирона, но Миних его арестовал, и солдаты кричали «виват» тому, кому приказал кричать Миних.
У цесаревны такого Миниха не было. Ей нужно было все сделать самой или удалиться опять на покой.
Она чувствовала, что и она, как ее отец, – «от природы не весьма храбра»… Ей надо тоже «слабость свою преодолеть рассуждением», но не могла этого сделать и отошла в сторону, стала простою наблюдательницей совершающихся событий.
Она поджидала Шетарди. Но французский посланник к ней не являлся и на придворных выходах явно избегал ее. Он, видно, был ею недоволен, не того он ожидал от нее. Вместо Шетарди зачастил в ее Смольный дом шведский посланник Нолькен. Он пространно рассказывал цесаревне, что Остерман и герцог Брауншвейгский хотят тесного союза с Австрией, что это неприятно Франции и та может оказать давление на Швецию и заставить ее объявить войну России. И выходило как-то так, что в этой войне, одинаково невыгодной для России и для Швеции, виноватой будет цесаревна.
– Если бы Ваше Высочество, – вкрадчиво и льстиво говорил Нолькен, – согласились пересмотреть некоторые пункты Ништадтского мира… Например, о Выборге… Сколь сие оскорбительно для Швеции потерять Выборг… Если бы вы, Ваше Высочество, согласились дать письменное о сем обязательство, шведские войска пошли бы к Петербургу, чтобы восстановить ваши права и провозгласить дочь Петра Великого императрицею всероссийской…
– Но при чем тут я, любезный посол, – со смущенной улыбкой говорила цесаревна. Дикими и нелепыми казались ей эти планы. Шведы, кого она с колыбели привыкла считать врагами России, блестящей победой над кем ее отец был обязан своей славой и величием, будут сажать ее на престол, отнятый у беспомощного младенца! Но возмущенное «нет» она почему-то затаивала в своем сердце и на повторные предложения посла улыбалась синими глазами и говорила с загадочной улыбкой:
– Господин посол, не будем о сем говорить. На российском престоле сидит племянник мой Иоанн Антонович. К его начальникам коллегий вам надлежит обращаться с вашими представлениями. Я верная раба своего императора.
Посол уезжал несолоно хлебавши, но к цесаревне сейчас же являлся ее лейб-медик Лесток. И его кто-то настраивал, и он говорил ей то же самое, только другими словами подводил ее к какому-то решению, необходимому для России, спасительному для нее. Он рассказывал цесаревне городские сплетни про правительницу Анну Леопольдовну. Ей надо было оборвать своего медика, прогнать его прочь, – она слушала его с пылающими щеками. – Ваше Высочество, какой позор для России творится ныне во дворце, на глазах у всех… Об сем пишут иностранные представители, и не щадят они России. В Бозе почившая государыня позволяла себе многое с герцогом Курляндским, так все-таки надо отдать справедливость, герцог умел себя держать. Ныне… Какая во дворце грязь, Ваше Высочество, вы себе и представить не можете. Намедни правительница пожаловала графу Линару из своих рук орден святой Анны и наградила его горячим поцелуем, и все сие было сделано раненько утром, в постели, в неприбранной спальне, хотя правительница и находится в полном здравии. Весь Петербург пересуживает сии «эхи».
– Молчите!
Но Лесток не умолкал, и она его слушала.
– Про Юлиану Менгден Ваше Высочество, наверно, изволили слышать. Она готова выйти замуж за графа Линара, хотя знает, что делается только ширмой для правительницы, да и сама едва ли не любовница Анны, а что спит с ней, так сие даже и не почитают нужным скрывать.
– Но молчите же! Какой, однако, злой у вас язык. Все это вздор. Графиня Менгден родственница Миниха, и так естественно, что ныне она самая приближенная к правительнице. Правда, у нее дурной характер. Она ревнует Анну к ее мужу и ссорит их. Но ведь и Антон не находка. И вял, и редкий дурак. Юлия красивая смуглянка, с большим темпераментом и помешана на благотворительности. Для добра она способна и на унижение.
– И на преступление, Ваше Высочество.
– Возможно, что и на преступление, но она предана Анне. Она не вмешивается в политику, и у нее доброе сердце.
– Слишком доброе, Ваше Высочество.
– Не нам сие судить.
– Ваше Высочество, их судит Россия… Весь мир имеет возможность видеть их поступки и наблюдать их жизнь. Она вынесена на улицу, и какая там грязь. Во дворце прорезали дверь в сад дома, где живет граф Линар, и к той двери поставили часового с приказом никого не пропускать, хотя бы то был сам герцог Брауншвейгский, супруг!.. В полках о сем говорят.
– «Эхи», Лесток. Петербург погряз в придворных «эхах».
– Ваше Высочество, они развели в спальнях Зимнего дворца клопов… А еще так недавно все иностранцы восхищались чистотой и говорили, что у нас не хуже Версаля.
– Молчи, Лесток.
Цесаревна ездила во дворец. Она искренне, материнской, не избытой любовью полюбила младенца-императора, и ей доставляло удовольствие тетешкаться с ребенком, кроме того, она не хотела потерять там своего влияния. В словах Лестока, увы, было много правды. На выходах и на приемах иностранных послов в большой аудиенц-зале правительница являлась из внутренних покоев в небрежно надетом, засаленном платье, с помятой прической и с сонными глазами. Она торопилась скорее пройти вдоль шеренги представляющихся, скрыться к себе и сидеть у окна с рукодельем, с графом Линаром и Юлией Менгден. Она любила одиночество втроем и боялась общества. Герцог Брауншвейгский, сопровождавший ее на выходах, не знал, что кому сказать, был нетверд в русском языке и только растерянно моргал глазами. Ему казалось, что все знают, что жена ему изменяет, и ему было стыдно на людях. Спасала положение цесаревна. Высокая, красивая, всегда в новом великолепном, из Парижа выписанном платье, прекрасно сшитом, точно сделанном для ее большой статной фигуры, – к ней фижмы шли необычайно, – в оригинальной, невычурной прическе, с цветком в волосах, которые редко пудрила, с улыбкой на лице, приветливая, обворожительная, она знала, кому что сказать и с кем говорить по-русски, с кем по-французски. Иногда какому-нибудь седому майору напольных полков она так сочно, красиво, кругло, по-солдатски, смачно скажет такое словцо, взятое из казарм, что тот станет с раскрытым ртом и не может дышать от умиления и восторга:
«Настоящая солдатская дочь!.. Искра Петра Великого…» А она перейдет к соседу, какому-нибудь дипломату, и заговорит с ним на таком тонком, изящном французском языке, что бедный майор навсегда обалдеет и повезет с собой в глухую провинцию рассказ о подлинной царь-девице.
Цесаревна отлично понимала, что она-то умеет войти в роль императрицы и заменить несчастную робкую правительницу. На приемах и на куртагах все глаза были устремлены на нее и только с нею и считались. Она ждала, когда к ней придет ее Миних. Императрицу Анну Иоанновну наконец торжественно погребли. В Петербурге стало вольнее и спокойнее, но жизнь все не утрясалась. Все казалось, что этот порядок только временный и что должна быть еще какая-то перемена.
19 декабря, в день рождения цесаревны, Великая княгиня Анна Леопольдовна подарила Елизавете Петровне дорогие браслеты из крупных жемчугов, император Иоанн Антонович из колыбели прислал ей золотую табакерку с русским орлом на крышке, управление соляными варницами получило приказание выдать новорожденной сорок тысяч рублей. Последнее было очень кстати. У цесаревны были долги. Она расплатилась с ними, съездила в Сестрорецк, заказала себе там новые охотничьи мушкеты, и, как только сошел снег, затоковали в Рапполовских лесах у Петергофа глухари и тетерева, – она с новыми ружьями, новыми охотничьими костюмами, с Разумовским, Воронцовым и Василием Ивановичем Чулковым, оставив в Смольном доме Лестока и дав поручение Рите следить за настроениями казарм, откланялась правительнице и умчалась в Петергоф, куда ее звал старый Бем.
Ее не удерживали. Цесаревна знала: ее ревновали и ее боялись. По приказу Антона Ульриха за ней следили.
Тем лучше и своевременнее было уехать из Петербурга. Бем по-немецки писал ей, сколько и где токует глухарей и какой позже по весне богатый ожидается лет вальдшнепов на тяге.
Если народ ее не хочет… – и не надо…







