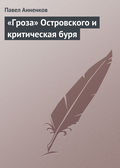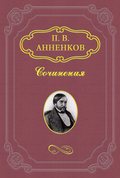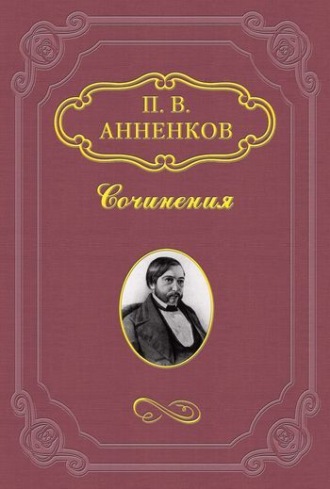
Павел Анненков
Пушкин в Александровскую эпоху
Пушкин имел еще свои особенные, личные причины заниматься определениями и объяснениями романтизма. Еще ранее публикации своей третьей поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1823), он уже был признан у нас, как критиками, так и публикой – главой романтической школы. Он никогда не помышлял о завоевании себе этого титула или этого места, но, приобретая их по общему приговору, уверовал в свое призвание вести романтическую школу в своем отечестве, как передовой ее деятель, на высоту, какая ей будет под силу. Однако же для того, чтобы удержать за собой место главы романтической школы, необходимо было уже ближе познакомиться с сущностью и внутренним смыслом учения. Это необходимо было и по другой причине: следовало отделить понятие о романтизме от таких явлений, как слезливость последователей Карамзина, как фантасмагории и чертовщина последователей Жуковского, как пережитое им самим русско-байроническое настроение, что все еще слыло за романтизмом и прикрывалось его именем. Отсюда и выходили разыскания Пушкина.
Но на пути полного и обстоятельного определения романтизма Пушкин встретил непреодолимые затруднения, которых и победить не мог.
Напрасно прибегал он к возобновлению в памяти курса французской словесности и начинал историю романтизма с провансальской поэзии и труверов, отыскивая в их рифмованных сонетах, рондо, триолетах первые семена романтизма; напрасно противопоставлял свойства и приемы народных драм Кальдерона, Шекспира и проч. придворным трагедиям псевдо-классиков времен Людовика XIV, думая уловить в этом контрасте коренные признаки и отличия обеих школ; напрасно также наконец, как бы из отчаяния в неуспехе своих изысканий, советовал просто различать классические произведения от романтических не по духу и содержанию их, ибо тогда в ином классическом создании найдутся ясные элементы романтизма, как и наоборот, а только по их формам, которые уже не могут обмануть, будучи типически различными между собою – все напрасно! Построение какой-либо эстетической теории на романтизме – не давалось ему, что он ни делал. Некоторые из этих попыток Пушкина уяснить вопрос приведены нами были в «Материалах» 1855 (см. том I Сочинений Пушкина, изд. 1855, стр. 112, 262 и след.), но многочисленные, длинные его компиляции из курсов, но значительное количество образчиков пересказать их содержание своими словами и дополнить своими комментариями, туда не попали, как черновая работа, только внешне, механически принадлежащая поэту. Можно привести в дополнение к другим примерам его собственных мнений о романтизме еще следующий отрывок из письма к П.А. Вяземскому, набросанный предварительно поэтом вчерне: «Перечитывая твои письма, – говорит Пушкин, – берет меня охота спорить… Говоря о романтизме, ты где-то пишешь, что даже стихи со времени революции имеют новый образ от А. Шенье… Никто более меня не уважает, не любит более этого поэта, но он… из классиков – классик. C'est%n imitaeur. От него пахнет Феокритом и Анакреоном. Он освобожден от итальянских concetti, и от французских antithèses, но романтизма в нем нет еще ни капли… Первые «Думы» Рылеева (последние прочел я недавно и еще не опомнился: так он вырос!) – холодны… Lavigne – школьник Вольтера – и бьется в сетях Аристотеля. Романтизма нет еще во Франции, а он-то и возродил умершую поэзию. Помни мое слово – первый поэтический гений в отечестве Буало ударится в такую свободу, что – что твои немцы! Покамест во Франции поэтов менее, чем у нас… Что до моих занятий… Роман в стихах… в роде Д. – Жуана… Первая глава кончена – тебе ее доставлю… Пишу с упоением, чего уже давно со мною не было… О печати и думать нельзя. Цензура наша так своенравна, что невозможно размерить круг своих действий: лучше и не думать».
Так нащупывали, смеем выразиться, невидимку-романтизм во всех явлениях литературы наши передовые писатели, и не могли согласиться друг с другом ни в одном выводе, хотя относительно Пушкина нельзя не сознаться, что его пророчество о близком появлении школы В. Гюго, по времени, весьма замечательно. Кстати сказать. Случайное приравнение, сделанное самим Пушкиным, Онегина к «Д.-Жуану» Байрона, было подхвачено впоследствии друзьями и послужило источником досады автора на них и объяснительной переписки с ними, как сейчас будем говорить.
Не лучше, если не хуже, были и все другие определения романтизма, исходившие от его друзей или от записных литераторов того времени. Перечет их мнений и суждений увлек бы нас слишком далеко. Скажем просто: понимание сущности романтизма не давалось русскому миру, и оно понятно, почему? В Европе романтизм был родным явлением. Корни его обретались в старой и новой истории Запада, и разгадка его явлений добывалась легко и скоро. Даже в высшем своем развитии, когда он олицетворялся титаническими характерами, в роде Рене, Манфреда, Обермана и проч., он еще отвечал только общему состоянию умов после французской революции, поднявшей все вопросы духовного и политического существования государств и оставившей большую их часть без разрешения. Каждый человек, не чуждый вовсе движения своего века, переживал с этими типами и характерами, в большей или меньшей степени, как бы собственную свою психическую историю. Он без труда находил в себе самом их безотрадный анализ, отчаянные усилия придти к какому-либо верованию и томившую их скуку. Также точно западный человек воскрешал перед собой, так сказать, свои школьные годы и не выходил из круга семейных, родственных представлений, когда из усталости и противодействия философии и рационализму убегал назад, в средние века. Влюбляться в народные поверил, предания, суеверия и сказания, умиляться перед песнями труверов и миннезенгеров, утешаться фантастическими представлениями средневековых народных масс, которые помогали им переносить тяжесть жизни – все это значило на Западе только припомнить свой ребяческий возраст, оглянуться на свое прошлое. Для западного человека романтизм был не открытием, а воспоминанием. В переработке всего средневекового материала на новый лад, люди искали там свежести чувств и тех живых верований, той пищи для фантазии и согревающей теплоты религиозных идеалов, каких им уже недоставало. При потворстве критики, которая в лице некоторых своих представителей, как одного из Шлегелей, например, и некоторых других, давала далее пример перехода из одного вероисповедания в другое для лучшего развития в себе элементов романтизма, направление сделалось под конец вредным и ретроградным в Европе. Иначе выразилось оно у нас, где, не имея значения бытового явления, приняло форму художнической теории, что составляло большую разницу.
Поводов к возникновению романтизма в его социальной и метафизической форме, представляемой героями, сейчас упомянутыми: Рене, Манфредами и проч., не существовало никаких в нашей общественной среде, так же точно, как не было данных на русской почве для процветания романтизма в смысле обновления преданий. Старая русская народная жизнь лежала еще тогда в стороне, никому неведомая и никем не исследованная: напустить на себя страстное обожание предмета, окруженного и подернутого густым мраком истории, конечно, было возможно по нужде, как мы и видели в политических наших славянолюбцах, но долго выдерживать эту роль в литературе не предстояло уже никакой возможности. Мы увидим далее, что романтизм действительно подвел Пушкина незаметно к народной поэзии, но не ее слабый, никем еще не распознаваемый голос мог участвовать в призыве нового учения к себе на помощь. Поневоле романтизм должен был явиться у нас просто в форме нового эстетического учения, для чего он вовсе не имел содержания по своей односторонности, и чем не мог быть по своей сущности и происхождению. Он сделался школьным вопросом из живого явления, каким он был на Западе. Очутившись у нас на этой дороге и принявши облик схоластической теории, романтизм нашел скоро бесчисленных учителей, толкователей и комментаторов. Каждый из них предлагал свое определение романтизма на основании признаков и подробностей, прежде всего бросившихся ему в глаза и, таким образом, романтизм для одних был накопление этнографических черт и народных выражений в произведении, для других – тонкий до мелочей психический анализ характеров, для третьих – подробное изложение неуловимых оттенков мысли и ощущений, а для очень многих (т. е. для большинства учителей) – проявление необузданной фантазии, которая пренебрегает всеми условиями искусства. Сам Пушкин, на другой почве, чем школьные теории, находил еще, как знаем, присутствие романтизма даже в иной беспутной жизни, лишь бы она исполнена была приключений всякого рода.
Итак, забудем о наших определениях романтизма и посмотрим, каково было влияние этого направления на нашу образованность вообще. Здесь к числу благотворных навеяний и последствий романтизма, о которых уже говорили, следует присоединить еще одну и может быть важнейшую черту. Занесенное к нам на этот раз не из Франции, а из энциклопедической Германии – романтическое движение имело последствием открытие нового материала не только для авторства, но и для умственного воспитания общества. Благодаря тому уважению ко всем народностям без исключения и ко всем видам и родам народной деятельности, которое романтизм проповедывал с самого начала, он сделался у нас элементом очень важного движения. Избранных литератур, а с ними и избранных национальностей, предопределенных, так сказать, быть вечными образцами гениальной производительности, для романтизма вовсе не существовало, к великому соблазну классически-воспитанных писателей. Наравне с высокоразвитыми древними и новыми обществами, внимание романтизма обращено было и на племена с невидными, но своеобычными зачатками духовной жизни. Из этого выходило также, что романтики не признавали никакой иерархии в родах поэтической деятельности, и народная сага, собрание песен, эпическое или лирическое творчество какого-либо незначительного племени ценилось ими иногда выше правильных, холодных драм, поэм, романов, занимавших и восхищавших цивилизованное общество. Этот космополитизм романтической школы, это благожелательство к проявлениям человеческого духа, в какой бы форме оно ни делалось, открывали школе, так сказать, целый мир предметов для вдохновения, фантазии и мысли.
Пушкин, прозванный, не без основания, «Протеем» за способность ловить поэтические оттенки чувства, образа и мысли во всех предметах, подпадавших его наблюдению, воспользовался с избытком отличием своей школы, но она еще увела его и далее. Путем изучения чужих народных произведений, романтизм приводил неизбежно и к русскому народному творчеству, еще никем не тронутому. Не могло же оно одно оставаться за чертой, в непонятном и позорном остракизме, когда все другие страны ласково принимались в пантеон, устроенный для народных литератур всего света. Конечно, обход к русским поэтическим мотивам был очень дальний, но вряд ли в то время шла к ним какая-либо другая дорога. Благодаря романтизму, и вскоре последовавшему за ним влиянию Шекспира – открылся впервые разнообразнейший русский мир, с чертами нравов, понятий и представлений, ему одному свойственными/Оставалось подойти к нему и, конечно, мы не скажем ничего преувеличенного, если здесь заметим, что первым, подошедшим к нему прямо с поэтическим чутьем его действительного содержания, был Пушкин.
Дело обрусения Пушкинского таланта началось с «Онегина», т. е. с первого появления нашего поэта в Одессе, когда он серьезно приступил к роману, начатому несколько прежде и которым теперь несколько месяцев сряду, по свидетельству брата, был поглощен душевно и телесно. При появлении первой главы нового произведения в Петербурге, еще в рукописи (1825), друзья автора снова закричали о мастерском подражании Байрону и его Дон-Жуану. Пушкин был изумлен и огорчен: друзья не знали того поворота на встречу русской жизни, который был уже задуман им, и остановились на внешней форме романа. С жаром принялся он им толковать, что ничего общего между Онегиным и Дон-Жуаном нет, что первая глава романа есть не более, как вступление, которым он остается доволен, что следует ожидать других глав, того, что будет далее… а далее хотя он еще и неясно различал, как говорит сам в поэме, ход романа, но, конечно, русская жизнь со своими особенностями носилась уже и тогда перед его глазами.
Нам не совсем понятна теперь ошибка друзей Пушкина, почти единогласно утверждавших, что Онегин и Дон-Жуан одно и то же лицо, даже упрекавших поэму нашего автора в пошлости и прозаизме содержания. Этого мнения держался, между прочим, и К.Ф. Рылеев, а также очень умный и дельный приятель Пушкина, Н.Н. Раевский-младший, не раз поражавший поэта трезвостью своих суждений, но про которого автор «Онегина» принужден был заметить в 1823 году, в письме к брату из Одессы: «Не верь Н. Раевскому, который бранит его (Онегина). Он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм, и порядочно не расчухал». А между тем одно то обстоятельство, что Пушкин с самого начала относится очень скептически к своему герою, должно было бы навести его критиков на мысль о разнице между русской и английской поэмой. Байрон вообще никогда не смотрел иронически на своих героев, а тем менее на Дон-Жуана, в котором олицетворял некоторые стороны собственной своей природы. Пушкин тоже вложил в Онегина часть самого себя и ввел в его облик некоторые черты своего характера, но он не благоговеет перед изображением, а, напротив, относится к нему совершенно свободно, а подчас и саркастически. Конечно, говоря о двух поэмах, никогда не должно забывать высокого преимущества, какое имеет «Дон-Жуан» в обширности плана, в смелости замысла, а также и в силе исполнения над русской поэмой, но это не мешает «Онегину» быть великим поэтическим памятником русской литературы, поучительным и для других литератур, по художественному разоблачению умственной и бытовой жизни той страны, где он возник. По нашему мнению, ничто так не подтверждает нравственного переворота, совершившегося с Пушкиным в Одессе, как способность, обнаруженная им в «Онегине», отнестись критически к «передовому» человеку своей эпохи. Почти в одно время с появлением первой главы романа (1825), в публике нашей распространилась и комедия «Горе от ума». Пушкин и Грибоедов уловили, так сказать, душу своего времени, заключив все его содержание в двух не умирающих типах: Онегине и Чацком, которые принадлежат одинаково к «большому свету», управлявшему тогда умственным развитием страны. И тот и другой страдают пустотой жизни, но Онегин есть представитель известной части светского круга, члены которого, несмотря на все свои претензии, способны были уживаться со своей обстановкой, а Чацкий есть представитель другого отдела того же светского круга, которого эта самая пустота вызывала на проповедь, борьбу и подвиг. Сознание своих и общественных недугов заставляет Онегина дорожить изяществом существования, тонкими ощущениями в области мысли и в сфере жизни, которым само презрение к современным людям и обществу служит еще поводом и поощрением; то же самое сознание разрешается у Чацкого, наоборот, искренним гневом и негодованием на самого себя и на общество: если он бьет его по лицу всеми его пороками и позорными сторонами, то не выгораживает и себя из его среды. Из этих двух типов, в бесчисленном распадении и разветвлении, действительно и слагалась тогда многочисленная русская «интеллигенция», сообщившая эпохе тот своеобразный колорит, который мы знаем за ней. Параллель между Онегиным и Чацким можно бы провести и далее, показав, что и частная их жизнь была как-то одинаково неудачна и завершилась отвергнутым чувством со стороны тех, в ком они вздумали поместить свое сердце и свою любовь; но при ближайшем рассмотрении и тут оказывается разница. У первого, Онегина, это явилось заслуженным наказанием его нравственной несостоятельности, плохо прикрываемой кичливостью и претензией, а у Чацкого то же явление было возмездием среды, не выносившей его нравственного превосходства. Во всяком случае и Пушкин, и Грибоедов, как достоверно известно из многих документов, очень хорошо знали, что делают, еще при самом замысле своих созданий, и довольно ясно предвидели выводы и соображения, к каким они дадут повод впоследствии. Не мог только предвидеть Пушкин того, что его роман, так хорошо отражающий одну из сторон тогдашней светской жизни, будет принят у друзей за простую подделку под иностранный образец и не возбудит никакого другого вопроса.[61]
Но оставляем в стороне историю недоразумений между Пушкиным и друзьями его; недоразумений этих было всегда много между ними, как увидим далее, а теперь продолжаем нашу повесть о русском романтизме.
По отношению к Пушкину, романтизм этот имел еще значение и чисто практическое, житейское, упразднив или ослабив влияние Байрона, как личности. Восторженное удивление к гениальным приемам и художественной манере Байрона-писателя еще продолжалось довольно долго, и хотя значительно ослабело с эпохи знакомства Пушкина с Шекспиром (1825 г.), но можно заметить кое-какие следы его даже в 1828 году – накануне, так сказать, «Полтавы». Люди не скоро расстаются со старыми, могущественными увлечениями н впечатлениями, но Пушкин с одесской жизни расстался с Байроном иначе. Британский поэт перестал быть для него кумиром, йод гнетом которого сам Пушкин отрекался от собственной личности и делался снимком с чужой физиономии. Байрон начинал превращаться из личности в понятие, что составляло уже большую разницу. Давление личности Байрона, у которой, как известно, поэт наш перенимал даже многие мелочные привычки жизни и характера, значительно ослабело, когда сам родоначальник направления, благодаря свету, брошенному на него предпринятым исследованием романтизма, переставал являться феноменом, а становился олицетворением одного из видов большого, многостороннего литературного рода. Власть идеала была уже потрясена тем, что он делался наравне с другими явлениями романтизма подсуден определению, разбору, классификации, но, конечно, высвободиться от прямого влияния личности было легче, чем освободиться от направления, данного ею самой мысли подражателя, от ее взглядов на людей и предметы нравственного свойства, от направления, ею сообщенного. Это уже могло совершиться только через посредство самостоятельного труда, озарившего бывшего поклонника, и в этом смысле услуга, оказанная «Онегиным» своему автору, должна цениться весьма высоко. С «Онегина» начинается нравственное отрезвление Пушкина от хмеля восторженного подражания Байрону, как поэт наш сам давал разуметь, и возвращение его к самому себе, к природе и свойствам своего таланта и своего характера.
Кроме «Онегина», честь быть свидетелем и участником нравственного переворота в Пушкине принадлежит еще и другому произведению – «Цыганам». Обе поэмы эти имеют право на название поэм-близнецов, потому что писались в одно время, чередуясь на столе автора по настроению его духа. Как ни различны они по основным своим мотивам и по характеру своих представлений, Пушкин вел это двойное и разнородное дело совершенно вровень и притом с не остывающим воодушевлением. Это доказывается пометками, какие сохранились на черновых оригиналах обеих поэм. С июля 1823 по декабрь (именно по 8-е число декабря 1823) написаны были Пушкиным две первые главы «Онегина» в Одессе. В феврале 1824 начата им третья, как видно из заметки, стоящей во главе ее – «8-е février, la nuit, 1824». Между второй и третьей главами «Онегина», стало быть в течение двух месяцев, декабря 1823 года и января 1824, являются «Цыгане», начало которых украшено изображением медведя, цыганского шатра и под ним Земфиры. Окончание поэмы приходится уже ко времени ссылки Пушкина в деревню, Михайловское, и носит пометку 10-го октября 1824. Вся поэма приблизительно стоила Пушкину около 10-ти месяцев труда, далеко не постоянного, прерванного еще длинным путешествием из Одессы в Псков и от которого он часто еще отвлекался значительным количеством лирических своих песней, тогда же им произведенных.
А между тем, «Цыгане», в противоположность с реальным «Онегиным», с жизненным, бытовым оттенком его картин и характеров, представляют высшее и самое пышное цветение русского романтизма, успевшего овладеть теперь и поэтически-философской темой. Одновременное производство двух таких противоположных созданий всего лучше доказывает, что с зимы 1823–24 г. начинается у Пушкина новый период развития, несмотря на то, что именно в течение ее скопились и все те мелкие и крупные досады, которые сделали ему жизнь в Одессе невыносимой. Никто не будет спорить, да никто и не спорил прежде, что на «Цыганах» мелькают еще лучи байронической поэзии, но, вместе с тем, оригинальность замысла, возмужалость и зрелость таланта до того бросались в глаза современникам Пушкина, что они признали в поэме совершенно свободное, независимое создание, несмотря на некоторые признаки его родства с чужой мыслью. И современники были со своей стороны правы. Вспомнить только, что в «Цыганах» Пушкин коснулся неожиданно социального вопроса и, конечно, далеко не исчерпал его (в области романтизма он и не мог быть обрабатываем), но в полусвете поэтического вымысла указал часть присущего ему содержания чрезвычайно удачно. Вся обстановка вопроса была в поэме также по преимуществу романтическая: цыганский табор написан яркими красками, прикрывшими его, как мантией, за которой бедная действительность табора едва и чувствовалась; характеры старого цыгана, Земфиры, Алеко, переданы мастерскими очерками, но не как лица, а как олицетворение условных представлений о том или другом характере. Но в поэме было еще кое-что другое.
Публике нашей, благодаря знакомству ее с Руссо, да и с самим Байроном, не было новостью противопоставление образованного человека человеку полудикого, патриархального быта. Совершенной новостью было для нее только то, что сделал из этого противопоставления Пушкин. Алеко не вырос у него, как сказали, до вполне ощутительного образа и характера, но представлял намек на очень любопытный тип. Свободный мыслитель и потому ненавистник форм цивилизации, разорвавший все связи с обществом и его историческим положением, но не уничтоживший в себе самом того количества злобы, эгоизма и испорченности, которое они отложили в его душе: таков был намек. Алеко ищет успокоения в среде бедного цыганского табора, куда спасается от городов и столиц, но, вместо того, предательски вносит к нему все страсти их, присоединяя еще и кровавое преступление. Алеко есть олицетворенная политическая несостоятельность и нравственная пустота при громадных претензиях и сильном умственном развитии – вот что было оригинально и ново в поэме и что было почувствовано публикой[62]. Восторгам ее не было пределов, когда поэма явилась в печати.
Для характеристики того времени некоторую важность представляет одно обстоятельство: долго не только публика, но и записные критики предпочитали романтическую поэму Пушкина, из воображаемого мира идеальных людей, его реальной поэме из действительного быта. Сам автор думал несколько иначе: сердце его всегда крепко лежало к своему «Онегину», а на «Цыган» он смотрел как на пробу своего таланта, и переходную ступень в его развитии: «Только с «Цыган» почувствовал я в себе призвание к драме», говорил он покойному П.А. Плетневу. Известно, что Пушкин никогда не отличался способностью к теоретическим тонкостям, и слова его должно понимать не в том смысле, чтобы с «Цыган» он намеревался посвятить себя драматической литературе исключительно, а в том, конечно, что тогда он почувствовал в себе силу открывать отношения между изображаемыми характерами, из которых зарождаются обыкновенно драматические коллизии. Другими словами, это значило, что «Цыганами» Пушкин уже прощался, с чисто романтическим творчеством, как подтверждают и факты. Быстро шло его развитие. Едва началась его работа мысли над задачами романтизма, как и принесла все свои плоды. Он скоро очутился на ином пути, куда мы за ним в свое время и последуем.
Казалось бы, что при таком серьезном настроении, при таком упражнении ума и сознания – некоторый род тишины и спокойствия должен был бы неизбежно водвориться в душе поэта и образовать отношения к жизни, которые, по крайней мере, исключали бы возможность думать о какой-либо внезапной катастрофе в его существовании. Однако же, мысль о ней приходила поминутно в голову, как мы уже сказали, кишиневским приятелям Пушкина, навещавшим его в Одессе, и приходила уже с первых месяцев пребывания там поэта. Они начинали серьезно бояться за Пушкина, заметив его раздраженное состояние и ясные признаки какого-то сосредоточенного в себе гнева. Пушкин видимо страдал и притом дурным, глухим страданием, не находящим себе выхода. Продолжаться долго это не могло. Все, что обыкновенно разнуздывало страсти Пушкина: пошлость или мелкие цели окружающих людей, муки ревнивой или неудовлетворенной любви, досада и негодование на измену дружбы, тихо подрывающей его надежды и планы – все соединилось здесь для того, чтобы приготовить одну из тех вспышек, оскорбляющих общество, которыми так изобиловал кишиневский период его жизни. Но никакой вспышки не произошло, потому собственно, что теперь не было для них и места. Порядки жизни, возмущавшие Пушкина, составляли часть политической системы, зрело обдуманной очень умными людьми, которые умели сообщить ей внешний вид приличия и достоинства. Личные оскорбления наносились ему тоже чрезвычайно умелой рукой, всегда тихо, осторожно, мягко, хотя и постоянно, как бы с помесью шутливого презрения. Было бы сумасшествием требовать удовлетворения за обиды, которые можно было только чувствовать, а не объяснить. Материала для вспышек, таким образом, не существовало; вместо того, жизнь Пушкина просто горела и расползалась, как ткань, в которой завелось тление.
Известно, какое влияние на характер и душевное состояние Пушкина имели женщины и его связи с ними. В эту эпоху он находился под гнетом бурных страстей, раздражаемых соперничеством и препятствиями разного рода. В числе лирических произведений Пушкина есть одно «Воспоминание» (1822), где мы встречаемся с любопытным биографическим фактом (см. дополнение к стихотворению, приведенное в наших «Материалах» 1855, стр. 197). Говоря о двух, уже почивших ангелах, данных ему судьбой когда-то в лице двух женщин, поэт представляет их в виде грозных теней:
«Но оба с крыльями и с пламенным мечем,
И стерегут… и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба».
По всем соображениям, обе эти личности принадлежат к Одесскому обществу. В чем состояло преступление Пушкина, за которое они мстили ему, неизвестно, так же точно, как неизвестны и имена их. О том и другом можно только догадываться. Весьма правдоподобно, что под одной из этих оскорбленных теней Пушкин подразумевал довольно часто поминаемую в новейших биографических розысканиях о поэте m-me Ризнич, а под другой, умершей за границей, особу, к которой написана пьеса: «Иностранке» («На языке, тебе невнятном»). Под последней пьесой стоят в рукописях и слова: «Veux-tu m'amier? Point de D*». Не Дегилье-ли, о котором мы упоминали? Если собирать намеки для пояснения этих имен, то придется остановиться на выражении Липранди, который, перечисляя лица, близкие к Пушкину, упоминает еще об «известной Катиньке Гик». Вероятно также, что именно о ней вспоминал Пушкин, когда уже из Михайловского писал в Одессу к какому-то Д. М. К: «Слово живое об Одессе; напишите, что у вас делается, выздоровела ли Катинька?» Любопытно, что перед самой женитьбой своей в 1830 г., Пушкин вспомнил о милых тенях и обратился к ним с невыразимою любовью и страстью, как бы прощаясь навсегда с ними, чему памятником остались два изумительных по своему пафосу и поэтической силе стихотворения: «Заклинание» и «Расставание», оба написанные в селе Болдине, в 1830 г. Несмотря, однако же, на память, оставленную обоими этими, теперь уже почти мистическими, лицами в душе Пушкина, предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из Одесского периода жизни.
Всего этого было достаточно для того, чтобы лишить Пушкина нравственного и физического спокойствия; но из собственных его откровенных заметок оказывается, что, кроме перечисленных нами поводов к неудовольствию и раздражению, были еще и другие, чуть ли даже не стоявшие на первом плане в собственной его оценке своего положения.
По способности возбуждать его бессильный гнев и составлять безвыходное страдание души, первенствующее место принадлежало тому учтивому, хотя и высокомерному презрению к его званию поэта и писателя, которое непременно должно было родиться в деловом мире, выдвинутом на первый план новым устройством власти и управления. Жизнь Пушкина должна была казаться страшным бездельем всему этому миру, а известно, что у людей заведенного порядка, ясных практических целей, и работа мысли есть то же – безделье. Ничто так не возбуждает их презрения и тайной ненависти, как горделивая претензия человека найти себе другое занятие, кроме того, которое признано всеми за настоящее и почетное. У них не было и предчувствия, что Пушкин в своем безделье полагает основание как будущей своей славе, так и развитию художнических и просветительных начал в своем отечестве: им виднелся праздный и потому опасный человек в лице, которое принадлежит только самому себе. Ошибки и даже преступления по службе были бы лучше и простились бы скорее. Самый успех такого лица в известной части публики, внимание, оказываемое ему каким-либо отделом русского читающего мира, еще питали аристократическое и бюрократическое презрение к нему. Люди дела объясняли успех этот заискиванием в толпе, свойственным только проходимцу, которому не на что опереться более. Еще хуже делает тот, кто, не нуждаясь в толпе, пренебрегает выгодами своего рождения и положения в свете, предпочитая унизительную роль потешника сволочи своему естественному призванию. Писатель еще может быть терпим в свите облагораживающего и вдохновляющего его патрона; самостоятельный писатель на Руси есть не что иное, как ничтожный и отчасти позорный сколок с западных французских демократов, которому у нас нечего делать. Разумеется, никто не говорил с полной откровенностью подобных вещей в глаза Пушкину, но существование такого воззрения на призвание его, как поэта, было несомненно в высшем одесском обществе и давало себя постоянно чувствовать. Что должен был испытывать Пушкин при этом косвенном отрицании и отобрании его прав на известность, заслуженное место в обществе и на уважение родины!