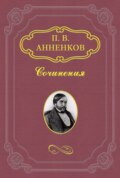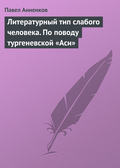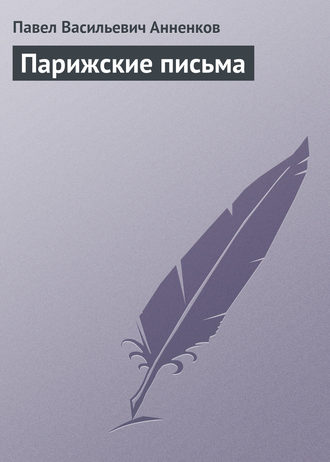
Павел Анненков
Парижские письма
Страннее всего показалось мне в статье г. Луандра, что он делает порядочный выговор водевилю за вмешательство его в предметы высокой важности, до него не касающиеся, как например, в народную жизнь, семейную хронику и современные события. Зачем он не остался верен своему происхождению – застольной песенке и проч. Такое непонимание одного из самых характеристических явлений французского быта меня удивило в писателе, который, вероятно, обедает в Café de Paris и кофе пьет тоже в каком-нибудь парижском кафе. Какое взыскание можно после этого чинить немецкому журналисту в роде Гуцкова{333}, если он недоразумеет значение водевиля, этого национального произведения по преимуществу, лукавого, веселого, скрывающего иногда под легкою оболочкой более серьезное дело, чем многие трагедии, и до такой степени растяжимого, что оно захватило всю современную жизнь общества. Просто немецкого журналиста надо уволить от всякого следствия. Добро бы еще г. Луандр был рыцарь художественности и готов был пожертвовать за чистое искусство женой, детьми, вежливостью и справедливостью. Совсем нет. Он нисколько не террорист искусства для искусства: единственного французского художника-романиста, имени которого не нужно здесь приводить, он не понимает, смешивая его с спекулянтами и дюжинными поставщиками романов. Это очень злобно и расчетисто – хоть бы какому-нибудь и нашему герою «Всякой всячины»{334}. Не понимая, однакож, истинной художественности и упрекая простых рассказчиков в дурном выборе предметов, г. Луандр поставляет всех в крайнее затруднение. На чем же остановиться? Какое содержание особенно прилично роману? Ведь нельзя же составить роман из жизни трудолюбивого писателя, добивающегося местечка в бюджете, крестика и видной должности! Если и можно, так разве один раз, а всегда писать об этом, согласитесь, было бы несколько скучновато.
Но я заговорился о статье г. Луандра. Правда, она мне показалась особенно замечательною, как воззрение одного класса общества на свое отечество. Скажу еще несколько слов. Когда вы будете читать в заключении этой статьи, что Франция, дорожащая своими правами, почтительна, однакож, до раболепства (jusqu'à l'humilité) перед внешними отличиями богатства, рождения, должности и проч., то знайте, что тут дело идет собственно не о Франции, а только о круге, к которому принадлежит автор. Затем кончаю, прося у вас извинения за долгую остановку перед журнальною статьей, когда Париж начинает уже праздновать свой карнавал…
По обыкновению, город превратился в одну огромную выставку драгоценных вещей, новых выдумок моды, изящных безделиц, великолепных книг и проч. На нынешний раз прошлогодний характер золотых и серебряных изделий во вкусе XVIII столетия удержан, но к нему присоединился еще новый. Появилось множество превосходных вещей, которым смешение обоих металлов, золота и серебра, придает чрезвычайно оригинальный характер и даже что-то похожее на колорит. Противоположность двух цветов на одном и том же предмете избавляет глаз от некоторого рода усталости, всегда порождаемой однообразием краски, а произведению сообщает живописность, почти картинную светотень (claire-obscur). Это было очень хорошо известно флорентийским ювелирам XVI и XVII столетий. Парижская мода, принужденная конкуренцией к беспрестанному творчеству и, как сказочная Баба-Яга, никогда не засыпающая, вполне отыскала это предание и наполнила магазины браслетами, чашами, ларцами, где серебряные, черненые фигуры вьются по золотому матовому полю в удивительной гармонии. Сколько тут сноровки, художнического расчета, изобретения – говорить нечего. В магазинах известного Мореля выдумка эта достигла форм чистого искусства. Я видел у него, например, флакончик, обвитый золотою сетью наподобие рукоятки индийского кинжала, по бокам которого тянутся две баядерки черненого серебра, доставая корзинку цветов, образующую пробочку его: нельзя насмотреться! Золотой кубок, вышедший тоже из мастерских Мореля и назначенный быть скаковым призом, еще замечательнее. Подножие его составляет группа мальчиков из серебра, перелезающих друг через друга, как будто второпях к какому-нибудь необыкновенному зрелищу, а по золотым бокам выступают серебряные же головы лошадей и два медальона с амазонками. Мысль и отделка спорят тут в тонине, верности и грации. Даже старые, золотые полосы, фигуры, завитки, врезанные в посторонний металл, как это видно, например, в латах, приписываемых Бенвенуто Челлини, нашли самобытное, художническое подражание. Потерялись только размеры, да приложены они к предметам более изящным. Так, я видел у Мореля карманные часы с заднею дощечкой из платины. По ней в удивительной прелести развивается золотая микроскопическая охота со всадником, собаками, лесом и загонщиком, которая вся вместе однакож представляет только один великолепный арабеск. Что касается до искусства в духе XVIII столетия, то для полного наслаждения им надо спуститься в улицу Basse des remparts к серебряных дел мастеру г. Одио{335} (Odiot). Человек этот производит мастерские вещи: сервизы, туалеты, чайные приборы, плато, следуя так называемому вкусу Людовика XV, который широкими, пышными своими линиями и очертаниями так способен к выражению богатства и роскоши. Собственными своими прибавками и поправками Одио возвел эту манеру до величавости настоящего искусства. Я видел у него, например, модель суповой чаши, в которую вошло огромное количество мотивов, взятых из животного и растительного царства, и притом в поразительной стройности и соразмерности. Так, поднос, на котором стоит эта чаша, украшен массивными группами мертвых птиц, рыб и проч.; крайняя верхушка образована из плодов и овощей, а боковые ее ножки составлены из передних туловищ двух быков, сообщающих сосуду выражение крепости и тяжелизны, полной художнического такта. Все целое царственно великолепно.
Сказать по правде, восторженное состояние, в котором, как видите, я нахожусь перед этими произведениями, и которое, может быть, вас удивляет несколько, объясняется еще другою, особенною причиной. Именно: они мне послужили утишением и отдыхом после испытанных мною глубоких, нестерпимых огорчений от здешней церковной живописи, которою в недавнее время покрылись многие капеллы по распоряжению парижского муниципалитета и самих приходов. Я смотрел три новых фреска г. Мотте (Mottez) в Saint-Germain l'Auxerrois, я видел фигуры г. Госса (Gosse){336} в Saint-Elisabeth, я глядел с изумлением на композицию г. Сибо (Cibot){337} в Saint-Leu и вынес от них такое тревожное состояние духа, что привратник мой уже полагал за нужное отнестись к доктору нашего квартала. Что это такое, боже мой? Один съеживается до крайности, чтобы как-нибудь войти в узенькую мерку старых мастеров; другой раскидывается нелепо, вздумав без силы и таланта подражать бойкости натуралистов; третий создает будуарную живопись и ею хочет пояснить мистическое видение: все, однакож, с ясным выражением немощи, где каждый удар кисти как будто говорит: «Я только хочу вам показать, на что я способен, а, впрочем, сам знаю, что это не годится!» Теперь понятно, с какою жаждой я должен был броситься на произведения, которые выражают настоящий гений народа, и род творчества, к какому он наиболее способен. Итак, прошу не удивляться…
Да уж заодно. По случаю великолепных книг, обыкновенно приготовляемых к Рождеству, нахожусь в необходимости привести здесь три имени, может быть, единственных в Европе: гг. Бозоне (Bausonnet), Нидре (Nidrée){338} и Дюрю (Duru){339}. Это – переплетчики. Первый, более всех знаменитый, переплетает уже только по протекции, и то еще весьма сильной и сопряженной со многими искательствами. Переплеты его отличаются такою изящною простотой, таким благородством украшений, щегольством и вкусом, что когда держишь книгу его в руках, кажется, держишь драгоценную вещицу. Я видел стихотворения г-жи Деборд-Вальмор{340}, им переплетенные, и с тех пор мне чудится, что г-жа Деборд-Вальмор – прекрасная молодая девушка, гуляющая в цветнике. Нидре более роскошен: впрочем, рисунки и украшения, принадлежащие всем троим, ценятся равно высоко и тщательно сберегаются любителями. Мне случалось иметь в руках книгу, переплетенную г. Дюрю на манер янсенистов: переплет весь черный с черным же тиснением. Ни с чем и сравнить его не умею, кроме разве с донной Анной в трауре, приходящей плакать над мраморным гробом и черные кудри рассыпать… Какая честь, подумаешь, для воловьей и другой шкуры!
Королевский театр (Théâtre Français) снова был оглашен рукоплесканиями «браво» по случаю восхитительной комедийки Мюссе «Un caprice» и игравшей в ней г-жи Аллан. И ту, и другую петербургская публика очень хорошо знает{341}. Любопытно, что комедийка подала повод высказать почти всем здешним театральным критикам множество новых мыслей о драматическом искусстве, как-то простота содержания не исключает занимательности, или чем менее запутанности в таланте, тем более он нравится и т. д. Некоторые, однакож, на пути этих откровений пошли слишком далеко и стали утверждать, что будто пьесы совсем без содержания только и принадлежат искусству. Это уж увлечение! Как бы то ни было, но я с умилением смотрел на эту манеру основательной критики, которая начинает с открытия азбуки, чтоб оценить легкую шутку, блистающую остроумием и наблюдательностью. Жалко только, что эта зарейнская манера, вероятно, не удержится здесь: она и появилась-то единственно от восторга и от одурения, неразлучно следующего за ним.
Остальные театры не произвели ни одной капитальной пьесы, которая сильно бы захватила внимание публики. Это еще придет. Покамест Gymnase и Variétés поставили каждый по водевилю почти одинакового содержания. Хорошие мысли, известно, приходят иногда вдруг пяти или шести человекам зараз. Г. Скрибу, с одной стороны, и г. Баяру{342} – с другой, в одно время блеснула идея представить человека, который неожиданно получил ларец с деньгами, ему не принадлежащими, и колеблется между тяжелыми обстоятельствами, повелевающими удержать ларчик, и честностью, предписывающей расстаться с ним. Подобные идеи, в старое время, приходили одному г. Коцебу{343}; теперь стали они приходить двум писателям зараз; значит, идеи размножаются! На этом основании г. Скриб написал пьесу «Дидье добрый человек» (Didier-l'honnête homme) и отдал ее в Gymnase, а г. Баяр написал «Жером каменщик» (Gerôme la maçon) и отдал ее в Variétés. Первая отличается мастерством изложения и чрезвычайно ловким, свободным ходом интриги; вторая имеет претензию на глубину и психологическую верность, но идет неровно, отчасти судорожными скачками; обе же страдают одним и тем же недостатком: главное действующее лицо в них – ларчик с золотом! Я имею смелость считать себя за человека, который весьма трудно оскорбляется. Ведь не был же я оскорблен в Théâtre Historique трагедией г. Шекспира «Гамлет», переделанной гг. Дюма и Мёрис!{344} Мелодрама как мелодрама, и когда показывается снова тень отца и говорит всем раненым, за что они ранены, а к Гамлету обращается со словами: «А ты живи, вот твое наказание!». После этого обнаружилось во мне легкое волнение, но я его сию же минуту подавил. Теперь могу смотреть переделанного «Гамлета» сколько угодно… В прекрасной опере Верди «Jérusalem», данной с большим успехом во Французской опере, одно действующее лицо поет верхом на лошади. В первую минуту показалось смешно, но пригляделся – и ничего. Потом я даже посердился немного на остроумную карикатуру «Шаривари», представляющую певцов на лошадях с надписью: «Здесь поют пешие и конные» (On chante ici à pied et à cheval) наподобие вывесок постоялых дворов, имеющих всегда неизменные слова: «Здесь останавливаются пешие и конные» (On loge ici à pied et à cheval). Вы видите, как трудно огорчить меня, и со всем тем к ларчику с деньгами чувствую непреодолимое отвращение. Слова нет, что оно очень натурально, что всякий, кто найдет такой ларчик, подумает сперва: а нельзя ли припрятать его? – да зачем же требовать от меня, чтоб я прослезился, когда этот человек, одумавшись, отдаст ларчик по принадлежности. Мне кажется, будто авторы обеих пьес сделали немаловажную ошибку, заставив героев своих высказать душевное состояние свое перед отворенными ларцами. После такой борьбы, конечно, весьма естественной, они, авторы, как ни стараются сделать своих героев образцами добродетелей, никак не успевают. Нельзя же быть в одно время Роберт Макером и Цинцинатом!{345} Вы скажете: «Это та черная сторона человеческой души, которая может грязнить самую избранную натуру». Ну, хорошо! Я весьма податлив на ужас, и никому так скоро не делается страшно за человека, как мне, но в таком случае нет никакой надобности короновать нашего брата венком добродетели и давать ему премию благородства. Если, как я предполагаю, гг. Скриб и Баяр хотели именно учинить это примирение между некоторыми сомнительными качествами человеческой души и обиходною моралью, то на сей раз они не успели. Пусть подождут до следующего. Случаев из текущей, современной жизни представится много. Вот недавно оказалось по следствию, что граф Мортье был очень хорошим чиновником, будучи в сущности всегда сумасшедшим. И сколько таких!
А какая странная драматическая пружина – ларчик с деньгами. Всякий раз, как актер запускает в него руку и начинает шевелить луидорами и наполеондорами, в партере разносится говор, точно на бирже при возвышении курса на испанские фонды. Впрочем сравнение не верно, потому что испанские фонды никогда не возвышаются.
Между тем обе пьесы дали возможность двум первым актерам, г. Фервилю{346} (в Gymnase) и г. Буффе (в Variétés) составить нечто вроде художественного поединка, занявшего на некоторое время театральную публику. Г. Фервиль, исполнявший характер Дидье, сделал из него добряка, выбитого из своей колеи неожиданным и сильным искушением. Г. Буффе, игравший Жерома-плотника, показал, наоборот, как глубоко может быть потрясен крепкий характер дурною, опасною мыслью. Роль у Фервиля целостнее и. натуральнее, у Буффе она блистает множеством прекрасных подробностей и счастливо схваченных оттенков. Я со своей стороны отдаю пальму первенства Фервилю, как ни уважаю я труд, верный расчет и мастерство, качества, несомненно принадлежащие Буффе, но в деле искусства люблю, чтоб артист, наподобие Картуша{347}, украл у меня одобрение прежде, чем я успел бы очнуться. На этот раз точно такую штуку сыграл со мною Фервиль. Во всяком другом городе это соперничество двух известных артистов произвело бы непременно две партии. Куда, подумаешь, не вмешиваются партии! Случалось даже, что иногда две труппы волти-жеров[72] производили их. Здесь, однакож, по случаю этого события партий не было. Голоса как-то перемешались. Те же люди, которые вчера кричали браво Буффе, без зазрения совести выкрикивают точно такое же браво Фервилю.
Вместе с тем открылись маскарады в операх, театрах и публичных залах. На улицах появились шляпы с перьями, испанские мантии, расшитые корсеты, красные башмачки и проч. В кофейных, кондитерских, в магазинах с цветами и костюмами огонь уже не потухает всю ночь. Люди, которые наполняют их, принадлежат именно к разряду людей, никогда не находивших ларчика с золотом. За это я их и люблю. Удовольствие их доставляет мне чрезвычайно отрадное чувство. Как ни говорите, а приятно видеть веселье людей с ограниченными средствами и заработавших себе бал, музыку, освещение, все удовольствия карнавала!.. Желаю вам на прощанье (может быть, долгое) наслаждаться как можно чаще зрелищем подобного рода!..
23 декабря н. с. 1847 г.
Примечания
«Парижские письма» написаны П. В. Анненковым во время его второго зарубежного путешествия, в 1846–1847 гг.; впервые опубликованы в журнале «Современник» за 1847–1848 гг. в отделе «Смесь».
В ГБЛ под шифром M 51 84/29 хранится автограф II и III писем. Это рукопись объемом 20 листов с оборотом, написанная черными, выцветшими от времени чернилами на листах тонкой голубоватой почтовой бумаги размером ¼ листа. Письма адресованы В. П. Боткину, к которому в тексте часто обращается автор.
В автографе есть исправления, сделанные рукою автора теми же черными чернилами, которыми написан текст писем, и редакторская правка (синие и черные чернила, красный и черный карандаш), принадлежащая, судя по почерку, И. И. Панаеву, редактору «Современника». Правка носит в основном стилистический характер или содержит чисто редакторские указания.
Все обращения к В. П. Боткину в автографе зачеркнуты черными чернилами, теми же чернилами зачеркнуты несколько текстов. Одни из этих зачеркнутых текстов носят личный, частный характер (см. ниже), другие содержат факты, о которых упоминалось в «Современных заметках», публиковавшихся в тех же номерах «Современника», в каких публиковались и «Парижские письма», и принадлежащих И. С. Тургеневу (см. ниже).
Найденные автографы позволяют проникнуть в творческую лабораторию автора «Парижских писем» и понять характер и принципы редакторской правки. И. И. Панаев старался по возможности заменить французские слова русскими, придать частным письмам характер корреспонденций, укрупнить их, для чего объединил два письма в одно.
В редактировании «Парижских писем» принял участие и В. Г. Белинский, он сократил текст, характеризующий популярный роман Жорж Занд «Лукреция Флориани» (см. ниже) и внес некоторые стилистические изменения, которые выявляются при сравнении текста автографа с журнальной публикацией, в примечании они не указаны.
Вторая публикация «Парижских писем» была осуществлена после смерти автора, в 1892 г., в сборнике «П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 гг.» СПб., 1892. Редактором и составителем сборника был друг Анненкова, известный литературовед и пушкинист Л. Н. Майков.
В основу второй публикации был положен текст первой журнальной публикации, подвергнутый незначительной редакторской правке, которая свелась к следующему: 1. Первые два письма в журнальной публикации назывались «Письма из Парижа», во второй публикации все «Письма» названы «Парижскими письмами».
2. В первой публикации каждое письмо заканчивалось подписью П. А – в, во второй письма даны без подписи.
3. В отличие от первой публикации, во второй число и место написания писем указаны в начале письма, а не в конце его.
4. В журнальной публикации некоторым письмам предшествовала краткая аннотация, во второй аннотации опущены.
5. В первой публикации перед письмом стояло «Письмо первое», «Письмо второе» и т. д., во второй стоят римские цифры.
6. В первой публикации все названия книг, картин, журналов и т. д. даны курсивом, во второй – в кавычках.
7. В первой публикации большинство числительных было обозначено цифрами, во второй введено словесное обозначение.
8. В первой публикации фамилии русских друзей Анненкова обозначены начальной буквой, во второй эти фамилии написаны полностью.
9. Во второй публикации убраны все редакторские примечания, которые были к некоторым текстам в первой публикации.
Во второй публикации допущены опечатки: Письмо III, с. 274 во второй публикации – «нужные», а в первой – «нежные»; Письмо IX, с. 345 во второй публикации «разрушает», в первой – «разрешает»; Письмо IX, с. 365 во второй публикации – «рисунки украшений», в первой – «рисунки и украшения» и др.
В основу настоящего издания положен текст первой публикации, но учтены некоторые редакторские поправки, внесенные в текст второй публикации, а именно:
1. Все письма названы «Парижские письма»;
2. Письма обозначены римской цифрой, а подпись П. А – в – опущена;
3. Названия книг, журналов, картин и т. д. даны в кавычках;
4. Редакторские примечания, сделанные к некоторым текстам в первой публикации, опущены, но учтены в примечаниях.
Письмо I
Впервые – «Современник», 1847, кн. 1, отд. «Смесь», с. 34–40, под названием «Письмо из Парижа».
По поводу первого письма В. П. Боткин писал Анненкову: «Ваше письмо с небольшими выпусками, вероятно, будет напечатано в „Современнике", и Вас униженно просят не забывать, что „Современник" жаждет Ваших писем из Парижа и иных стран. Что касается до меня, то каждое Ваше письмо я буду посылать туда, исключая, разумеется, то в них, что должно оставаться приватным» (Анненков и его друзья, с. 528).
Письмо II (а)
Составляет первую часть второго «Письма из Парижа», опубликованного впервые в «Современнике», 1847, кн. II, отд. «Смесь», с. 142–153.
В настоящем издании публикуется по автографу письма Анненкова к В. П. Боткину от 1 января 1847 г. (ГБА, л. 1–5 с об.). Автограф носит на себе следы редакторской правки И. И. Панаева и авторской правки. Панаевым вычеркнуты все обращения к Боткину, шесть строк в начале письма и семь строк в конце. В верхнем левом углу первого листа перед зачеркнутым текстом рукою Панаева написано: «„Современ<ник> № 2 Смесь», а в правом – поставлена римская цифра I. По зачеркнутому тексту тою же рукою написано: «„Письмо из Парижа" 4 января». В настоящей публикации все зачеркнутые тексты, слова и словосочетания восстановлены и заключены в квадратные скобки. Все авторские изменения, носившие чисто стилистический характер, внесены в текст. Редактор, помимо исключения нескольких текстов, внес лишь одно изменение: вместо словосочетания «для бедных, как мы с вами, друг мой» рукою Панаева написано: «для бедных людей».
Письмо II (б)
Составляет вторую часть второго «Письма из Парижа», опубликованного впервые в «Современнике», 1847, кн. II, отд. «Смесь», с. 142–153.
В настоящем издании публикуется по автографу письма Анненкова к В. П. Боткину от января 1847 г. (ГБЛ, л. 6–11 с об.). В автографе зачеркнуты все обращения к Боткину и несколько текстов личного характера. Все зачеркнутые тексты восстановлены и заключены в квадратные скобки.
В редактировании текста письма принимал участие В. Г. Белинский. После зачеркнутой фразы в конце письма рукою Панаева карандашом написано: П. А-в.
Автограф письма от 4 января содержит одно существенное отличие от публикации – в нем дан более развернутый отзыв о романе Жорж Занд «Лукреция Флориани». Шесть строк из этого отзыва были опущены Белинским, что следует из его письма от 17 февраля к Боткину (см. ниже).
Письмо III
Впервые – «Современник», 1847, кн. III, отд. «Смесь», с. 38–46, под названием «Парижские письма» без подписи и указания числа.
В настоящем издании письмо публикуется по автографу (ГБЛ, л. 12–20 с об.).
Правка автографа произведена красным карандашом и черными чернилами рукою Панаева. Начальная фраза письма: «Здравствуйте, неоцененный мой» и дата «20-го февраля. Париж» зачеркнуты; поверх зачеркнутого написано: «Парижские письма. Письмо третие».
При публикации в «Современнике» текст третьего письма был значительно сокращен. Из письма исключены все обращения к адресату, Боткину, все тексты личного характера, а также тексты, относящиеся к выступлению парижской примадонны, артистки Штольц, и процессу А. Дюма с редакторами журналов (см. ниже).
При публикации в настоящем издании все зачеркнутые тексты восстановлены и заключены в квадратные скобки; редакторские исправления и сноски оговорены в примечаниях; авторские исправления включены в текст письма.
Письмо IV
Впервые – «Современник», 1847, кн. IV, отд. «Смесь», с. 74–83, под названием «Парижские письма».
Письмо V
Впервые – «Современник», 1847, кн. V, с. 74–83, отд. «Смесь», под названием «Парижские письма».
По получении этого письма Боткин писал Анненкову: «Ваше письмо о выставке восхитило меня; его дельность и мастерство выше всего, что я читал когда-либо об этом предмете, и я ставлю себе за большую честь, что мои мысли об этом предмете находятся в совершенной симпатии к Вашим. Кстати: „Отечественные записки" помещают письма Кудрявцева о Лувре (всего три письма), которые – должен Вам признаться – сильно меня огорчили. Представьте, наш общий приятель остается неизлечимым немцем. По поводу Лувра он все говорит о греческом и римском искусстве, современность его ни с какой стороны не касается…» (Анненков и его друзья, с 537).