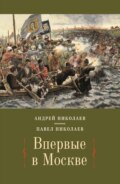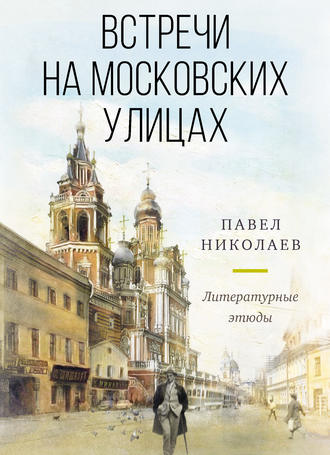
Павел Николаев
Встречи на московских улицах
Посвящается детской писательнице Ларисе Чугаевой
Автор

Вокруг Кремля и Китай-города
Ноги и уши для мыслей вслух. Соавторы знаменитых «Двенадцати стульев» И. А. Ильф и Е. П. Петров не только вместе писали, но и гуляли вдвоём, впрочем, это тоже была работа. Юморист Виктор Ардов свидетельствует:
– Очень часто Ильф с Петровым ходили гулять, чтобы думать и разговаривать, медленно отмеривая шаги. Сперва любителем таких прогулок был только Ильф, но потом он приучил к этому «творческому моциону» и своего друга. Много раз я видел их идущими по Гоголевскому бульвару, будто бездельничающими, а на деле – занятыми самой серьёзной работой.
Обязательное пребывание два-три часа на свежем воздухе было для Ильфа жизненной необходимостью: этого требовали состояние его здоровья и малоподвижный образ жизни. «Если меня спросят, – писал Ардов, – что делал Ильф всю свою жизнь, я не задумываясь отвечу: читал. Он читал едва ли не всё то время, какое проводил в бодрствующем состоянии. Он проглатывал книги по самым различным вопросам – политические, экономические, исторические и, разумеется, беллетристические.
Он читал ежедневно десять-пятнадцать газет. Ему было интересно решительно всё, что происходило и происходит на земном шаре. Первое впечатление об Ильфе было всегда таким: перед вами очень умный человек. Очень умный».
Способствовало длительному пребыванию на воздухе и увлечение Ильи Арнольдовича фотографией, о чем Евгений Петров говорил с комической грустью:
– Было у меня на книжке восемьсот рублей и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора.
После ранней смерти Ильфа (1937) Петров выбрал себе напарника для прогулок в лице В. Е. Ардова. Жили они в одном доме – Лаврушинский переулок, 17. Евгений Петрович заходил к соседу по утрам и говорил с шутливой сварливостью:
– Нечего, нечего, ленивец! Надо гулять! Гулять надо! Почему вы не гуляете? Почему?
Ходили по Лаврушинскому переулку, Кадашёвской набережной, через мосты Малый и Большой Каменные на Кремлёвскую набережную. Это был их постоянный маршрут, а поэтому хорошо отложился в памяти Виктора Ефимовича:
– Москва-река, тогда уже принявшая в себя волжские воды и поэтому всегда полноводная, по-весеннему сверкала совсем близко к серому каменному парапету новой набережной. С елей на бульварчике, тянущемся вдоль Кремлёвской стены, ещё не сняли проволочных оттяжек, укреплённых при посадке, но видно было, что ёлочки хорошо принялись. По новому гудрону набережной неслись машины. Беленький катерок тарахтел на реке, вынырнув из-под Каменного моста. По только что отстроенным новым высоким мостам – Большому Каменному и Москворецкому – двигались трамваи и автобусы, в обе стороны сновали машины и шли бесчисленные пешеходы.
Евгений Петрович часто останавливался, любуясь пейзажем столицы, и говорил одобрительно:
– Москва принимает настоящий столичный вид. Вот такой пейзаж не в каждом европейском городе найдёшь. А уж американцы дорого дали бы, чтобы иметь, скажем, в Вашингтоне этакий небольшой Кремль… А? Что вы скажете?
Вопросы звучали риторически. Понимая, что Евгений Петрович рассуждает для себя, Ардов не рвался включаться в беседу, не тщился заменить Ильфа; а, по его выражению, «охотно предоставлял в распоряжение осиротевшего друга свои ноги и свои уши для его мыслей вслух».
Под Кремлёвской стеной. В 1956 году писатель В. В. Лавров, имя которого прогремело на рубеже столетий, был рядовым советским гражданином, а потому дачу на лето снял в подмосковной Салтыковке, месте, весьма неудачном в криминальном отношении. Хозяин дома, получивший оплату вперёд, сразу стал выживать своих постояльцев. Жилистый дед весь был исколот блатной татуировкой, поблекшей от времени. Сняв майку, дед демонстрировал Лаврову и его жене изображения, выполненные тюремным художником. Хвастал:
– У меня на заднице клёвая картина. Слева печь, справа истопник с лопатой. Когда иду, то истопник лопатой двигает прямо в печь. Показать?
– Спасибо, не беспокойтесь!
– А то могу, мне портки снять недолго. Я, братцы мои, в крытке и на зоне восемнадцать годков отволок, да-с!
– А что вы… натворили? – с опаской спросила Наташа, супруга Валентина Викторовича.
Дед охотно ответил.
В 1933 году он с братом поехал погулять в Москву, в парк Горького. Зашли в ресторан, который находился тогда под парашютной вышкой. Там их внимание привлёк человек провинциального вида, который, расплачиваясь с официантом, вынул из кошелька целую пачку тридцатирублевых ассигнаций – «красненьких». Подмигнув друг другу, братья пошли за ним.
«Лапотник» шёл по набережной и время от времени приставал к одиноким женщинам. Братья подвалили к нему и, пообещав познакомить с интересными дамами, повели в Александровский сад.
– «Скулу», то бишь внутренний карман, – пояснил дед, – брательник ему втихаря вскрыл и вытащил лопатник. Фраер укнокал, хлебало раззявил, блажить начал, дескать, караул, грабят. А его, дурака, никто не грабит, просто бабки были нужны, в бильярдную хотелось сходить. Ну, фраер сам виноватый, посадили его на пику. Денег-то взяли неплохо, да прохаря, ну сапоги, брательник снял с фраера и надел, я свои тут же сбросил.
Разжившись деньгами, братишки пошли культурно отдыхать в бильярдную. Ушли недалеко, так как скоро их развлечение прервали милиционеры, приведенные по следам убийц «жучкой». И получил дед вместо отдыха двенадцать лет лагерей.
– А брат? – поинтересовалась Наташа.
– В деревянном бушлате сгнил. Когда нас в бильярдной вязали, брательник стал отстреливаться. Ну, двух посторонних клиентов ненароком уложил да одного мусора. Хороший брательник был! Его мусора свинцом нашпиговали – хоть в утильсырьё сдавай. А меня ничего, только побуцкали сапогами, почку отбили да два ребра сломали.
Милицейская «наука» впрок не пошла, но, как ни странно, второй раз деда судили уже как политического:
– Политический, ге-ге! Торчал по 58-8! Назубок помню: «Совершение террористических актов против представителей советской власти… Мера социальной защиты – расстрел или строгая изоляция от десяти до двадцати лет с конфискацией всего или части имущества».
Комментируя откровения старика, Лавров отметил, что при рассказе о убийстве «лапотника», оказавшегося сельским корреспондентом, он равнодушно махнул рукой, словно речь шла о пришлёпнутой ненароком мухе. Но свою жизнь дед ценил и был благодарен судьбе за подаренные ему отсидки:
– Коли не торчал бы на киче, так, глядишь, на фронте подстрелили бы. А то ещё живу, небо копчу, водочку потребляю, ге-ге, бабам под юбку заглядываю.
И таких индивидов, заострённых на собственном «я», оказалось в годы Великой войны за Уральским хребтом с десяток полномасштабных армий!
Чужая беда. В 1938 году А. Т. Твардовский переехал в Москву и уже навсегда обосновался в столице. Поэту предоставили комнату в Большом Могильцевском переулке (дом 6, не сохранился). Отсюда Александр Трифонович частенько ходил с дочерью Валентиной на прогулки по городу. Излюбленным местом посещения отца и дочери была Красная площадь. Визиты туда девочка воспринимала как подарок. Особенно запомнился один из них, несостоявшийся.
Был весенний солнечный день, канун 1 Мая. Из тихого переулка они вышли на оживлённый Арбат. Пересекли площадь и по Воздвиженке спустились к Александровскому саду. Шли по его внешней стороне, то есть Манежной улицей. Здесь народу было уже значительно больше. Город бурлил, готовясь к празднику. Из репродукторов звучала музыка.
Вот уже и плавный поворот решётки сада. Через пять минут – Кремлевский проезд и заветная площадь. Но тут навстречу Твардовскому шагнул незнакомый мужчина и о чем-то взволнованно заговорил. Сбивчиво, запинаясь от волнения, он рассказывал поэту о своих мытарствах в Москве. Приехал в столицу искать правду. Поиски эти неоправданно затягивались. А надо на что-то жить, он не один (поодаль стояла женщина с двумя детьми).
Александр Трифонович слушал несколько растерянно. Затем недоумение на его лице сменилось выражением хмурым и горьким. Он что-то спрашивал у незнакомца, что-то объяснял ему. Затем достал бумажник и дал ему денег.
Взяв дочь за руку, Твардовский повернул к площади. Александр Трифонович тяжело молчал. Настроение праздничной приподнятости пропало. Не доходя Мавзолея, он резко повернул назад.
Глядя на сразу помрачневшего отца, дочь не решалась прервать его тяжёлые думы. Она не знала, чем был вызван этот резкий перепад в его настроении, но чувствовала, что мыслями он сейчас не с ней. Позднее она так объясняла случившееся:
– Кажется, я тогда впервые видела его встречу с чужой бедой, то, чему пришлось в дальнейшем много раз быть свидетелем. И никогда он не мог пройти мимо равнодушно, не приняв в себя чужое горе. Он должен был для собственного же покоя что-то немедленно предпринять, а если был бессилен – страдал.
«Весёлый разговор». После шестидесяти лет В. И. Качалов стал сдавать и в начале 1940 года с высокой температурой попал в Кремлёвскую больницу. Нина Николаевна, супруга артиста, конечно, сообщила об этом в Художественный театр. Там её тревогу приняли с преувеличенным беспокойством:
– Петенька, беда! Качалов отходит!
– Коленька, друг, трагедия-то какая – Василий Иванович помер!
И пошло-поехало. В МХАТ и на квартиру великого артиста стали поступать телеграммы соболезнования. Вскоре узнали о «кончине» Качалова и в Ленинграде. Один из его старых друзей, поэт А. Б. Мариенгоф, заспешил в столицу. «Приезжаю в Москву, – вспоминал он, – устраиваюсь в гостинице, оставляю чемодан в номере и иду к Качаловым.
В коридоре встречает меня Василий Иванович. Он в суконной синей пижаме с витыми шнурами на груди, в мягких клетчатых туфлях. Гладко выбрит. Подстрижен ниже обыкновенного. Это его молодит. Чуть изменив классику, он жизнерадостно баритонит:
– Умерший тебя приветствует.
В углу на банкете стоит большая именинная корзина, наполненная телеграммами.
– А нашей здесь нет, – с гордостью говорю я. – Не поймал на удочку.
– Сорвался карась.
Спрашиваю Качалова:
– Что же всё-таки было? Что за безвременная кончина?
– Была, Анатоль, генеральная репетиция. А скоро и спектакль.
– Да ну тебя, Василий Иванович».
После завтрака Качалов обычно гулял. Так было и на этот раз. Супруга напутствовала его:
– Ты, Василий Иванович, на воздухе не дыши. Не дыши!
– А носом можно?
– Нет, нет! И носом нельзя! Ничем нельзя! А то опять воспаление лёгких схватишь. Ведь хуже ребёнка малого! Ещё начнёшь на ветру во весь голос «Фауста» читать. Сейчас же дай слово, что не раскроешь рта. Пусть Анатолий свои стихи декламирует, а ты слушай. Клянись.
Пошли в Александровский сад. От Брюсовского (Брюсова) переулка это метров триста. Но шли долго: через каждые десять шагов Качалов раскланивался, благодарил и отвечал рукопожатием на приветствия людей, радовавшихся его «воскресению». Но вот и сад. Сели на скамью. Над головами закаркала иссиня-чёрная ворона:
– Прра!.. Прра!.. Прра!..
– Слышь, поэт, она говорит: «Прра-вда!.. Прра-вда!.. Прра-вда!..»
– Вот, Вася, и ещё один артистический рассказ набежал.
– Что?
– Про говорящую ворону, которая вмешалась в нашу беседу…
Прозвонили кремлёвские куранты, и это настроило собеседников на серьёзную тему.
– Ох и подозрительная наука! – вздохнул Мариенгоф.
– Ты это про что, Анатоль?
– Да про историю. Она так же треплется, как товарищи-актёры.
– История?
– Да, история, «Историческая наука». Наивные легковерные люди так её называют.
– Треплется, говоришь?
– Конечно! Превращает в дикую чепуху всякий жизненный факт.
– К примеру, синьор?
– Ну хотя бы об Иисусе Христе. Существовал довольно интересный человек. Слегка эпатируя, он гуманно философствовал в неподходящем месте – в Иудее. Среди фанатичных варваров. Если бы то же самое он говорил в Афинах, никто бы и внимания не обратил. А варвары его распяли. Так поступают во всём мире и в наши дни. Только распинают теперь не на деревяшке, а на газетной бумаге. Разница, в сущности, пустяковая. Возражаешь?
– Нет, не возражаю.
Возражать было трудно после недавнего закрытия Театра имени Мейерхольда, оголтелого охаивания критикой его основателя и руководителя, а затем и «таинственного» исчезновения Всеволода Эмильевича, фигуры в театральном искусстве знаковой. Словом, поговорили…
Мысли вслух. Весна 1947 года была ранней и очень тёплой, несущей надежды и радости, но не Б. Л. Пастернаку: его имя стало часто упоминаться на разных писательских собраниях. 22 марта в прессе появилась проработочная статья. Вскоре была уничтожена уже напечатанная книга его избранных стихов. К счастью, этим преследования ограничились. Через месяц, встретив в Лаврушинском переулке драматурга А. К. Гладкова, Борис Леонидович с облегчением сообщил:
– Решили всё-таки не дать мне умереть с голоду: прислали договор за перевод «Фауста».
В конце июня состоялась вторая встреча писателей. Александр Константинович сидел на скамейке в Александровском саду, когда увидел человека в странной одежде – в плаще песочного цвета из какого-то негнущегося материала. День был жаркий, и человек в плаще выглядел странно. Когда он подошёл ближе, Гладков узнал Бориса Леонидовича и окликнул его. Пастернак подошёл и сел рядом.
Тишина и безлюдье, умиротворяющая природа, душевные волнения последних месяцев, молодой собеседник, с жадностью ловящий каждое твоё слово, располагали к откровенности. Борис Леонидович говорил больше двух часов. Гладков впитывал в себя каждое его слово, а вечером содержание откровений большого поэта предал дневнику. Приводим часть этих записей.
«Вдохновение – это пришедшее в горячке работы главенство настроения художника над ним самим. Это состояние, когда выражение обгоняет мысль, когда выполнение опережает задачу, ответ рождается раньше, чем задаётся вопрос.
В природе словесной речи самой создавать красоту, которую нельзя заранее предусмотреть и задумать. Написав в порыве вдохновения что-то, потом удивляешься, хотя сразу понимаешь, что это тоже твоё; твоё, но оставившее позади самого тебя…
История – это ответ жизни на вызов смерти, это преодоление смерти с помощью памяти и времени. Естественно, что история – это нечто созданное христианской эрой человечества. До нее были только мифы, которые антиисторичны по своей сути. Прикреплённость исторического события ко времени – первый признак этой эры. Миф не прикреплён ко времени…
А можно ещё назвать историю второй вселенной, воздвигаемой людьми по инстинкту сопротивления смерти и небытию. Явление времени и памяти, история – это и есть подлинное бессмертие, поэтическим образом которого является христианская идея о личном человеческом бессмертии…
Меня совсем не волнуют эти иногда вдруг вспыхивающие разговоры об антисемитизме, наверно, потому, что я считаю самым большим благом для еврейства полную ассимиляцию. Расизм – выдуманная теория, нужная для неблаговидной практики. Попробуйте с точки зрения расизма или крайнего национализма понять метиса Пушкина…
Всего дороже мне жизнь, тонущая в жизни окружающих, похожая на них. Я ни разу не испытывал счастья без страстной потребности с кем-то его разделить. И чем больше было это чувство счастья, тем с большим числом людей мне хотелось делить его. Из этой иногда нестерпимой потребности начинается искусство…
Разучиваться в искусстве так же необходимо, как и учиться. Иначе оно начинает хозяйничать над тобой. Может быть, то, что я называю „разучиваться“, явление или процесс, ещё более трудный, чем постижение каких-то умений. Если я сейчас пишу плохо со своей новой точки зрения, то я знаю: это потому, что я ещё не слишком хорошо разучился тому, что я прежде умел…
Когда делаешь большую работу и весь захвачен ею, она продолжает расти и даже в часы отдыха, безделья и сна. Надо только уметь ввериться свободному течению, несущему тебя на своих волнах. Это тоже непросто. По рационалистическому недоверию ко всему бессознательному иногда вместо того, чтобы дать нести себя этому потоку, который сильнее тебя, начинаешь пытаться плыть против течения, тратить силы на ненужные и лишние движения…
Мы не умеем учиться страшному опыту у биографий наших любимых художников. Представим себе только, что Пушкин сумел уговорить Наталью Николаевну уехать с ним в Михайловское и прожил там годы, скрипя гусиными перьями и подбрасывая поленья в трещащие печки. Какое счастье это было бы и для России, для нас! Нас не учат ничьи уроки, и мы всё тянемся к призрачной и гибельной суете. А между тем только в рядовой жизни можно найти подлинное счастье и атмосферу для работы. Помните наш Чистополь? Я всегда вспоминаю его с удовольствием…
Каждый человек по-своему Фауст, он должен сам пройти через всё, всё испытать…
Движение вперёд в науке происходит из чувства противоречия, которое я называю законом отталкивания, из потребности опровержения ложных взглядов и накопившихся ошибок. Такое же движение вперёд в искусстве чаще всего делается из подражания, попытки идти вслед, из потребности поклонения тому, что тебя восхитило…
Есть что-то ложное и фальшивое в позе писателя – учителя жизни. Сравните застенчивую честность Пушкина и Чехова, их простоту и детскость, их скромное трудолюбие с хлопотами Гоголя, Достоевского и Толстого – о задачах человечества и собственной миссии. Я в этом вижу претензию, которая мешает мне наслаждаться их творениями. Высшее в судьбе художника – когда его личная жизнь, жизнь для себя, а не напоказ, не для других, становится благородным примером без нарочитости и торжественных приготовлений. Меня в толстовстве всегда смущала его демонстративная и показная сторона…
Подражательность прописных чувств – вовсе не синоним их общечеловечности…
Иногда я думаю, что искусство, может быть, возникает из потребности человека в компенсации. То есть оно должно внести в жизнь то, чего в ней нет по разным причинам, как организму вдруг не хватает витаминов. Только естественно, что XIX век – Наполеона, Байрона, Раскольникова, век расцвета индивидуальных судеб, век биографий, карьер – инстинктивно тосковал по коллективной душе, по мирской правде, по массовым движениям, от мужицкой сходки, идеализированной славянофилами, и фаланстера раннего коммунизма до унанимизма французской поэзии и идеологии интернационалов. Век же XX – век массовых исторических судорог, век коллективизма всех оттенков, век солдатчины, лагерей, больших городов – невольно, но закономерно тянется к индивидуалистическому искусству, к крайнему субъективизму – та же компенсация…
Нас заставляют радоваться тому, что приносит нам несчастье; клясться в любви тому, что не любишь; вести себя противоположно нашему собственному инстинкту правды. И мы заглушаем этот инстинкт: лжём сами себе; как рабы, идеализируем свою неволю…
Я вернулся к работе над романом[1], когда увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась как очистительная буря, как веяние ветра в запертом помещении. Её беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, искусственного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но всё же пока победила инерцию прошлого. Роман для меня – необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано. Я помню, вы тоже были отъявленным оптимистом во время войны, и я даже с вами спорил, хотя мне хотелось иногда верить вам…
Большие традиции великого русского романа, русской поэзии и драмы – это выражение живых черт души русского человека, как они слагались в истории последнего века. Сопротивляться им – это значит обречь себя на натяжки, искусственность, неорганичность. „Война и мир“, „Скучная история“ и „Идиот“ – такие же признаки России, как берёзки и наши тихие реки. Бесполезно разводить в Переделкине пальмы, этого даже Мичурин не придумал бы. Наша литература – это сконцентрированный душевный опыт народа, и пренебречь им – значит начинать с нуля…
Когда живёшь на каком-то большом душевном настрое, то всё получается хорошо, а хорошее удваивается работой, которая одна сама по себе, без этого настроя, почти бесполезна. Я, как говорят, трудолюбив, но одно лишь трудолюбие не может быть спасением ни от пустоты, ни от посредственности, и той, худшей из всех посредственностей, которая замаскирована в артистическую позу…
Много перечитывал Пушкина. Его письма прелесть. Какое отсутствие позы, какое умение быть самим собой. Это просто поразительно при полной ясности для себя своего масштаба и своей оценки им сделанного, как в „Памятнике“…
Понятие трагедии основано на свободе человеческой воли. Если у человека есть возможность выбора решения, поступка или пути среди других предложенных ему жизнью поступков или путей, то у него появляется чувство моральной или прочей ответственности за свой выбор перед историей или истиной. Когда нет права сравнения решений, нет и трагедии. Выбор своего пути – это современная судьба, без какого бы то ни было фаталистического оттенка…
Как это ни странно, но фатализм или политический мистицизм стал свойствен именно тем, кто называл себя материалистами…»

Б. Л. Пастернак
…В приведённых записях А. К. Гладкова – в основном рассуждения Пастернака о литературе, творчестве и роли писателя в общественной жизни, но есть и выпады политического плана. То есть проходила она на полной откровенности, хотя это было далеко небезопасно в условиях всякого рода кампаний (шельмование М. М. Зощенко и A. A. Ахматовой, борьба с «безродными» космополитами и прочее).
Внутреннее ощущение жизни противоречило её внешним проявлениям, тому, что поэт видел вокруг себя, и он не хотел лгать, не хотел прославлять общественный строй, при котором жил. Отсюда уход в себя и интенсивный труд над романом «Доктор Живаго», который стал смыслом последних лет жизни писателя, не принятого современниками.
К случайности готов. Вскоре после расстрела здания парламента П. С. Грачёва назначили министром обороны России. В первую же годовщину Победы Павел Сергеевич пригласил на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата В. Н. Доценко, с которым довольно близко сошёлся при съёмках фильма о войне в Афганистане. Виктор Николаевич к этому времени выпустил уже две книги из серии о Савелии Говоркове (Бешеном), которые принесли ему широкую известность. Но поскольку славы, как и денег, никогда не бывает много, писатель прихватил свои произведения на торжества 9 Мая. При этом был так предусмотрителен, что на большинстве книг заранее сделал дарственные надписи. Труд его, как говорится, полностью оправдался. От удивления от не слишком уместной «презентации» Ельцин промямлил:
– Виктор, когда ты только успеваешь, понимаешь, всё это… И кино снимать, понимаешь, и книги писать…
Это был успех, на который Доценко не рассчитывал. Конечно, в глубине души он жаждал благосклонности сильных мира сего, но не слишком обольщался на этот счет. Писатель буквально обомлел и только повторял бессвязно и торопливо три слова: «Спасибо, Борис Николаевич!» Даже спустя пять лет после этой встречи Виктор Николаевич находился под её впечатлением:
– Приятно было и то, что Борис Николаевич обратился ко мне на «ты». Читая всяческие откровения ближайшего его окружения, я обратил внимание на то, что все они говорили: «Ко всем президент обращается только на „вы“…» Значит, он как бы меня выделил.
Но вернемся в 1994 год. Одарив президента, Доценко начал раздавать свои «домашние заготовки» направо и налево. Представители высших властей улыбались и благодарили расторопного автора, делая вид, что не замечают несоответствия ситуации месту и времени. Грачёв, правда, вежливо намекнул своему «приятелю» на одиозность его инициативы, посоветовав не мыть руки, а показывать их за деньги. Но писатель находился в таком эмоциональном возбуждении, что отнёс намек к шутке. Главным, что отложилось в его сознании, стал факт «общения» чуть ли не со всем кабинетом министров Российской Федерации.
– 9 Мая я запомнил на всю жизнь, – вспоминал он позднее. – Вероятно, я был первым, если не единственным писателем России, который удостоился чести вручить свои книги с автографом не только самому президенту, а почти всему кабинету министров во главе с B. C. Черномырдиным, а также мэру Москвы Ю. М. Лужкову, но и обменяться с каждым рукопожатием. Жалею до сих пор, что рядом не было человека, который запечатлел бы эти исторические минуты.
Согласимся: случай действительно уникальный, так и напрашивается в Книгу рекордов Гиннесса. Но вот с честью Виктор Николаевич что-то напутал: сомнительно счастье лобызать руки людей, поставивших страну на грань вымирания, низведших великую державу на уровень криминально-колониального придатка Запада. Символично, что упомянутая выше «честь» была оказана писателю на погосте.
Хлеб и поэзия. После длительного путешествия в июле 1920 года Н. Заболоцкий и М. Касьянов (приятель Николая по реальному училищу в Уржуме) добрались до Москвы. Целью их нелёгких странствий был историко-филологический факультет университета. Там их обещали принять, но не могли кормить, а есть семнадцатилетним парням очень хотелось.
– Не помню теперь, – говорил позднее Касьянов, – у кого возникла мысль о поступлении на медицинский факультет, с тем чтобы по вечерам заниматься литературой, а может быть, даже и учиться на историко-филологическом факультете и одновременно на медицинском.
Студенты-медики считались военнообязанными и потому получали паёк, который был по тому голодному времени просто сказочным – полтора больших солдатских каравая хлеба, сливочное масло, сахарный песок, селёдка или вобла. Всё это на месяц. Жили от пайка до пайка.
– После получения всех этих благ, – вспоминал Касьянов, – мы сейчас же, незамедлительно, шли в чайную, резали хлеб, намазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали всё это кипятком. Мы вдвоём съедали за один присест четверть каравая, фунтов пять, не меньше, хлеба.
Паёк улетучивался за полторы-две недели. Дальше жили ожиданием его. Это отразилось в «гимне», сочинённом Заболоцким вскоре после начала занятий в университете:
Утром из чайной
Рано, чуть свет,
Зайдёшь не случайно
В университет.
В аудитории сонной
Чувства не лгут:
На Малой Бронной
Хлеб выдают.
Сбегать не грех.
Очередь там небольшая
Шестьсот человек.
Улица Остоженка,
Пречистенский бульвар,
Все свои галоши
О вас изорвал.
Осень 1920 года была в Москве сухой и солнечной, но начинающий поэт расхаживал по городу в сапогах с надетыми на них галошами, так как подмётки отваливались.
Планы в отношении учёбы на двух факультетах осуществить не удалось – всё дневное время поглощали занятия медициной. Но по вечерам случалось попасть в театр (чаще всего бесплатно). Бывали в кафе поэтов «Домино» на Тверской. Но особенно любили ходить в Политехнический музей на диспуты и литературные вечера. Слушали здесь выступления пролетарских поэтов А. Гастева, М. Герасимова, В. Кириллова. Особенно запомнился В. Маяковский.
В один из вечеров поздней осени Владимир Владимирович читал «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума». Восторженная публика окружила поэта и долго не выпускала его. Маяковский пошутил:
– Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе памятник.
Слушали приятели и поэму «150 000 000» в декламации автора. По этому поводу Касьянов говорил:
– Николай не очень любил Маяковского, но не мог противиться его темпераменту, проявляющемуся во время чтения и особенно во время диспутов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и одобрительно кричал. Но стоило закончиться чтению, как Николай возвращался к обычному сдержанному отношению к Маяковскому.
Однажды, спускаясь по лестнице после окончания вечера, Владимир Владимирович нечаянно наступил Касьянову на ногу. Заболоцкий долго подшучивал над приятелем по этому поводу, советуя сдать отдавленную стопу в музей. При встречах с сокурсниками Николай Алексеевич хватал ногу Касьянова, поднимал её для всеобщего обозрения и возглашал:
– Смотрите, вот эта нога!
Шутили, радовались, а жизнь неумолимо предъявляла свои права. В январе 1921 года у студентов-медиков сняли их особый паёк. Как и все москвичи, они стали получать хлеб по полфунта, потом по четвертушке, а то и по осьмушке. Голодать на ненужном факультете не имело смысла, и вскоре Заболоцкий оставил Москву.
Цилиндр. С. Есенин и А. Мариенгоф стояли у гостиницы «Метрополь» и ели яблоки. Мимо проезжал художник Дид Ладо. Друзья поинтересовались, куда это он направляется с кучей чемоданов. Оказалось, в Петербург. Бросились во весь дух за ним, догнали клячонку и на ходу вскочили на извозчичьи дроги. Дид похвастался:
– В пульмановском вагоне, братцы, в отдельном купе красного бархата.
– С кем? – удивились друзья.
– С комиссаром. Страшеннейший. Пистолетами и кинжалами увешан. Башка что обритая свёкла.
– Дид, возьми нас с собой.
– Без шапок-то? – усомнился художник.
– А на кой чёрт!
– Деньжонки-то есть?
– Не в Америку едем.
Вот и Николаевский вокзал. На платформе около отдельного вагона стоял комиссар. Глаза круглые и холодные, голова тоже круглая и без единого волоска. Мариенгоф шепнул Диду:
– Эх, не возьмёт нас «свёкла».
Но Есенин уже вёл с комиссаром разговор о преимуществах кольта, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор. Проняло! Комиссар взял приятных молодых людей в свой вагон, пил с ними кавказское вино, и спали они на красном бархате.
В Петербурге друзья бегали по разным редакциям. В издательстве «Всемирная литература» Есенин познакомил приятеля с А. Блоком, который поразил Мариенгофа своей обыкновенностью.
На второй день пребывания друзей в Петербурге пошёл дождь, и тут они вспомнили вопрос Дида о шапках. Классический пробор Мариенгофа блестел как крышка рояля. Золотая голова Есенина побурела, и его кудри свисали жалкими клочьями. Побежали по магазинам, но без ордеров на одежду ничего не продавали. Наконец в десятом по счёту краснощёкий немец предложил цилиндры. Выбирать было не из чего. Купили и не пожалели:
– Через пять минут на Невском петербуржане вылупляли глаза, «ирисники»[2] гоготали вслед, а поражённый милиционер потребовал документы.
И в Москве цилиндры имажинистов имели успех. Сохранились их фотографии в этих необычных для суровых лет Гражданской войны головных уборах.
…Для выдающегося дирижёра Н. С. Голованова цилиндр Есенина стал символом его судьбы. Николай Семёнович преклонялся перед личностью поэта, называл его «златокудрым ангелом» и сетовал, что благоуханный и тонкий лирик замучил и осквернил своё «целомудренное дарование – простое и душистое, как лесной ландыш, в омуте грязи и свинства городской, пьяной, угарной жизни». Несовместимость великого печальника земли Русской с его временем Голованов образно называл трагедией цилиндра и лаптя.