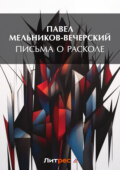Павел Мельников-Печерский
В лесах
И над Голиндухиной могилкой справили обычную службу и над нею пропели канон и кутьей да блинами помин сотворили. Дальше гуськом по тонким кладкам пошли и вышли на дорогу, где их ожидали терзаемые оводом кони.
– Подите-ка вы наперед, – молвила мать Аркадия конюху Дементью и работникам, – а я тем временем переменю одежу. Ишь грех какой! Как изгрязнилась!
Осталась Аркадия с Никанорой да с Марьюшкой головщицей. Давай перины поднимать да узлы развязывать. Достала уставщица чистое белье и запасное верхнее платье. Переодевшись, села в переднюю повозку, а Никанора с Марьюшкой в задние две поместились, и так поехали одна за другой догонять ушедших вперед. Скоро нагнали и по-прежнему разместились. Место возле дороги было посуше; девицы с Васильем Борисычем по-прежнему пошли друг за дружкой по лесной опушке, по-прежнему отдалился московский посол с Парашей, по-прежнему вел ее за белую руку, по-прежнему прижимал ее к сердцу и срывал с губ Параши горячие поцелуи. Ни он ни она ни слова… К чему слова, зачем длинные речи?.. И без того знают, что полюбили друг друга. Не любит русский человек про любовь разговоры водить – молчком все больше…
* * *
Багровое солнце, плывя в серо-желтом тумане, давно уж с полдён опустилось, когда путники наши добрались до Улангера. Чищенина[355] была тут обширная и сплошь покрыта выколосившимся и налившимся уже хлебом. Середь чищенины, со всех сторон окаймленной зеленевшими пожнями, по белоснежному кварцевому песку струилась светлая речка Кóзленец. По одну ее сторону стоял скит Улангерский с десятью обителями, по другую Фу́ндриковский – там было две обители.
Еще до Питиримова разоренья стоял на Козленце небольшой скиток Фундриков, место было затишное, укромное, разоренье не коснулось того скита. Гораздо позже, вскоре после чумного года и пугачевщины, разрослось здесь скитское население – появились новые обители и за речкой супротив Фундрикова. То был Улангер.
До того улангерские келейницы жили верст за сто оттоле в лесах Унженских; там у них был скит большой и богатый. Тем по старообрядству он славился, что немало в нем живало дворянок: чухломских, галицких, пошехонских. В старые годы предки тех «бар», как зовут их в народе, бывали на службах великих государей, верстаны были поместьями и жалованы ими в вотчину. Внуки их, правнуки, засев в лесах, завалившись в болотах, всегда «в нетях бывали», не являясь на государеву службу. Оттого жалованных земель у них не прибывало, а каждого из бар Господь благословлял чадородьем не меньше плодущего рода – попов да дьяконов. Именья дробились, и баре вконец обедняли. Случалось, что у семи дворян бывала одна крепостная душа и два либо три загона дрянной землицы. Жили они беднее крестьян, а чванства и родовой спеси было столько, что с каждого хватило бы на дюжину богатых вельмож. Работать им нельзя, потому что «баре», а служить тоже нельзя, потому что очень уж неотесаны, да и грамоте редкий из них учился. От крестьян отличались только запонкой на рубахе да кружившим ихние головы званием «барина». Народ не уважал бар, смеялся над тунеядцами и сложил про них две меткие пословицы: «бара – по грошу пара» да «семь дворянок на одной кобыле верхом едут». Такие-то баре, вдовые барыни и боярышни наполняли старообрядские скиты, находившиеся от них поблизости. Таков был и Старый Улангер.
Долго там проживали они. Скит Улангерский прославился, дорожили им московские и других городов старообрядцы. «Знайте, дескать, что и меж нас есть родовые дворяне благородные», и щедрой рукой сыпали в Улангер подаяния. И жизнь в том скиту была безопасней и привольнее, чем по другим, – и попы и полиция не так смело к нему подступали.
С умиленьем и гордостью рассказывают скитницы про Старый Улангер. Житие, говорят, было там пространное, широкое, небоязное, порядки добрые, строгие, и помногу беглых попов в том скиту пребывало. И колокольный звон, и крестные ходы вкруг скита и по окольным полям, и свободное отправление погребения с громогласным пением и целым строем попов во всем чину своем – все это бывало в захолустном, забившемся в дремучие леса Улангере и придавало ему блеск и славу по всему старообрядству. И неведомо отчего прогневался Господь на Улангерские обители: в пору необычную, на самое Богоявленье нашла грозовая туча, и молния ударила в главную скитскую часовню. Поднялся вихрь и раскидал полымя по всему скиту; часа через два ничего от него не осталось. Со страха и ужаса по всем сторонам разбежались улангерские матери.
Летом галицкая боярыня Акулина Степановна из рода Свечиных, с племянницей своей Федосьей Федоровной Сухониной, собрала во един круг разбежавшихся матушек, пошла с ними вкупе на иное место и на речке на Кóзленце, супротив старого скита Фундрикова, ставила обитель Спаса Милостивого. По малом времени собрались сюда и другие скитские жители, и ставлено было на Козленце двенадцать обителей, десять женских, две мужские. Дворянского рода белицы и старицы до последнего времени не переводились в Улангере, и хоть этот скит далеко не был так богат, как Комаровский, Оленевский или Шарпанский, но славу имел большую, потому что в нем постоянно привитали бедные дворянки чухломские, галицкие и пошехонские. И каких сказок про них не рассказывали: и близки-то они ко двору, и имеют-то среди царских вельмож близких родственников, и есть-то у них жалованные грамоты, и теми-де грамотами на веки вечные обеспечена неприкосновенность скита Улангерского.
И что было с пошехонскими, галицкими и чухломскими «барами», то сталось и с потомками их, улангерскими келейницами. Сколько было у них бедноты и наготы в сравнении с другими скитами, рассказать того невозможно, а спеси боярской в сотню раз было больше того. Как можно посылать по городам за сборами, как можно канонниц в Москву отправлять? Сама Москва должна двинуться на речку Козленец поклониться скиту дворянскому! Знать никого не хотят – ходят ребром, глядят козырем. На что нам богатство, была бы спесь, была бы перед нами пыль, люди бы перед нами сторонились… Оттого и забеднел скит Улангерский.
В последнее время перестали дворянской славой кичиться в Улангерских обителях. Дворянок осталось там мало; да и те были без зубов, с печи не слезали, доживая на ней долгий век свой. Но старая спесь не совсем вымерла в Улангере – не со многими обителями других скитов тамошние матери знакомство и хлеб-соль водили. Обитель Манефина в славе была и в почете, оттого знались с нею и дорожили знакомством улангерские матери, особенно игуменья самой большой обители, мать Юдифа, из ярославского купеческого рода. К ней-то и взъехали усталые донельзя комаровские богомольцы.
Глава семнадцатая
Девушка, что ловчая птица. Трудно сокола выносить, а перевабишь[356], сам на руку станет летать. Недотрогой-царевной глядела Прасковья Патаповна, выезжая из Комарова, а когда добрались богомольцы до Улангера да разместились по кельям и светлицам Юдифиной обители, красна девица встосковалася: «Где-то радость моя?.. Что-то он, миленький дружочек, поделывает?..»
И Василью Борисычу не сидится на месте. Радехонька была мать Юдифа знакомому уж ей московскому уставщику. Еще когда певчая стая Манефиной обители ездила в Осиповку хоронить Настю, Василий Борисыч, оставаясь в Комарове без дела, побывал у матери Юдифы и много старался склонить ее к признанию владимирского архиепископа.
Усадила Юдифа Василья Борисыча в почетный угол, угощает его и чаем и сластями, заводит с ним речи про австрийских архиереев. Но московскому послу не до посольства. Не архиерей у него на уме, а белые атласные плечи; не владыку Антония он на памяти держит, про то сладко вспоминает, как, гуляя по лесочку рука об руку с Прасковьей Патаповной, горячо обнимал ее, целовал в уста алые и в пухлые, мягкие щеки. И дивится словоохотливая Юдифа его молчанию; отчего это, думает она, то и дело в речах он путается, невпопад на спросы отвечает? Узнав, что Василий Борисыч, ради богомольного подвига, почти всю дорогу пешком прошел – «устал, родименький, притомился, – подумала, – от великих богомольных трудов расстроило его, сердечного».
– Отдохнуть бы вам с дорожки-то, гость дорогой, – молвила Юдифа Василью Борисычу. – После трапезы отдохнуть не вздумается ли?
И кликнув белицу Домнушку, игуменья велела ей постлать поскорее гостю постель в соседней светелке, что была над кельей игуменьиной.
А Домнушка девица молоденькая, собою малéнька, личиком беленька, очи сокольи, брови собольи, глаза с поволокой, роток с позевотой, а девичья краса – русая коса лежит на спине до шелкóва пояса́. Веселая такая была да нежная, а сама чиста, как голубица. Когда впервые Василий Борисыч в Улангере был, облюбовал он эту девицу и почасту с ней втихомолку заигрывал. Обрадовалась теперь Домнушка гостю негаданному, а он ровно и не знает ее; даже не поздоровался. И зарделось с досады белое личико Домнушки, заискрились слезинкой очи звездистые, не того ждала – не того она надеялась, живучи в одиночестве, помышляя каждый день о Василье Борисыче.
Только что Юдифа из кельи вон, на место ее Фленушка.
– Ну что? – спросила она, изо всей мочи хлопнув по плечу погруженного в думу Василья Борисыча.
Тот даже присел от нечаянного удара разудалой девицы.
– Ох, искушение! – вскрикнул он и, едва переводя дух, примолвил: – Совсем исполóшили вы меня, Флена Васильевна! Можно разве этак пугать человека?.. Мало ль что с перепугу может случиться? Медведь и покрепче меня, да и с тем с испугу-то что бывает?
– Ишь незамайка какой!.. – лукаво усмехаясь, молвила Фленушка. – Где таково, Василий Борисыч, изнежничались? В светлой светлице, аль в чистом поле, али в лесочке, срывая цветочки?
– Не знаю, как понимать ваши речи, Флена Васильевна, – сказал Василий Борисыч, будто не понимая ее намеков.
– Речисты уж больно стали вы, Василий Борисыч. С ваших столичных речей, может статься, нам, лесным дурам, плакать придется, – продолжала Фленушка.
– Да что это вы нынче притчами все говорите? Вы бы прямо. Понятнее, – сказал Василий Борисыч.
– Те мои и речи, что птицу кормом, а девушку льстивыми речами обманывают, – с коварной усмешкой молвила Фленушка.
Василий Борисыч ни слова в ответ.
– Сгубили вы ее своими речами, – продолжала Фленушка.
«Ох, искушение!» – подумал Василий Борисыч. Да тут же и вспало ему на ум: «Про какие же речи она говорит? Мы ведь все время единого слова не перемолвили».
– Сидит, разливается-плачет, – молвила Фленушка. – Хоть пошли бы да утешили, покаместь у наших стариц с Юдифой тарабары идут.
– Ох, искушение! – вполголоса сказал Василий Борисыч.
– Нечего таиться-то, – сказала Фленушка, положив ему на плечо руку. – Мы с Парашей душа в душу, она все рассказала…
– Ах, Флена Васильевна!.. Флена Васильевна!.. – только и мог, краснея и глубоко вздыхая, промолвить Василий Борисыч.
– Вот что: теперь, пожалуй, лучше не ходите к ней, – сказала Фленушка, – оченно уж людно здесь, да опять же на нас, на приезжих, много глаз глядят… Вечерком лучше, после заката, – на всполье тогда выходите. Как сюда въезжали, видели, крест большой в землю вкопан стоит? От того креста дорожка вдоль речки к перелеску пошла, по ней идите… Да смотрите, чур не обмануть. Беспременно приходите.
Ни слова Василий Борисыч, одно заветное шепчет он слово: «Ох, искушение!»
– Что ж нашей царевне-королевне велите сказать? – настойчиво спросила Фленушка. – Придете аль нет в лесочке вечерком тоску-горе размыкать?.. Придете аль нет?
– Приду, – смущаясь, едва слышно проговорил Василий Борисыч.
– Ну, ладно… Да вы не бойтесь. Ловкой рукой все обрядим… Сама настороже стану, – лукаво усмехнувшись, бойко и резво проговорила Фленушка.
– Ох, искушение! – опуская голову, молвил Василий Борисыч.
– Погляжу я на вас, – с задорной улыбкой сказала ему Фленушка, – настоящий вы скосырь московский!.. Мастер девушек с ума сводить… Что-то Устюша теперь?.. Ну, да ведь я не за тем, чтоб ее поминать… прощайте, не обманите же… Только что после ужина матери по кельям разбредутся, тотчас к большому кресту да тропой в перелесок… Смотрите ж.
И, как резвая касатка, вон из кельи порхнула.
А вовсе не Парашины речи-желанья Василью Борисычу она говорила. Высмотрев украдкой, что было в лесочке, вздумалось Фленушке и эту парочку устроить. Очень любила такие дела, и давно ей хотелось не свою, так чужую свадьбу уходом сыграть. По расчетам ее, дело теперь выпадало подходящее: влез пó пояс Василий Борисыч – полезет по горло; влезет по горло – по́ уши лезь; пó уши оку́нется – маковку в воду… Того хочет Флена Васильевна, такова ее девичья воля.
* * *
По случаю приезда московского посла и комаровских матерей в Юдифиной обители было большое собрание. Сошлись старицы изо всех обителей.
Досыта наговорились они. Успокоясь от сердечной тревоги, много говорил с ними Василий Борисыч. Толковали об архиерействе, улангерские старицы не были склонны к Белокриницкой иерархии, сомневались в ее чистоте, ересей сокровенных боялись, больше всего смущало их, не обли́ванец ли грек Амвросий. Если обли́ванец – все его архиерейство и священство безблагодатно, и, кроме душевной гибели, от него ожидать ничего невозможно. Василий Борисыч Бога в свидетели приводил, что сам своими глазами видал, как в Эносе, на родине митрополита, греки детей в три погруженья крестят, что там про обливанство слуху нет и весьма им гнушаются, как богомерзкой латинской прелестью. От книг доказывал, что хоть у греков вера от басурманского насилия и стала пестра, но в крещении они нимало не погрешили. Еще больше было речи об опасности, грозившей скитам Керженским и Чернораменским. Юдифа и другая улангерская игуменья, мать Минодора, получили из Петербурга от благодетелей такие ж недобрые вести, как и Манефа. Толковали, вздыхали, охали и тем порешили, что где гроза, там и вёдро. Господь не без милости – пронесет мимо грозную тучу и бедных сирот учинит беспечальны: надо во всем на его святую волю положиться. И то порешили, чтоб на Петров день старицы из Улангерских обителей ехали к матушке Манефе соборовать, что надо делать, что предпринять при таких тревожных вестях.
Солнце меж тем багровело больше и больше, серо-желтый туман застилал лазурь небесного свода и с каждым часом больше и больше темнел. И на земле затуманились дальние предметы: перелесок и фундриковские строенья ровно в дымку закутались. Гарью запахло – значит, пожар разгорался не на шутку, но где, близко ль, далеко ль, не знает никто. Во время лесных пожаров сухой туман и запах гари распространяется иногда на сотни верст от горелого места. Оттого в Улангере и были спокойны – никто не тревожился. «Горит где-то далёко, до нас не дойдет, – говорили келейницы, – а хотя б и дошло, так нам не беда – Улангер не лесная деревушка, чищенина большая, до келий огню не добраться».
Еще далекó не дойдя до края небосклона, солнце скрыло лучи и померкло, опускаясь в непроглядную полосу сухого тумана. Нет вечерней зари, прямо без зари ночью небо покрылось. Повеяло холодком, столь отрадным после зноя длинного июньского дня. Над речкой, на пожнях и болотах стали расстилаться влажные туманы. От гари лесного пожара не белыми они кажутся, а какими-то сероватыми. Бывшие у Юдифы на соборе матери, распрощавшись с комаровскими гостьями, разошлись по обителям. Везде покончили работы, совершили вечернюю трапезу и разошлись по кельям на боковую.
Фленушка уговорила двух знакомых ей девиц Юдифиной обители вместе пойти погулять по вечернему холодку. Те охотно согласились. Сказали Домне, та не пошла, тем отговорилась, что голова у ней разболелась, а в самом деле разболелось у нее сердце. На что ж это в самом деле похоже? В первый раз приезжал – заигрывал, еще побывать обещался, гостинцев привезти, и вдруг ни с того ни с сего – взглядом подарить не хочет… А она ль об нем не думала, она ль не надеялась?.. И очень печалилась нежная Домнушка, но втайне печаль свою сохраняла… Пошли разгуляться Фленушка с Парашей да с Марьюшкой, были с ними две Юдифины девицы: развеселая, разудалая, быстроногая смуглянка Дуня да голосистая чернобровка Варя, головщица правого клироса. Только что вышли на всполье да отошли от келий подале, тотчас за мирские песни, а сами все ближе да ближе к перелеску.
Василий Борисыч из обители вышел, и неспешными шагами идет он к большому кресту. Подошел, остановился, положил перед крестом семипоклонный начал, ровно перед добрым делом… От креста по узкой тропинке к темному лесочку пошел. Фленушка приметила гостя, только что выбрался он на всполье, голос ему подала. Подошел к девицам Василий Борисыч.
В малиновом шелковом сарафане с палевым передником и с белым платочком на голове сидела на траве, окруженная подругами, Параша. Как и всегда, была неразговорчива, но не заметно было в ней ни былой лени, ни прежней сонливости. Пошла ли б она поздней порой в поле, покинула бы разве мягкий пуховик, если б не случилось с ней в тот день, чего отродясь еще не случалось. Узнала горячие объятья, испытала сладость поцелуев и ровно переродилась; взор стал смышленее, лицо думчивее, движенья быстрее. Если б Фленушка с Марьюшкой и ничего не подсмотрели в лесу, они, как опытные девицы, сразу бы, взглянув на Парашу, догадались, отчего такая перемена с ней сталась. Любовь, что огонь либо что кашель: от людей не скроешь.
Фленушка с девицами, ведя затейные разговоры, ушли в глубь лесочка. Увидала Параша, что осталась одна, а Василий Борисыч стоит перед нею… голова у ней закружилась, сердце так и упало… Убежать бы скорей, да с места не встается… Остаться и боязно и стыдно… Однако осталась.
Василий Борисыч возле нее на травку сел и молча взял за руку. Параша ни слова.
Крепко он обнял ее и стал целовать… Ни слова Параша… Отстраняется от поцелуев, но не отталкивает разгоревшегося страстью московского гостя.
И все молчат… А хмелевая ночка темней да темней, а в дышащем истомой и негой воздухе тише да тише. Ни звуков, ни голосов – все стихло, заснуло… Стопами неслышными безмолвно, невидимо развеселый Ярило ступает по Матери-Сырой Земле, тихонько веет он яровыми колосьями и алыми цветами, распаляет-разжигает кровь молодую, туманит головы, сладкое забытье наводит…
Обнял Василий Борисыч Парашу – молчит… Прильнул распаленными устами к ее устам – молчит..
Реет над ними Ярило, кроет любовь их серебристым своим балахоном… Радостно улыбаясь, осыпает их цветами весны, цветами любви, цветами жизни…
Заготовила было Фленушка сон-траву подложить под подушку Василью Борисычу – пусть бы приснился ему вещий сон, пусть бы узнал он судьбу свою, увидал бы во сне свою суженую… Бросила липкий цветок – не надо… Наяву все узнано, не во сне все угадано…
* * *
На другой день путники отправились на прах сожженного страдальца Варлаама. Пристали к ним старицы и белицы улангерские… И все женский пол, из мужчин только Василий Борисыч да еще доживавший свой век в обветшалой мужской обители старец Иосиф.
Тот Иосиф был старожил улангерский. Старше его по жительству в ските никого не было, кроме древней матери Ксенофонты, впавшей в детство и уж больше пяти годов не слезавшей с печки, да матери Клеопатры Ерахтурки, чтимой всем Керженцем, всем Чернораменьем за преклонную старость, за непомерную ревность по вере, за что пять раз в остроге сидела и много ради древлего благочестия нужд и скорбей претерпела. И мать Ксенофонта, и мать Клеопатра Ерахтурка еще с боярыней Акулиной Степановной из Старого Улангера на речку Козленец переехали. Старец Иосиф был из чухломских бар, дворянского роду Горталовых, за ним в Чухломском уезде три ревизские души состояло, две души умерло, третья вместе с барином в обители проживала и над барином своим начальствовала, потому что инок Галактион, по-мирскому Егорка Данилов, крепостной господина Горталова крестьянин, игуменствовал в обедневшей и совсем почти запустевшей мужской Улангерской обители, а старец Иосиф Горталов был при нем рядовым иноком. Хоть пострижен был отец Иосиф, хоть отрекся от мира сего, однако ж барской спеси осталося довольно в нем.
– Егорка, подлец! Чтой-то ты вздумал? Как ты смеешь? – крикнет, бывало, Иосиф на своего игумна, когда тот сделает что-нибудь несогласное с желаньем своего барина.
– Я тебе не Егорка, – строго ответит игумен. – Твой Егорка был да сплыл, аз же, многогрешный, – смиренный игумен честной обители Покрова Пресвятыя Богородицы – инок Галактион. И он тебе приказывает: стань, непотребный раб, на поклоны, сотвори сто великих поклонов, да триста метаний, да пятьсот малых.
И смиряется старец Иосиф, и кладет поклон за поклоном, метанье за метаньем, творя волю крепостного своего игумна. И, ведая таковое смирение старца Иосифа, его похваляли.
Так про него говорили: «Отец Иосиф сын великоблагороден, земных чести и славы отрекся, убогого монастыря во убогой келийце благодарственно нищету и скудость терпит, паче же всего христоподражательным смирением себя украшает».
А в прежние годы, в годы светлой, кипучей молодости, ходок был отец Иосиф. Памятуют о том старушки, теперь черным куколем крытые, апостольником украше́нные, иночеством венчанные. Дó смерти не выйдет из их памяти, как молодыми белицами они во честных обителях житие провождали. То-то был затейник, то-то был любезник молодой чернец – барин Иосиф! Дворянский род много ему помогал. Падки бывали до дворянского рода скитские девицы – всякой облагородиться было лестно. Пролетели года один за другим, старостью поник инок Иосиф. За старину тогда принялся, много книг прочитал, много ученья изведал. Имея быстрый ум и острую память, как книга знал старину, а чего не знал, то вымыслом умел разукрасить. Оттого и желательно было каждому заезжему в Улангер человеку старца того послушать, и сам отец Иосиф любил провести час-другой в беседе с хорошим человеком. Только Москву и тузов ее он не терпел. Не жаловал еще комаровскую уставщицу Аркадию. Какие-то старые счеты с той старицей у него были…
Идет Иосиф всех впереди, рядом с ним Василий Борисыч. Слушает московский посол преподобные речи, не вспоминая про греховную ночь. Фленушка с бледной, истомленной Парашей и свежей, как яблочко наливное, Марьей головщицей следом за ними идут. Люди хоть не дальние, а все-таки заезжие, любопытно и им сказаний Иосифа про улангерскую старину послушать.
– Идем мы благочестно на прах отца Варлаама, – говорил Иосиф. – Добре и нам ныне подвиги его вспомянути. Доблестно пострада воин Христов за правую древлеотеческую веру; себе самого и доблих учеников своих сожжению предавшие, да лестию не обольстят рабов Христовых злые антихриста послы… Ангелы Божии в небесах возликовали, егда воню благоухания сожигаемых обоняли и песнь преподобных во временном сего мира огне слышали. «Изведи из темницы душу мою, мене ждут праведницы» – вот что пели во пламени Христовы исповедники. Таковы по здешним местам в стары годы люди живали, таковы преславные дела здесь бывали. Ныне не то, не те времена!
– Да, – вздохнул Василий Борисыч.
– Ныне не то, – продолжал Иосиф, покачивая седою головой, покрытою старой, побуревшей от времени камилавкой. – Ныне слабость пó людям пошла. Измалодушествовались не токмо мирские, но и те, что ангельский образ приять сподобилися. Повсюду враг Божий плевелы свои обильно сеет, повсюду в сети свои, окаянный, христианские души уловляет. Плача и воздыханий достойно наше время! Иссякла вера, померкла добродетель, не стало истинных рабов Христовых! Обаче Божия благодать и в нынешние последние времена не оскудевает, паче же преизбыточествует. У вас на Москве промеж пузатых лицемеров, агнчую одежду на волчьи телеса вздевших, про здешние чудеса, поди, чай, и не слыхивали, а мы, простии, своими очами их зрели… Чтó ваша Москва? Широкó живет, высоко́ плюет, до Божьего ей нет дела… Вавилон треклятый!..
– Напрасно, старче Божий, такое о Москве рассуждение держите, – вступился московский посол. – Земля грехами преисполнена, Москва на ней же стоит. Праведников, подобных прежним отцам, не видим, обаче ревности по древлему благочестию не лишены. Прилежания к старой вере в московском обчестве довольно. О том по всем странам премного известно.
– Не говори, друг любезный, про вашу прославленную Москву, – горячо сказал Иосиф. – Знаю ее вдоль и поперек. Испокон веку деревенщине была она не любовна… Как в стары годы, так и ныне. Москва что доска – спать широко, да кругом метет… Уты, утолсте, ушире и забы Бога, создателя своего. Не в Москве древлее благочестие – по далеким захолустьям, середь бедного, простого народа… Это так… так… Ты еще молод, Василий Борисыч, не спорь со старым человеком хорошего роду. Су́против старого царского дворянина спорить тебе, мальцу, не доводится. Помни мое слово, не супротивься.
Смолчал Василий Борисыч. Помолчал немного и старец Иосиф, затем такую речь повел:
– От веку дó веку не видать и не знать Москве столь великого подвижника, такового по святоотеческой вере поборника, каков во дни наши среди нас просиял. Многотерпеливый муж и многострадальный, добрыя ревности и спасительного жития, ревностно и благопокорно среди братии служаще, молитвенного и целомудренного пребывания образ был всем хотящим спастися…
– Кто ж это такой? – спросил Василий Борисыч.
– Тезоименит преподобному страдальцу, ему же грядем поклониться, – ответил Иосиф. – Варлаам ангельское имя ему, мирское же Василий Перепелкин, родом из Медыни, хорошего роду старых дворян.
– Расскажите о нем, пожалуйста, отче святый, – сказал Василий Борисыч.
Быстро, но важно взглянув на московского посла, Иосиф торопливо поправил кафтырь и камилавку, съехавшие набок, и стал говорить:
– Когда настал французский год, дивный отец, не стерпя зрети озлоблений иноплеменных, удалился. И шед бегая в пустыню, в здешние леса за Волгу пришел. Прежде поблизости Старого Макарья имел пребыванье в лесах Каменских, Дорогучинских, Ветлужских[357], и только в молитвах и посте подвизался, что сподобился общения со невидимыми грешному миру святыми отцами Нестиарской обители[358].
– Что за обитель? Что за невидимые святые? Не слыхивал я, грешный, про них… – с живым любопытством спрашивал Иосифа Василий Борисыч.
– О Москва, Москва! Высокоумные, прегордые московские люди! – с усмешкой презренья воскликнул старец Иосиф. – Великими мнят себе быти, дивного же Божия смотрения не разумеют. Окаменели сердца, померкли очи, слуху глухота дадеся!.. И дивиться нечему – Нестиар не фабрика, не завод, не торговая лавка, а Божие место, праведным уготованное!.. Какое ж до него дело московским толстопузам?..
– Богом прославленных мест на земле – что звезд на́ небе, – сказал замолчавшему Иосифу Василий Борисыч. – Все такие места одному человеку изведать не можно, а тебе бы, старче, незнающему сказать, неведущего научить, а не Москву бранить. Тут московские люди ни в чем не повинны.
Не ответил Иосиф, но, недолго помолчав, быстро обратился к Василию Борисычу:
– Васильсурск знаешь?
– Как не знать? – живо отвечал Василий Борисыч.
– Задолго до Никоновой порухи было на Руси ляхолетье… – начал рассказ свой старец Иосиф. – Гришка Расстрига на православное царство Литву да ляхов навел. Города, села пожигали, церкви рушили, святые иконы на щепы кололи, всякой святыне ругались. Поднялась заодно с ними некрещеная сила: мордва, черемиса, татаре. Подошла та окаянная сила к Васильсурску. Ратных людей было там мало. Васильгородцы, не чая спасенья, преплывали обонпол Волгу и в лесах от огня и меча укрывались. Ратные же люди вышли из града на врагов, нимало победы не чая, мученический венец прияти желая. Но простер Господь десницу свою, и пред малым числом благоверных воев врознь побежали орды не знающих Бога. Взятая в полон черемиса поведала васильгородцам: оттого-де они побежали, что перед ними на белом коне явился страшный видом чернец и пламенным копием их, врагов имени Христова, поражал немилостиво. Когда ж полонянники восхотели святого крещения и были приведены в васильгородскую церковь, воззрев на икону преподобного отца Варлаама Хутынского, познали старца, пламенным копием их поразивша. Слыша таковое Божие о граде смотрение, васильгородцы Богу хвалу приносили, преподобному Варлааму пели молебны, и все радости были исполнены спасения ради своего града от иноплеменных. По мале же времени многие от них в вере пошатнулись, престали к церкви Божией ходити, поучения от священного чина принимати, и едва сорок человек осталось во граде помнивших Господа и не забывших Бога и святой его веры. И ради того сорока не попустил до времени Господь тому граду погибнуть… Настал праздник Господень, Преполовеньев день. В церковь только те сорок человек пришли, иные ж в бесчинных игрищах и в мирской суете пребывали. И когда по скончании божественной службы благочестивые крестным ходом пошли на Волгу воду святить, двинулась за ними и церковь Божия, пред нею же икона преподобного Варлаама Хутынского шествовала, никем не носима. Когда же пришли ко брегу, Волга-река расступалася, как широкие врата растворялася, принимала в свое лоно людей благочестных, и шедшую за крестным ходом церковь, и по воздусям ходящую святую икону преподобного Варлаама. И всемогущего Бога силою те люди и церковь пренесены за Волгу, в леса, на озеро Нестиар. И до сих пор тамо живут они невидимые в обители невидимой. Все одно, что на Китеже.
– Дивен Бог во святых его, – подняв глаза к небу, с умилением проговорил Василий Борисыч. Поклонясь Иосифу, он промолвил: – Благодарен остаюсь на добром поученье.
– То-то! Благодарен остаюсь! – ворчал отец Иосиф. – У вас на Москве, да и по другим странам, где такие Богом хранимые сокровенные места? Да нельзя и быть им у вас!.. Кто у вас на Москве по старой вере остался? Толстосумы, торгаши, продажной совести купцы! Всем завладали окаянные мытари, завладали и церковью Божьей… Нечего рожу-то косить – правду сказываю… Мзда, неправедные нажитки ослепили!.. Забыв Бога и любовь, им повеленную, всякого норовят обсчитать, рабочего обидеть, своему брату долгов не заплатить. Тот у них за человека не почтен, кто хоть раз на веку по гривне за рубль не платил… подлецы!.. Вот каковы ваши московские столпы старой веры, вот каковы адаманты благочестия!.. А все отчего? Оттого, что в старой вере нашей братьи столбовых дворян никого не осталось. Я чуть ли не последний… А без дворян ни земное царство государское, ни благодатное царство, сиречь церковь святая, стояти не могут… Это верно. Вспомни-ка, кто были древние святые отцы? Все хороших дворянских родов. Москву возьми: святитель Петр из волынских бояр, Алексей митрополит из роду Плещеевых, святитель Филипп из роду Колычевых, Сергий преподобный из радонежских дворян. А теперь кто? Худородные. Спроси у моего Егорки, игумна нашего, отца Галактиона, значит, спроси его – то же скажет, хоть сам и раб и худороден. Ты, Василий Борисыч, много начитан, значит, силу Писания разумеешь, и то, стало быть, ведаешь, что означает стих, поемый на Богоявление Господне.