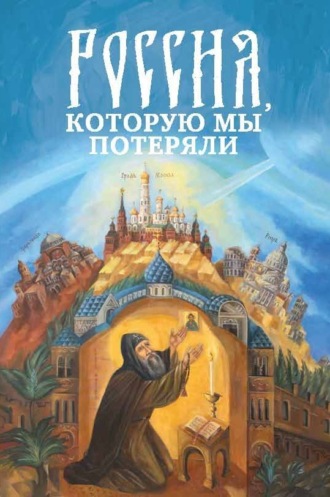
Павел Алеппский
Россия, которую мы потеряли. Извлечения из книги архидиакона Павла Алеппского «Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века»
Не до шуток!
Знай, что ни архиереи, ни вообще монахи отнюдь не пьют водки явно: на них наложен запрет от патриарха, и когда найдут кого пьяным, то бросают в тюрьму, бьют кнутом или выставляют на позор, ибо питье водки – поступок гнусный, может быть хуже прелюбодеяния. Но торговцам, архиерейским служителям и родственникам назначается по две рюмки ежедневно.
Переводчики учили нас всем принятым порядкам, и кроме них решительно никто к нам не являлся, ибо существует обычай, что до тех пор, пока архиерей или архимандрит не представится царю и не будет допущен к руке, ни сам он не выходит из дому, ни к нему никто не приходит, так что и мы совсем не могли выходить из дому. Таков обычай. Наш владыка патриарх никогда не снимал с себя мантии и панагии, и никто даже из переводчиков не входил к нему иначе, как после доклада привратника, чтобы предупредить; тогда мы надевали на владыку мантию – посох же висел подле него – и тот человек входил. Таков устав не только у архиереев, но и у настоятелей монастырей, ибо и они никогда не снимают с себя мантии и клобука, даже за столом, и мирянин отнюдь не может видеть их без мантии.
Тут-то мы вступили на путь усилий для перенесения трудов, стояний и бдений, на путь самообуздания, совершенства и благонравия, почтительного страха и молчания. Что касается шуток и смеха, то мы стали им совершенно чужды, ибо коварные московиты подсматривали и наблюдали за нами и обо всем, что замечали у нас хорошего или дурного, доносили царю и патриарху. Поэтому мы строго следили за собой, не по доброй воле, а по нужде, и против желания вели себя по образу жизни святых. Бог да избавит и освободит нас от них!
Почитание церковного облачения
В стране московитов патриарх никогда не снимает мантии и никто не может его видеть без нее, даже когда он в дороге, дабы он не умалился в их глазах. Также и монахи никогда не снимают своих клобуков, и когда въезжают внутрь страны, тотчас приобретают себе черные мантии и надевают их, ибо без мантии не могут выходить, согласно постоянному обыкновению здешних монахов. А если увидят, что кто-нибудь из них расхаживает без мантии или без клобука, немедленно ссылают его в сибирские страны ловить соболей. Еще прежде, чем мы приехали в Путивль, нам рассказывали, что один сербский митрополит приехал в эту страну. Мы знали его в Валахии: он взял от нашего владыки патриарха письмо, которое дало ему возможность сюда проникнуть. В то время как московский патриарх совершал молебствие за царя, идя в крестном ходу по городу, этот бедняга митрополит, переменив архиерейскую мантию на шерстяную монашескую, пошел немного прогуляться и поглазеть, думая про себя: «никто меня не узнает»; а чужестранного архиерея и других монашествующих лиц не пускают бродить по городу, разве только с дозволения царя для исполнения необходимых дел. Как только он вышел, его сейчас же узнали и донесли патриарху, и он немедленно был сослан в заточение в страну мрака, где есть такие монастыри, что умереть лучше, чем жить в них. Приехав за тем, чтобы получить пользу, он сгубил самого себя – капитал и прибыль.

Казанский собор.
Десять тысяч престолов
В летнее время, когда ночи коротки, звонят к вечерне перед закатом солнца после девятого часа, а к утрене в четвертом часу ночи – это по будничным дням. Накануне воскресений и праздников звонят с вечера до истечения одного часа ночи. По этой причине мы испытывали страшное мученье: не спали по ночам и терпели большое беспокойство. Всего больше нас донимал колокольный звон, от гула которого дрожала земля, в канун воскресений и праздников, кои почти непрерывно следуют друг за другом, равно как и звон на заре, с полуночи до утра, ибо в этом городе несколько тысяч церквей и каждая церковь, даже самая малая и бедная, имеет над дверьми по десяти больших и малых колоколов, в кои звонят в воскресные и праздничные дни и в канун больших праздников, сначала поочередно, а потом во все вместе.
После многих расспросов я осведомился у архидиакона патриаршего о числе церквей в этом городе, и он ответил, что их более четырех тысяч, а престолов, на коих совершается ежедневно литургия, более десяти тысяч, ибо каждая церковь имеет по три и более алтаря. Это весьма радостно для сердца. В Константинополе же и Антиохии, наверно, не было столько тысяч церквей и колоколов.
Николин день
Накануне праздника св. Николая мы слушали малое повечерие в церкви, что внизу соборной. Все уцелевшие в этом городе[6] и его окрестностях[7] мужчины, женщины, мальчики и девочки пришли в эту церковь. Они всегда имеют обычай, приходя в церковь, всякий раз приносить с собою свечи; к каждой приклеивают копейку и ставят свечу пред иконой святого, во имя которого церковь, а также пред иконами, стоящими по окружности церкви.
Есть также обычай: ежели случится, что архиерей передает какую-либо вещь кому-нибудь из мирян, то делает поклон головой тому человеку при передаче, хотя бы то был мальчик или женщина. Также и воевода кланяется нищим, и даже священники кланяются женщинам и детям. Таков их обычай. Они делают поклоны головой друг другу постоянно; таким же образом приветствуют один другого на улице и здороваясь утром и вечером. Все это признак плодов смирения, ибо гордость им совершенно чужда, и гордецов они в высшей степени ненавидят. Так мы видели и наблюдали. Бог свидетель, что мы вели себя среди них как святые, как умершие для мира, отказавшись от всяких радостей, веселья и шуток, в совершеннейшей нравственности, хотя по нужде, а не добровольно.
В полночь ударили в колокола ко всенощному бдению. Мы встали к службе и, войдя в упомянутую церковь, нашли там молодых женщин и девиц, которые раньше мужчин и мальчиков поспешили прийти сюда, имея в руках свечи. Было совершено великое торжество, по любви их к св. Николаю, и так как церковь мала, то большая часть народа стояла вне ее, на сильном холоде, от полуночи до утра, с непокрытою головой, по их обыкновению.
Мы вышли на заре, измученные до изнеможения и от усталости вследствие стояния на ногах и от сильного холода. После четвертого часа дня возвратились к обедне, по обычном звоне в колокола. Служил наш владыка патриарх, совершив сначала водосвятие и окропив церковь и народ, по обычаю. От сильного холода, тогда бывшего, вода в сосуде замерзла, и мы разбивали лед при погружении креста. Владыка рукоположил иерея, и мы вышли от обедни только около солнечного заката.
Нам рассказывали, что во всей стране московской очень торжественно справляют праздник святителя Николая и празднуют три дня с большим ликованием. В городе Москве совершают всенощное бдение в течение всей ночи и идут к обедне только после того, как пробьет 5 часов[8], а выходят лишь к вечеру, перед закатом. Таков их обычай. Таким образом, обед обращается в ужин, ибо в эти месяцы, в декабре и январе, день содержит 6 1/2 часов, а ночь 17 1/2. Солнце в это время восходило с юго-востока и заходило к западу. Все дни в эти два месяца бывают очень темны и мрачны: едва отличишь ночь от дня.
Рождественские праздники
В пятницу, в навечерие Рождества, зазвонили в колокола сначала к часам[9], затем к обедне, от которой все вышли только пред закатом солнца. В воскресенье св. Праотец наш владыка патриарх служил в соборе и посвятил иерея и диакона. В этот день был жестокий мороз, от которого мы леденели, руки у нас трескались внутри меховых рукавов, и мы были не в состоянии высунуть их наружу; ноги отнялись, и мы терпели великую муку. От сильного холода примерзла крышка серебряного кувшина, в то время, когда диакон выливал из него воду. Точно так же вино в своем сосуде приняло вид кружка, как бы кусок камня, и растаяло только на огне. Даже Смешение, св. Дары, замерзло в потире и – о удивление! – стало как камень; когда же налили теплоту, которая была горяча как огонь, вино растаяло. У них принято всегда, что диакон, налив теплоту из кувшинчика в потир, покрывает его большим воздухом, и он остается покрытым. Божественное Тело и антидор также замерзли, стали как камень и не крошились.

Храм Василия блаженного в Москве.
При всем том мы стояли с непокрытою головой от начала обедни до конца, ибо у греков и здесь есть обычай, что священник и диакон постоянно остаются с открытою головой с начала обедни до конца. По этой причине и мы против воли им подражали и делали, как они. Мы выходили от обедни не иначе как слепыми. Бог свидетель, что мы оставались несколько дней лишенными слуха, и у нас в ушах гудело. Если бы мы не отпустили волосы, подобно им, то наверно ослепли бы, но Бог помог нам. Труднее всего было то, что мы выходили от обедни только перед закатом, и когда еще мы сидели за столом, начинали уже звонить в вечерне, мы должны были вставать и идти к службе. Какая твердость и какие порядки! Эти люди не скучают, не устают, и им не надоедают беспрерывные службы и поклоны, причем они стоят на ногах с непокрытою головой при таком сильном холоде, не ропща и не скучая продолжительностью служб, которые до крайности длинны.
Начиная за неделю до праздника Рождества, вплоть до Богоявления бывает в Москве большая ярмарка, то есть продажа и купля всяких предметов. Это есть время дешевизны продуктов у них, ибо они направляются туда из отдаленнейших областей.
На второй день праздника наш владыка патриарх служил в верхней церкви, после того как натопили ее каптуры с вечера, и рукоположил иерея и диакона; в ней же служил на третий день и рукоположил иерея. Когда сделалось известно в стране московской, что патриарх антиохийский рукополагает священников, то поспешили к нему толпами из всех самых далеких, глухих мест и подносили ему подарки: рыбу, масло, мед и проч., вместе с челофита (челобитной), то есть прошением, где умоляли его смилостивиться над ними. Мы немало дивились на новопоставленных священников: только что надев священническое платье, которое составляет верхняя чуха[10] с широким отложным воротником, они выбривают себе на макушке большой кружок по циркулю, приглаживают волосы надо лбом и откидывают их за уши, как делают женщины, так как бреют только макушку; они, казалось, были священниками уже много лет, ибо отличаются статностью.
Знай, что есть такой обычай в этой стране: когда кто из них имеет просьбу к царю, правителю, патриарху, архиерею, священнику или к кому другому, и после усердной мольбы и многих поклонов просьба не принята, то он ударяет головой о землю и не поднимает ее, пока просьба его не будет исполнена. Русские переводчики называли это челобитьем.
Крестный ход на Богоявление
На утро субботы праздника Крещения зазвонили в колокола в третьем часу дня и собрались, по обычаю, все бывшие в городе[11] священники и даже деревенские со своими паствами, пришли в собор и облачались. Затем мы облачили нашего владыку патриарха, и они пошли перед нами величественным крестным ходом попарно, неся большие и малые иконы, причем большие несли двое; диаконы шли с большими крестами, рипидами и фонарями; мы же следовали за ними, пока, выйдя из городских ворот, не пришли к известной реке Москве.
Уже вчера была пробита большая яма вроде бассейна – толщина льда в то время была в 5 пядей, – вокруг нее наложили помост из бревен и досок, поверх льда сделали кругом загородку, из предосторожности, чтобы от народной тесноты на льду он не провалился, как это случалось много раз, и положили мостки из досок от берега до ямы. Деревенские жители выкопали на реке еще множество ям и стояли около со своими лошадьми.
Священники стали в ряд кругом помоста. Для нашего владыки патриарха постлали ковер, на который он стал, и поставили на ковре кресло. Начали службу. При поминовении царей он говорил трижды: «и сохрани, Боже, раба Твоего, царя христолюбивого, князя Алексия Михайловича», и трижды благословил народ. Затем, взяв крест, погрузил его три раза в воду, которая замерзала после каждого погружения, так что приходилось разбивать лед медными кувшинами. Когда он погрузил крест в третий раз, все взяли воды в свои сосуды из пробитых ими ям и напоили своих лошадей. Как мы уже упомянули, народ собрался тысячами из деревень, когда услышал, что антохийский патриарх намерен освятить воду. Затем наш владыка патриарх вышел к мосткам и окропил сначала священников, потом вельмож. О удивление! От сильного холода вода замерзала на щетинном кропиле, коим он окроплял, а также на рукавах саккоса и на их одеждах, принимая вид стекла. От чрезмерной стужи бороды и усы у всех мужчин в толпе побелели, ибо дыхание, от них выходившее, тотчас обращалось в лед, который нельзя было сорвать без того, чтобы не вырвать вместе с ним волос. Солнце в это время сияло. Мы не надеялись, что будем в состоянии выйти из дому в этот день, но Бог нам помог, хотя ноги, руки и носы у нас отнялись, несмотря на то, что мы были защищены двойными меховыми муфтами, надетыми на руки, на ногах имели ботики из бараньего меха, а одеты были в несколько меховых шуб. Всего удивительнее, что все московиты, даже священники, оставались с открытыми головами с утра до нашего выхода от обедни вечером.

Прихожане выходят из храма в Вербное воскресенье
Нам рассказывали, что во всей стране московской особенно торжественно справляют только два праздника в году, именно: Богоявление и Вербное Воскресенье, как мы увидели впоследствии. В царственном граде делают огромный помост над этою рекой, ибо она течет подле стены царского дворца (Кремля). Царь и патриарх вместе с архиереями, настоятелями его (патриарха) монастырей и всеми священниками, кои идут попарно в облачениях, выходят из великой церкви большим крестным ходом к Фодали фрата, т. е. Водяным воротам. Царь следует за ними вместе со всеми вельможами своего государства, идя пешком в короне. Когда начнется служба, он обнажает голову, оставаясь так до конца при здешнем сильном холоде. Нам сообщили, что при прежних царях обыкновенно держали над их головой высокий купол, который несли 30 человек, для защиты от холода и снега; но сей благополучный царь, по своей чрезвычайной набожности, не позволяет этого, а остается с открытою головой, говоря, что холод и снег – милость от Бога, может ли кто отвратить их от царя? При погружении патриархом креста в третий раз бывает большое ликование. Уже раньше прорубается на этой реке множество отверстий, в коих священники тотчас же крестят младенцев и мужчин, ибо этого дня ждут от года до года. Когда патриарх окропит царя, последний возвращается в царских санях, обитых красным бархатом внутри и снаружи, с серебряными и золотыми гвоздями, попона лошади из сорока соболей; она идет в подарок конюху. Потом патриарх окропляет священников и присутствующих вельмож и возвращается с крестным ходом в церковь к обедне.







