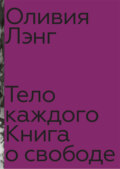Оливия Лэнг
Непредсказуемая погода. Искусство в чрезвычайной ситуации
После нервного срыва, случившегося в 1933 году, она решила отказаться от полумер. Попытка пойти на моральный компромисс едва не уничтожила ее; теперь она должна была полностью сосредоточиться на своем творчестве. Отныне каждое лето она проводила в Нью-Мексико, да и безумная светская жизнь зимой продолжалась без нее. Поскольку она чувствовала себя более счастливой, их отношения со Стиглицем тоже улучшились, хотя он болезненно скучал по ней и жаловался на ее отсутствие в длинных мучительных письмах. Его растущая болезненность сделала зримой разницу в возрасте между ними, но одновременно – и незыблемость связывающих их уз. Одним из величайших талантов Джорджии был дар соединять предметы в уникальные композиции, проявлявшийся как в построении ее картин, так и в том, как она справлялась с головоломной задачей примирения конкурирующих потребностей двух людей.
Ее приютом в те годы стало «Призрачное ранчо», ранчо-пансионат в округе Рио-Арриба. Сначала она арендовала там комнату, а в 1940 году, привязавшись к этому месту, купила маленький глинобитный домик. «Как только я увидела его, тут же поняла, что он должен стать моим», – говорила она, а в письме Артуру Даву добавила: «Вот бы ты увидел то, что я вижу из окна – земля с розовыми и желтыми скалами на севере – полная бледная луна, готовая спуститься, на раннем утреннем лавандовом небе ‹…› розовые и пурпурные холмы впереди, и низкорослые, тоненькие бледно-зеленые кедры – и ощущение огромного пространства: Этот мир прекрасен».
Ей нравилось подыскать мотив, а потом на время забыть о нем, она проводила по нескольку дней подряд на природе, вдали от дома, делая наброски на заднем сиденье своего «форда». Возвращаясь зимой на Манхэттен, она писала по памяти, отбрасывая все, кроме самого главного, пытаясь передать самую суть: аромат полыни и кедров или возникающее на закате ощущение, будто небо – такое далекое – вдруг как по волшебству стало близким, и можно взобраться на него по лестнице.
В мае 1946 года О’Кифф стала первым художником-женщиной, чья ретроспектива прошла в Музее современного искусства. Летом того же года у Стиглица случился сердечный приступ. О’Кифф решила остаться на «Призрачном ранчо», когда его доктор сообщил ей об этом. Казалось, он поправляется, когда случился новый серьезный приступ. Времени на сборы не было. Самолет, а потом дежурства у постели, по очереди с ненавистной Дороти Норман.
Он умер на рассвете 13 июля, и Джорджия похоронила его в обычном сосновом гробу. Гроб был обит розовым атласом, и ночь перед похоронами она провела, сдирая его и заново обивая белым полотном. Изящный анекдот, хотя к этому можно было бы добавить, что она отказалась кремировать Стиглица вместе со своими акварельными «Синими линиями», как он просил ее за год до случившегося, и что в дни скорби, последовавшие за его смертью, она позвонила Норман и запретила той когда-либо появляться в галерее.
⁂
«Когда вы приближаетесь к ним, они похожи на стадо слонов – серые холмы примерно одинакового размера с почти белым песком у подножий», – описывала О’Кифф так называемую Черную местность, отдаленную гряду пепельных холмов, вдохновлявших ее сильнее любого другого места. В созданных там картинах геологическая форма приближается к порогу абстракции: сомкнутые холмы разбиваются на осколки серого и багрового, разделяются на две группы желточного цвета трещинами или маслянисто-черными потеками.
Холмы, похожие на слонов, – звучит отголоском Хемингуэя: есть в картинах О’Кифф что-то от его стремления к краткости, от желания стереть всё лишнее, передать эмоции, не выражая их прямо. Она писала очень плоско, делая поверхность картины настолько гладкой, что по ней, как она однажды выразилась, можно было кататься на роликах. При этом легко впасть в безвкусицу, но ей удавалось создавать – в «Черной местности» (1943), например, – строго организованные структуры, трепещущие от невысказанных чувств.
Разобравшись с наследием Стиглица, О’Кифф навсегда уехала из города, чтобы соединиться с этой мистической местностью. За несколько месяцев до смерти мужа она приобрела в Абикиу дом за десять долларов. На его восстановление ушло десять лет, и основная часть работы была выполнена ее подругой и экономкой Мэри Чабот. После завершения интерьер напоминал полость раковины. Комнаты остались почти пустыми – только монашеская кушетка и длинный непокрытый стол, словно подвешенные в выбеленном пространстве.
Элегантность граничит с чудачеством, независимость – с эгоизмом, и О’Кифф была далеко не святой. С возрастом она стала еще раздражительнее и часто срывалась на друзей и помощников. Вместе с тем она создала сад посреди пустыни, вела плодотворную жизнь, наполненную тяжелой напряженной работой, и была всегда готова взяться за новую тему. Последнюю большую серию она создала в середине шестидесятых годов: небо над облаками – вид, открывшийся ей из иллюминатора самолета и приведший ее в восторг. Это самые странные среди ее картин, почти детские по простоте цвета и формы: белые облака, плывущие наподобие листьев кувшинки в упоительном розово-голубом просторе.
Проживи достаточно долго, и есть шанс, что станешь кумиром молодого поколения. В 1970 году прошла значительная ретроспектива О’Кифф в Музее Уитни. И снова успеху сопутствовал серьезный удар судьбы. «Я была в городе и собиралась домой, – рассказывала она Уорхолу. – И вдруг мне подумалось – солнце такое яркое, но всё кажется таким серым». Серость была началом дистрофии сетчатки, которая сначала лишила ее возможности писать, а потом и видеть.
А потом объявился незнакомец, привлекательный молодой мужчина, хотя, как и бывает в сказках, ему пришлось сделать три попытки, прежде чем его приняли. Хуан Гамильтон был двадцатисемилетним бродягой с творческими амбициями. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они сблизились. О’Кифф души не чаяла в Гамильтоне, поощряла его занятия керамикой и допускала всё возрастающий контроль с его стороны над своими финансами, своими домами и своими дружескими связями.
В 1978 году она подписала незасвидетельствованный документ, по которому Гамильтон становился ее доверенным лицом, вскоре после чего он приобрел на ее имя особняк и три «мерседеса». А когда 6 марта 1986 года в возрасте девяноста восьми лет она умерла, выяснилось, что Гамильтону досталась бо́льшая часть ее имущества, хотя в предыдущих версиях завещания почти всё должно было быть перечислено на благотворительные пожертвования.
Позже всплыла неприятная история, которую рассказала ее помощница по дому. По ее словам, в день, когда было подписано последнее завещание, О’Кифф ждала, что Гамильтон женится на ней: оделась в белое и окружила себя цветами, не понимая, что подписывает. Семья обратилась в суд, и после сложных переговоров Гамильтон согласился передать значительную часть имущества на создание некоммерческого Фонда Джорджии О’Кифф.
Неприятный конец, что и говорить; но, возможно, он позволяет понять, какого колоссального контроля требуют простота, элегантность и покой. Без острых глаз, острого языка и взыскательности Джорджии О’Кифф над ее миром нависла угроза хаоса. Она воплотила их в жизнь, те простые сюжеты, которые далеко не просты, открыв двери для новых образов своей страны и нового образа жизни женщины. «Самое важное – делать неизвестное известным, – сказала она, – и всегда сохранять что-то неизвестное для других».
Близко к ножам: Дэвид Войнарович
март 2016
Вы можете не знать имени американского художника и активиста Дэвида Войнаровича, но если вам достаточно лет, то вы, вероятно, видели по крайней мере одну из его работ. Фотография падающих с обрыва бизонов была использована для обложки сингла «One» группы U2 и познакомила массового зрителя с творчеством этого художника за несколько месяцев до его смерти в 1992 году от осложнений, вызванных СПИДом. Войнарович умер, когда ему было всего тридцать семь лет, но после него остался огромный корпус работ, что особенно поражает, если учесть неблагоприятные обстоятельства его короткой жизни. В прошлом – уличный мальчишка, бежавший из дома, чтобы спастись от насилия в семье, затем – подросток, занимавшийся проституцией, в лихорадочные восьмидесятые он превратился в одну из звезд художественной сцены Ист-Виллиджа наряду с Кики Смит, Нан Голдин, Китом Херингом и Жан-Мишелем Баския.
Известность ему принесли картины – злые, глубоко символические образы, воплощения своего рода американской мифологии XX века. Но он занимался не только живописью. Его первой серьезной работой стала созданная в начале 1970-х годов захватывающая серия черно-белых фотографий человека в бумажной маске с лицом поэта Артюра Рембо. Этот энигматичный, бесстрастный персонаж, обездоленный фланер, бродит по пирсам и закусочным Нью-Йорка.
В последующие годы Войнарович работал над фильмами, инсталляциями, скульптурами, перформансами и текстами, создавая произведения, которые свидетельствовали о его позиции аутсайдера – гомосексуалиста в мире гомофобии и насилия. Одна из самых выдающихся и выстраданных среди этих работ – книга «Близко к ножам», сборник автобиографических эссе, впервые изданный в Америке в 1991 году. Мемуары распада, назвал он их, отсылая одновременно и к их фрагментарной, коллажной структуре, и к очерчиваемому ими ландшафту: пространству потерь и опасностей, скоротечной красоты и сопротивления.
Войнаровичем двигало желание задокументировать недокументированное, зафиксировать и засвидетельствовать то, с чем большинство людей никогда не сталкивается. Маленьким мальчиком он вместе со своими братьями и сестрами был похищен отцом-алкоголиком. Отец жестоко избивал их, пока соседи ухаживали за своими цветами и косили свои лужайки в пригороде Нью-Джерси. Позже, во время эпидемии СПИДа, он видел, как его лучшие друзья умирают мучительной смертью, в то время как Отцы Церкви разглагольствуют о вреде сексуального просвещения, а политики отстаивают необходимость изоляции больных на островах.
Это наполняло Войнаровича яростью и ожесточением, опустошало его: «…меня тянет блевать оттого, что мы должны молчать и покорно жить в этой машине убийства под названием Америка и платить налоги тем, кто медленно убивает нас, и я поражен, что мы еще не выплеснули свой гнев на улицы, что после всего этого мы еще способны проявлять любовь».
«Ножи» начинаются пронзительным эссе о бездомных годах Войнаровича: мальчика в очках, продающего свое щуплое тело педофилам и подонкам, слоняющимся по Таймс-сквер. Он вспоминает дни, проведенные на раскаленных улицах Манхэттена, когда был так измотан и настолько оголодал, что у него начались галлюцинации, в которых он видел крыс с детскими ручками и ножками в зубах. В юности Войнаровича вдохновляли битники, и их неровный, шероховатый тон звучит во всех его работах, передающих крикливую атмосферу улиц с энергией, которая напоминает «Город ночи» Джона Речи или «Дневник вора» Жана Жене.
У него ушли годы на то, чтобы избавиться от кошмара бездомности, но на протяжении всей его жизни улицы одновременно влекли его как пространство свободы и естества. В прекраснейших из своих эссе он часто описывает прогулки по заброшенным пирсам в Челси в поисках секса в огромных запущенных комнатах, раскиданных вдоль замызганной набережной Гудзона. «Как просто, – пишет он, – описать ночь в комнате, полной незнакомцев; лабиринт коридоров, где, как в фильмах, легко заблудиться; тела, раздробленные игрой света и тени; постепенно затихающий гул самолетных двигателей».
Если твои желания вне закона, что это значит? Страх, разочарование, ярость – да, но еще и пробуждение политического сознания, плодотворной паранойи. «Моя гомосексуальность, – написал он однажды, – стала клином, постепенно отделявшим меня от больного общества». В эссе под названием «В тени американской мечты» он описывает, каково это – так жить и понимать, что «некоторые из нас рождаются под прицелом винтовки; с мишенью, отпечатанной на спине или на башке». Однажды во время путешествия на машине через пустыни Аризоны он подцепил незнакомца, которого встретил в туалете Аризонского кратера. Они ехали по подъездной дороге, обнявшись: двое мужчин, ласкавших тела друг друга, и каждый краем глаза косился на ветровое стекло и в зеркало заднего вида, следя, не покажется ли вдали маячок полицейской машины; каждый из них знал, что их страсть может закончиться тюремным заключением и даже смертью.
⁂
И смерть пришла, в самом жестоком обличье, какое только можно себе представить. Слепой ужас жизни во время эпидемии: «люди, просыпающиеся с болезнями мелких птичек или млекопитающих; люди, чьи лица полностью почернели от рака, в одиночестве поедающие в ресторанах полезные салаты». Друзья умирали, один за другим: «…пейзаж распадался, часть за частью, и на его месте я возвел монумент, созданный из любви и ненависти, печали и смертельной ярости».
Центральное эссе в «Ножах», давшее название всей книге, посвящено болезни и смерти Питера Худжара, бывшего любовника Войнаровича, его лучшего друга и наставника, «моего брата, моего отца, моей эмоциональной связи с миром». Ничто из прочитанного мной прежде не сравнится с этим эссе по ярости и печали, по пронзительному ужасу того, кто вынужден смотреть, как его любимый бьется в конвульсиях преждевременной смерти. В то время не существовало надежного лечения для больных СПИДом. Войнарович описывает кошмарную поездку с истощенным, взбешенным Худжаром на Лонг-Айленд к врачу, утверждавшему, что хорошие результаты дает вакцина от тифа. Как выяснилось, он был шарлатаном, хотя в его приемной побывали десятки отчаявшихся больных СПИДом.
Худжар умер 26 ноября 1987 года. Стоя у тела, со своей всегдашней решительностью Войнарович зафиксировал его смерть в двадцати трех фотографиях «его поразительных ног, его головы, его приоткрытых глаз», прежде чем беспомощно поднять руки и сдаться. Раздавленный горем, он посвятил себя противостоянию смерти, особенно после того, как через несколько месяцев узнал о собственном диагнозе. В молодости он был склонен к саморазрушению, баловался героином, относясь к себе с полным пренебрежением. Теперь он хотел преодолеть эти темные импульсы, понять их причину.
В огромном финальном эссе «Самоубийство гея, однажды построившего изысканный храм над мышиной норой» он исследует самоубийство друга, перемежая собственные размышления интервью с их общими приятелями. И снова это замечательный текст – самоотверженное, бескомпромиссное противостояние смерти. Он заканчивается беспощадным описанием боя быков в мексиканском городе Мерида. Заклинанием, отсчитывающим время, подобно звону курантов: «Почувствуй запах цветов, пока еще можешь». Кажется, это не так сложно, пока не вспомнишь, сколько враждебных сил ополчилось против любви и здоровья, какая смелость нужна, чтобы наслаждаться жизнью.
⁂
Среди голосов других маргиналов голос Войнаровича звучит особенно мощно, со всей силой страсти. Хотя «Близко к ножам» – не просто обличительная речь, и уж подавно не сухой политический анализ. Это невероятно живой гибрид: радикально честное произведение, которое обращается к самому интимному опыту, главным образом сексуальному, как к способу вскрыть разрушительные последствия ситуации, когда политические системы стремятся подавить и лишить голоса всех несогласных.
«Это изматывает – жить в обществе, где люди не решаются высказаться о том, что не угрожает непосредственно им самим». Войнарович стремился привлечь внимание не только к собственному опыту. Политизируя свою сексуальность, насилие и невзгоды, он был внимателен к любому, чья жизнь была сброшена со счета тем, что он называл «предзаданным миром» или «одноплеменной нацией». На страницах «Ножей» он постоянно затрагивает и другие проблемы – от полицейского насилия по отношению к цветным до ограничения прав на аборты.
Прошло двадцать четыре года с тех пор, как Войнарович умер, но его борьба не потеряла актуальности по сей день. Нам хочется думать, что с появлением антиретровирусной терапии, однополых браков и прочих либеральных завоеваний двух последних десятилетий задокументированному им миру пришел конец. Но те силы, против которых он выступал, всё еще живы и настроены еще более враждебно. Даже его старые враги вернулись в строй.
Тед Круз в своем выступлении, посвященном его регистрации в качестве кандидата в президенты, восхваляет покойного сенатора Джесси Хелмса, активно выступавшего против федерального финансирования художников-гомосексуалов (Войнарович был его главной мишенью). А Хилари Клинтон вызвала всеобщее негодование, заявив на похоронах Нэнси Рейган, что благодаря чете Рейган начался национальный диалог о СПИДе, «когда никто еще не говорил об этом». Да ладно! На самом деле администрация Рейгана, как известно, долгое время отказывалась замечать проблему распространения СПИДа, и это молчание привело к ужасным последствиям.
Лозунг активистов борьбы со СПИДом ясно дает понять: «Молчание = Смерть». С самого начала его жизни Войнаровичу затыкали рот сначала отец, а потом общество, в котором он жил: средства массовой информации, где ему не давали слова, суды, принимающие законы против него, и политики, считавшие его жизнь и жизни тех, кого он любил, расходным материалом.
В «Ножах» он настойчиво объясняет, что занялся искусством, потому что хотел создавать объекты, способные говорить – свидетельствовать о его существовании после того, как его не станет. «Возможность вынести вовне объект или текст, содержащие нечто невидимое в силу юридических норм или принятых в обществе социальных табу, позволяет мне чувствовать себя не таким одиноким, – писал он. – Это что-то вроде куклы-чревовещателя; единственное различие в том, что произведение искусства может говорить само по себе или действовать наподобие магнита, притягивая тех, кто вынужден хранить это молчание».
Клинтон извинилась за свое утверждение на похоронах Нэнси Рейган, но это не до конца успокоило вызванное ею негодование. В считаные часы после ее выступления по социальным сетям разошлась фотография. На ней изображен долговязый человек, стоящий спиной к нам, в джинсовой куртке, на которой вручную нарисован розовый треугольник с заключенными в нем словами «если я умру от СПИДа – забудьте о похоронах – просто положите мое тело на ступеньки F.D.A.» (Food and Drug Authority [Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов], в те времена не спешившее с исследованиями СПИДа).
Разумеется, это был Войнарович: он снова нашел способ быть услышанным и бороться с ложью. Незадолго до смерти он сделал фотографию собственного лица – глаза закрыты, зубы оскалены – среди пустыни, почти полностью погребенного под землей; вызов, брошенный в лицо смерти. Если молчание равносильно смерти, как он учил нас, тогда искусство равносильно речи, а речь – жизни.
Очень много света: Сарджи Манн
январь 2019
Мне нравится эта комната. В ней есть неопределенность – небольшой лайтбокс высоко над морем, не то чтобы открытый, не то чтобы замкнутый. Люди – видимо, всё те же четверо, пятеро или шестеро человек – собрались здесь в купальных костюмах, опустились на мятного/светло-желтого/оранжевого цвета диван, завернувшись в белое полотенце, или поправляют волосы. Девушка в черном бикини стоит на коленях у окна, опершись локтями на подоконник. Солнце ласкает ее лодыжки, отбрасывает розоватые блики, роняет длинную тень через всю картинную плоскость.
У комнаты необычная конфигурация, которую Сарджи Манн в одной из своих магнитофонных записей назвал очень волнующей. В нее ведет лестница. Там нет двери, лишь открытая балюстрада. Иногда кто-то приближается, обычно это мужчина в белой рубашке и шляпе. Все эти картины многим обязаны Матиссу; каждая могла бы называться «Роскошь, покой и наслаждение», и не только из-за повторяющейся архитектуры бесконечных бассейнов, дорогих хлорированных прямоугольников, заключенных в ультрамариновую рамку. Они свидетельствуют о щедрых радостях света и пространства, о праздных минутах между купанием и пивом, когда все стекаются в одну и ту же маленькую комнатку, чтобы провести время вместе.
Сарджи Манн начал работать над серией картин, которую он иногда называл «Маленькая гостиная» или «Бесконечный бассейн», в 2010 году и не оставлял эту работу все последние пять лет своей жизни. За пять лет до этого он полностью ослеп, когда отслоившаяся сетчатка в левом глазу лишила его остатков зрения. У него всегда были проблемы со зрением, которое постепенно ухудшалось на протяжении десятилетий, начиная с 1972 года, когда у него обнаружили катаракту. Хотя для художника это должно было стать катастрофой, он смог компенсировать ухудшение зрения. Начать с того, что ему приходилось всматриваться внимательнее, чем это требуется большинству людей, чтобы различить все элементы той или иной сцены – глубину, цвет, геометрию, свет, – не полагаясь на моментальность вводящего в заблуждение идеального зрения с его упрощениями и очевидными искажениями, к которым прибегает мозг, вынужденный справляться с постоянным потоком визуальной информации.
Энни Диллард в своем эссе «Зрение» (1974) с энтузиазмом описывает историю группы людей, живших в XIX веке, которые были слепы с рождения, а потом обрели зрение после операции по удалению катаракты. Их мозг не умел интерпретировать визуальную информацию, поэтому какое-то время они видели мир в необработанном и неупорядоченном виде: плоские, лишенные глубины пятна цвета, некоторые яркие, а другие настолько темные, что казались дырами. Деревья светились, как языки пламени; у каждого посетителя было абсолютно неповторимое лицо. Если бы кто-нибудь дал им кисти, пишет Диллард, «возможно, все мы тоже смогли бы увидеть пятна цвета; мир, освобожденный от оков разума».
Как и Моне, один из самых любимых его художников, Манн страдал от желто-коричневого типа катаракты, а значит, после ее удаления его мозг продолжал компенсировать ослабление холодных оттенков. На протяжении нескольких недель синие, зеленые, фиолетовые и пурпурные оставались почти мучительно насыщенными – «пещерой Аладдина» повышенной визуальной интенсивности, которая стала источником по-фовистски ярких линий и полос в его пейзажах того периода. Через несколько лет, в Индии, всё внезапно окрасилось в удивительные абрикосовые, мармеладно-зеленые и сиренево-розовые оттенки.
Порой он видел спектральные ореолы; когда его зрение совсем ослабло, он писал картины по частям, глядя на них в телескоп, выданный ему в офтальмологической клинике Мурфилдс. Аудиодневники и коллажи из увеличенных фотографий заменили ему альбомы с набросками. Страдая от отека роговицы, он брал с собой в Национальную галерею фен, включал его и невозмутимо сушил свои мокнущие, слезящиеся глаза, чтобы смотреть на картины. Он всегда находил способ приспособиться, найти преимущества или компенсировать потери от происходивших с ним перемен.
Тем не менее полная слепота могла бы поставить крест на его занятиях живописью (он с горечью подумывал о скульптуре), не будь его голова наполнена образами будущих картин. За два дня до отслоения сетчатки он вернулся из поездки в Кадакес, рыбацкую деревушку в Северной Испании, где с помощью своего сына Питера искал новые мотивы. В аудиодневниках, записанных там, в его голосе слышится волнение пополам с удивлением, когда перед ним, постукивающим при ходьбе своей белой тростью, вдруг открывался вид, наполненный сложными и яркими красками, – как раз такой, какой он мечтал написать.
Бесцельно слоняясь по своей мастерской во мраке, который теперь стал постоянным, он вспомнил об оставшемся у него натянутом холсте. Может, попробовать? Краски на его палитре всегда располагались в одном и том же порядке. Он редко предварительно смешивал цвета – предпочитал наносить лессировки или наслаивать краски прямо на холсте. К его удивлению, всё оказалось не так уж и сложно. Он умел играть в шахматы вслепую, и это было примерно то же самое. Главное – выстроить образ у себя в голове, затем произвести тщательные замеры с помощью трости и создать своего рода тактильную карту или предварительный рисунок из кусочков клейкой массы «Blu Tack», прежде чем накладывать краску. «Да, это было нелегко, – сказал он, – но это всегда было нелегко».
Вскоре появились картины с видами Кадакеса – серия, кульминацией которой стали «Черные окна» (2006) с их странной, расходящейся, сбивающей с толку перспективой. Темную фигуру, которая смотрит из света в черноту, можно было бы счесть метафорой, если бы многочисленные детали не отвлекали от подобного прочтения – сочные, почти абстрактные пласты красок «Schmincke» – пурпурной, изумрудно-зеленой и охристо-желтой. Как писал Ван Гог своему брату Тео в 1882 году, «по-прежнему на всё падает очень много света».
В начале 1960-х годов Манн учился у Фрэнка Ауэрбаха и Юэна Углова и сформировался как художник под влиянием Лондонской школы, но до поступления в художественный колледж готовился стать инженером. Теперь он использовал приобретенные тогда навыки, а также весь свой жизненный опыт, накопленный за годы прогрессирующей потери зрения. Он пытался делать то же самое, что делал всегда: найти способ перевести трехмерный мир в два измерения; представить искривления пространства на плоскости; сжать его, избежав при этом искажений; добиться убедительности не за счет натурализма, а скорее путем верной передачи впечатления от увиденного. Подобно Боннару, он изредка писал с натуры. Делать это в полной темноте было сложно, но – с тростью для измерений в руках – все-таки возможно.
После серии картин с видами Кадакеса ему было нелегко взяться за что-то новое; пейзажи Португалии или Италии стали для него недоступны. Какое-то время он писал свою жену Фрэнсис, сидящую в кресле, работая при этом исключительно на ощупь. В ходе работы над этими картинами он понял, что больше не скован реальным цветом предметов. «Вот дурень, – сказал он сам себе, когда встал, чтобы накрыть безобразный коричневый стул белым чехлом, – ты же его не увидишь. Ты можешь сделать этот стул любого цвета, какого твоя душа пожелает». Раз он больше не мог видеть цвета, не нужно было стараться точно воспроизвести их, можно было оперировать чисто декоративными колористическими созвучиями. Наконец-то его картины могли быть такими насыщенными, как он хотел.
Оставалась проблема сюжета. Еще в 2001 году он обустроил гостиную на втором (верхнем) этаже своего дома в Саффолке, со стеклянной стеной с одной стороны. Ему всегда казалось, что это идеальное пространство для занятий живописью. Свет падал под разными углами, а лестничный проем казался странной черной дырой. Как-то раз, 4 сентября 2008 года, он зашел сюда из своей мастерской за свитером и, задержавшись на лестнице, с удивлением понял, что очертания балюстрады и ступеней очень похожи на террасу Боннара в Ma Roulotte[10].
Манн был очень увлечен Боннаром. В 1966 году он двадцать четыре раза побывал на его ретроспективе, проходившей в Королевской академии художеств, а в 1994-м стал сокуратором выставки «Боннар на вилле Le Bosquet» в Галерее Хейворда. Его привлекало не только свободное, интуитивное использование цвета, но и неожиданные пространственные решения, в частности «широкоугольные» построения Боннара, раз за разом побуждающие задуматься о том, сколько всего можно втиснуть в картину (обычный угол поля зрения равен шестидесяти градусам; Манн обнаружил две картины, которые охватывали «невероятные» сто тридцать градусов). Сам Манн тоже всегда старался расширить поле зрения, чтобы захватить периферию взгляда.
Всё еще стоя на лестнице, он стал с воодушевлением записывать свои слова на магнитофон, шаг за шагом приближаясь к совершенно новому подходу. Представил картину. Почувствовал, что двигаюсь в этом знакомом, волнующем пространстве лестничного пролета. Из окна видно море. Пространство и архитектура снаружи вызывают множество воспоминаний. Нет никаких причин отказываться от этого. Весь этот шум моря. Очень волнующе.
Преимущество гостиной заключалось прежде всего в том, что она была маленькой. Он мог заполнить ее реальными, знакомыми ему людьми: своей женой, своими сыновьями и дочерьми, стоящими или сидящими на таком расстоянии, чтобы он мог прикоснуться к ним кончиками пальцев. Стены, ступени: он мог в точности представить себе их расположение. Мог, по его собственному выражению, «отвечать» за это. Но с тем, что происходило снаружи, можно было обращаться более свободно. Как с цветом, так и с пейзажем: раз он больше был не способен что-то воспринимать, то имел полное право это выдумать.
В 1940-е годы маленьким мальчиком Сарджи любил строить шалаши и укрытия. Удовольствие от создания пространств, из которых можно наблюдать за миром, самому оставаясь невидимым, стало еще более острым после того, как его отец, с которым он не ладил, вернулся с войны. Иногда те детские забавы оживают в картинах с «Маленькой гостиной»: ощущение безопасного пространства, одновременно замкнутого и открытого, с многочисленными аварийными выходами. Луиз Буржуа, независимо от Манна, передала похожее удовольствие от уединения в серии скульптурных инсталляций «Клетки», которые описывала как «места, куда можно удалиться, куда требуется удалиться, чтобы найти временное убежище».
Как ни странно, слепота принесла Манну свободу, и не только в отношении его колорита. Раньше он всегда избегал фигур, предпочитая безлюдные пейзажи, в лучшем случае изображал людей на большом расстоянии или расплывчато. Теперь он был вынужден обратиться к человеческому телу. После того как он ослеп, ему требовалось прикасаться к фигурам, а значит, они должны были находиться рядом (особенно учитывая немалый вес его холстов) и, соответственно, увеличиться в размере, заняв значительную часть картинной плоскости. Как и в случае с картиной Боннара, на которой его жена вытирается полотенцем в метре или полутора метрах от своего мужа, близость фигур требовала решения задач построения перспективы, не в последнюю очередь связанных с желанием избежать искажений, сохранить реалистические анатомические пропорции.
И так же, как в случае с женой Боннара, близость тел в поздних картинах Манна оказывает на зрителя эмоциональное давление, поскольку обычно нам некомфортно на такой дистанции с другими людьми, тем более почти обнаженными, если только мы не находимся с ними в близких отношениях. Однако это давление, потенциально чрезмерное, уравновешивается за счет безликости фигур, их массивности и громоздкости, а также благодаря странности перспективы и строгости геометрических расчетов. Это странное сочетание теплоты и холодности, а также изумительный колорит, искусная кисть выдающегося незрячего колориста и придают этим картинам острую выразительность. Не происходит ничего особенного, но все, что имеет значение, – здесь, в этой комнате.