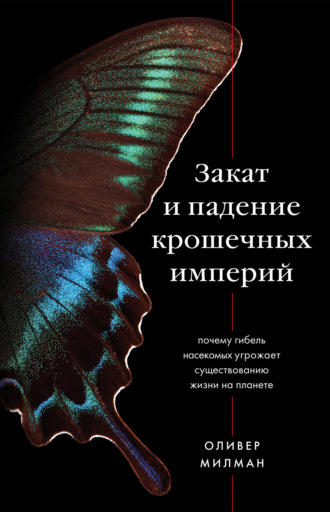
Оливер Милман
Закат и падение крошечных империй. Почему гибель насекомых угрожает существованию жизни на планете
Победители и побежденные

Переверните в саду любой камень, и вы, возможно, обнаружите пару муравьев или даже мокрицу. Осмотрите кору дерева, и увидите паука или жука. Ученые, действуя более планомерно, тоже пытаются выяснить, что происходит в мире насекомых. То, что они обнаруживают, часто вызывает тревогу.
Согласно данным тысяч кабинетных и полевых исследований, за последние десятилетия в США численность четырех видов шмелей снизилась на 96 %, а ареал их обитания сократился почти на 80 %. В 2017 году ржавый пятнистый шмель, пострадавший из-за превращения прерий и лугов в сельскохозяйственные угодья, разрастания городов и дорог, стал первым шмелем, которого правительство США официально внесло в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Это произошло вовсе не из-за отсутствия других претендентов. Шмель Франклина, например, встречается только на небольшом участке на юге Орегона и на севере Калифорнии, причем ни одной особи не видели с 2006 года.
Пчелы-специалисты, обитающие на ограниченной территории, все же, продолжают бороться. Считалось, что голубая пчела каламинта с брюшком ярко-синего цвета навсегда исчезла из своего дома в песчаных горах Флориды, но потом ее заметили здесь снова. Этот горный хребет покрывали старейшие в регионе кустарниковые заросли, но они были почти полностью уничтожены при устройстве сельскохозяйственных угодий и поселений. Теперь ареал обитания пчелы сузился до 41 квадратного километра.
Популяция американского шмеля Bombus pensylvanicus на границе с Канадой снизилась за последние 100 лет на 89 %. Численность других насекомых также уменьшается по всей стране. Энтомолог из Канадской национальной коллекции насекомых признает, что «тысячи видов, представленных в коллекции, исчезли. Их не видели уже много лет».
На юге США, в лесном заповеднике штата Нью-Гэмпшир, ученые обнаружили, что биологическое разнообразие жуков с середины 1970-х «резко сократилось», а среднее снижение численности видов составило 83 %. Девятнадцать семейств жуков исчезли полностью. Количество семейств насекомых разных типов, представляющих видовое разнообразие, сократилось почти на 40 %.
Суровая местность Новой Англии, Белые горы, густо поросшие березой, кленом и елью, – один из наименее затронутых человеком лесных массивов на северо-востоке США. Помимо более крупных животных – оленей, медведей и лосей, здесь в изобилии водятся мотыльки, осы и жуки. Энтомологи установили девять оконных ловушек – приподнятых на полметра над землей деревянных застекленных рам с лотком для мыльной воды или антифриза у основания. Жуки, обитающие в лесной подстилке, совершают короткие перелеты, подобно курам. Насекомые врезаются в стекло и падают в жидкость.
Это исследование выявило невероятный спад. Если в 1970-х в ловушки регулярно попадали представители подсемейства Pselaphidae, жуков-ощупников, то в 2016 году они полностью исчезли, утверждает автор исследования Дженнифер Харрис, тогда – сотрудница колледжа Уэллсли, а ныне – Университета штата Пенсильвания. По ее словам, «кризис достиг колоссальных масштабов». Самые тяжелые потери были зафиксированы на нижних участках склонов, где температура в среднем на два градуса выше, чем в высокогорном лесу. Это подтверждает выводы пуэрто-риканских исследователей о том, что помимо сельского хозяйства и городов на насекомых влияет изменение климата.
Жуки выполняют целый ряд важнейших функций в этом и других лесах. Когда падает дерево, они помогают измельчить и расщепить древесину, что позволяет грибам проникнуть внутрь и ускорить разложение. Азот и фосфор, содержащиеся в древесине, высвобождаются для пополнения лесного массива. Также некоторые жуки охотятся на других насекомых, контролируя их численность. В этом изящном танце взаимодействий жуки пожирают коллембол, или ногохвосток, которые способствуют разложению опавшей листвы на лесной подстилке. Без жуков ногохвосток станет слишком много, и разложение ускорится до такой степени, что запасы углерода в лесной подстилке снизятся. Ногохвостки также поедают микробов, которые расщепляют углерод. Эта система отношений очень сложна, и мы еще многого о ней не знаем, но исчезновение жуков может затруднить нам борьбу с глобальным потеплением.
«Жуки выполняют в лесу множество функций. Я не знаю ни одной другой группы организмов, которая выполняла бы их работу», – утверждает Николас Роденхаус, опытный биолог, который занимался исследованиями вместе с Харрис. Последствия исчезновения из экосистемы подавляющего большинства этих насекомых проявляются медленно, но очевидно, что главная опасность – это «радикальное разрушение пищевой паутины», говорит Роденхаус. Он с тоской вспоминает, как, будучи еще ребенком, находил лунных мотыльков в лесу и рогачей в саду за домом: «Сегодня мы живем в мире, который утратил огромную часть биоразнообразия. Это грустно, теперь он уже не такой интересный и яркий, как раньше». Наш новый мир деградировал и стал «функционально другим», отмечает Роденхаус, хотя ученые еще не выявили все последствия. Американские исследователи знали о кризисе за десятилетия до крефельдского исследования. «Когда немецкие энтомологи представили эту работу, многие подумали: "Черт, почему я не опубликовал свои данные?"» – говорит Роденхаус.
Череда локальных армагеддонов насекомых прокатилась по континенту. Популяция бабочек в Огайо за 20 лет снизилась на треть. На столько же за тот же период времени уменьшилась численность кузнечиков в Канзасе. В Калифорнии количество бабочек-монархов, которые ежегодно массово мигрируют к побережью, составляет около 1 % от их числа, зарегистрированного в 1980-х годах.
Орды, казалось бы, неуязвимых насекомых были уничтожены. Поденки, хрупкие на вид надводные насекомые с парой сетчатых крыльев, каждое лето превращаются из нимфы во взрослую особь и образуют огромные рои. Эти колоссальные скопления, включающие до 80 миллиардов особей, имеют такую высокую плотность, что их улавливают метеорологические радары. Самые многочисленные рои наблюдаются в северных районах реки Миссисипи и Великих озер. В некоторых поселениях приходится расчищать дороги от поденок с помощью снегоочистителей. Изучив данные радарных наблюдений, ученые обнаружили, что с 2012 года популяция поденок на севере Миссисипи и на озере Эри сократилась более чем на 50 %. Такое падение численности, вероятно, является результатом загрязнения воды, и «если тенденция сокращения популяций сохранится, это может привести к массовому исчезновению поденок из водоемов Северной Америки», предупреждают исследователи. По оценкам Санчеса-Байо и Викхайса, во всем мире треть водных насекомых, в том числе ручейники, стрекозы и плавунцы, находится под угрозой исчезновения.
Это плохая новость не только для водных насекомых, у части которых развилось некое подобие рыбьих жабр. Представитель одного вида из семейства жуков-плавунцов может выжить, даже если его проглотит лягушка: он проплывет через желудок амфибии и выберется наружу через клоаку. Водные насекомые составляют основу пищевой цепи. На стадии нимфы они питаются водорослями и опавшими листьями, а затем, во взрослом возрасте, оказываются в меню множества рыб и болотных птиц, стрекоз и летучих мышей. Они также являются важным показателем качества воды, так как загрязнение заставляет их покидать ручьи и реки. Ареал обитания пресноводных насекомых в Великобритании увеличился благодаря введению закона о чистоте вод. «Каждый вид играет определенную роль в окружающей среде, он никогда не действует изолированно, – говорит энтомолог из Корнелльского университета Корри Моро. – Каждый живой организм следует рассматривать как бегающий или летающий тропический лес. Потеря одного вида сравнима с потерей биоразнообразия целого леса».
Насколько нам известно, в Европе насекомым приходится еще тяжелее, чем в Северной Америке. Сравнение данных о 120 тысячах бабочек, пойманных с 1890 по 1980 год, с более свежими данными миллионов наблюдений показало, что количество бабочек в Нидерландах сократилось не менее чем на 84 %. Однако, по оценкам нидерландских ученых, дела обстоят еще хуже. Другое исследование, завершившееся в 2017 году, в ходе которого десятки ловушек были установлены на севере и юге страны, выявило массовые потери насекомых за два последних десятилетия.
Среднегодовые темпы сокращения популяций, похоже, указывают на то, что насекомые взяли курс на полное вымирание: численность крупных мотыльков снижается в среднем на 3,8 % в год, жуков – на 5 %, ручейников – на целых 9,2 %.
Другие группы, например столь часто упоминаемый при обсуждении насекомых отряд полужесткокрылых, в который входят тли, цикады и поденки, казались стабильными, но ученые пришли к неутешительным выводам. Поскольку биомасса крупных мотыльков сократилась на 61 %, а биомасса земляных жужелиц – на 42 %, «результаты в целом соответствуют динамике биомассы насекомых, зафиксированной в последнее время в Германии и других странах».
Самые подробные в мире данные о насекомых хранятся в Великобритании. Живой интерес страны к насекомым восходит к началу XVIII века, когда сообщество аврелианцев, поэтов и художников, восхищалось чудесным превращением личинок во взрослых особей. В Викторианскую эпоху особую популярность приобрело коллекционирование жуков. Толпы энтузиастов, вооружившись сачками, прочесывали сельскую местность и складывали свои находки в цилиндры.
Образ эксцентричного викария, помешанного на бабочках, неразрывно связан с этим периодом истории, хотя насекомые будоражили воображение людей и в XX веке. Бабочки фигурируют в творчестве писательницы Вирджинии Вулф, а мотыльки – в поэзии Зигфрида Сассуна. Уинстон Черчилль и Невилл Чемберлен, занимавшие по очереди пост премьер-министра Великобритании во время Второй мировой войны, коллекционировали бабочек. Уолтер Ротшильд из династии банкиров владел коллекцией блох в крошечных нарядах, которая включала даже миниатюрных жениха и невесту.
Когда повальное увлечение ловлей и нанизыванием насекомых на булавки уступило место простому наблюдению за ними, деятельность по изучению микромира закипела в Британии, как нигде в мире. Старания опытных энтомологов и армии энергичных энтузиастов-любителей внесли большой вклад в наши познания о динамике изменения численности насекомых.
В авангарде этих исследований находится Исследовательский центр Ротамстеда (Rothamsted Research), старейший сельскохозяйственный научно-исследовательский институт в мире. Он располагается на территории поместья XVI века в Харпендене, небольшом городке к северу от Лондона. Институт получил известность благодаря долгосрочному броадболкскому эксперименту по изучению влияния удобрений на урожайность, который длится с 1843 года. Это самый продолжительный научный эксперимент в истории.
Отслеживание численности насекомых в Ротамстеде ведется непрерывно, начиная с 1964 года, с помощью двух типов ловушек. Изначально оно было ориентировано на мигрирующих насекомых – мотыльков и тлю, но теперь охватывает намного больше видов. Каждый год на территории Великобритании и Ирландии устанавливается около 80 световых ловушек, которые, как правило, обслуживаются добровольцами, но координируются Ротамстедом. Эти ловушки излучают свет с длинными волнами, особенно привлекательный для пролетающих мимо мотыльков. Туда же попадает и множество других насекомых. Всего с начала исследования в ловушки угодили представители полутора тысяч различных видов. Еще более примечательна сеть всасывающих ловушек. Эти хитроумные приспособления в количестве 16 штук разбросаны по всей Англии и Шотландии. Они похожи на большие перевернутые вверх дном пылесосы высотой 12 метров. Вентилятор, размещенный в ловушке, всасывает воздух внизу, так что любое оказавшееся поблизости насекомое, в первую очередь тля, попадает в контейнер.
Результаты сбора данных оказались весьма показательны. С 1968 по 2007 год общая численность пойманных мотыльков снизилась более чем на четверть, причем самые большие потери, зафиксированные на юге Великобритании, составили 40 %. Более поздний анализ 224 миллионов пойманных насекомых, проведенный исследователями из Ротамстеда, показал, что за 47 лет количество мотыльков сократилось почти на треть, хотя с 1960-х годов наблюдались периоды роста и спада. Численность тли снизилась немного, и исследователи сочли долгосрочную динамику относительно стабильной.
Как это ни странно, мотыльки переживают упадок на побережье, в городах и лесах Великобритании, но не в сельскохозяйственных районах. Повышение температуры, вызванное изменением климата, должно было привести к увеличению общей численности насекомых из-за появления «новоселов». Например, медведица четырехточечная уже сочла Лондон достаточно теплым, чтобы перебраться сюда с Нормандских островов. Но, несмотря на усилия преданных своему делу ученых и энтузиастов, недостаток финансирования по-прежнему мешает собрать воедино все части этой запутанной головоломки. Тем не менее потери очевидны. «Мы теряем виды. Это трагедия, – говорит Джеймс Белл, руководитель ротамстедского исследования насекомых. – Полагаю, все ученые согласятся с тем, что численность насекомых падает. В этом нет никаких сомнений. Абсолютно никаких».
Моль часто очерняют, представляя ее как вандала, пожирающего одежду в наших шкафах. На самом деле это клеветническое обобщение: тканью питаются личинки моли, а не взрослые особи, да и то лишь некоторые виды. Например, в США существует около 15 тысяч видов моли, и только два из них представляют опасность для шерстяного свитера или кашемирового шарфа.
Хотя моль пребывает в тени забвения из-за нашей любви к пчелам, она является важнейшим универсальным опылителем, который помогает размножению растений, непривлекательных для пчел. Исследователи обнаружили, что почти половина молей, замеченных в английском графстве Норфолк, переносит пыльцу десятков различных видов растений, в том числе некоторых редко посещаемых пчелами, журчалками и бабочками. К сожалению, как незаметная работа моли, так и экстравагантная красота их кузин бабочек, теперь оказались под угрозой.
Джеймс Белл из Ротамстедского центра любил наблюдать за бабочками шашечницами, представительницами семейства, которое получило свое название от латинского слова fritillus – «шахматная доска», – но теперь они почти не встречаются. Белл все еще видит в своем саду белых бабочек, но крайне редко замечает других – Polygonia comma, – с крылышками, усыпанными коричневыми крапинками, которые помогают своим владелицам оставаться незаметными, когда те впадают в спячку среди опавшей листвы. Ученый считает, что со времен его детства мир претерпел радикальные изменения. «Бывало, пока доедешь куда-нибудь на велосипеде, наглотаешься насекомых. Больше такого не случается, – говорит Белл. – Раньше меня то и дело жалили осы, но это было очень давно». Наверняка многие, если задумаются над этим вопросом, смогут вспомнить подобные примеры, указывающие на вымирание империи насекомых.
Ученые, подобные Беллу, входят в группу тех немногих, кто действительно способен пролить свет на эти подозрения, выявляя вымерших и исчезающих насекомых; тем не менее большинство энтомологов по-прежнему пытаются получить финансирование для своей работы, но средства вновь и вновь выделяются на очередной трактат о крупных млекопитающих. «Это тянется десятилетиями. Именно поэтому мы до сих пор так мало знаем о большинстве насекомых планеты, – говорит Ману Сондерс, эколог из Университета Новой Англии в Австралии. – Это замкнутый круг. Чтобы получить финансирование, нужно обосновать его необходимость доказательствами; но без финансирования вы не можете их собрать».
Нехватка долгосрочных исследований привела к разногласиям по поводу масштабов кризиса насекомых, а также к возникновению вопросов о последствиях частичной утраты царства насекомых. Как это отразится на более крупных видах? Что будет с лесами, ручьями и даже городами? Как мы будем производить еду? Эдвард О. Уилсон и другие ученые могут строить обоснованные предположения о масштабах катастрофы, но их необходимо доказать. «Что случится, если в Великобритании исчезнут две трети насекомых? – размышляет Белл. – Я не могу дать точного ответа. Единственное, что я знаю наверняка, нам придется туго».
В Великобритании находят все больше доказательств того, что Белл прав. Другое исследование мотыльков, проведенное в 2019 году учеными Йоркского университета, показало, что численность этих насекомых в Великобритании каждые десять лет уменьшается на 10 %. Ранее наблюдались периоды резкого роста и спада. Например, жара 1976 года вызвала резкое увеличение численности мотыльков, но с 1980-х годов началось постепенное устойчивое снижение. Согласно исследованию 2014 года, с 1970-х годов численность 260 видов мотыльков значительно сократилась, зато численность других 160 видов возросла.
За последние 50 лет бабочек в Британии стало вдвое меньше, а со времен Викторианской эпохи она лишилась более 20 видов пчел и ос-опылителей. Другие виды отступают в постоянно уменьшающиеся анклавы. Например, шмель-чесальщик, когда-то обитавший по всей стране, теперь встречается только на севере и западе Шотландии. Еще более масштабные потери по всей Британии наблюдаются среди насекомых-опылителей. Как показали исследования, из 353 видов диких пчел и жужелиц треть в настоящее время занимает меньшие ареалы, чем в 1980 году, причем в большинстве своем это редкие виды. Насекомые, опыляющие сельскохозяйственные культуры, необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности, однако «существует серьезная озабоченность по поводу их текущего и будущего статуса сохранения», предупреждает очередное исследование.
По оценкам Национальной сети по биоразнообразию Великобритании, среднее распространение насекомых с 1970-х снизилось на 10 %, причем «беспозвоночным и растениям в стране уделяется намного меньше внимания, чем млекопитающим и птицам», несмотря на «растущее число свидетельств того, что темпы снижения численности насекомых выше, чем у других таксономических групп».
В отчете Фонда дикой природы за 2019 год, согласно которому за последние полвека мировая популяция насекомых могла уменьшиться на 50 %, Гулсон, биолог из Университета Сассекса, окрестил это событие «незаметным апокалипсисом». «Причины снижения численности насекомых еще обсуждаются, но почти наверняка они включают разрушение среды обитания, регулярное воздействие пестицидов и изменение климата, – пишет Гулсон. – Последствия очевидны; если не остановить сокращение численности насекомых, наземные и пресноводные экосистемы разрушатся, что будет иметь серьезные последствия для благополучия человека». Такой коллапс не просто разрывает сложные взаимодействия с другими видами животных, растениями и органическими веществами. Он также выступает как некий груз, который сплющивает мир насекомых в более однородный комок, где разнообразие эклектичных, очаровательных видов сменяется меньшей и, вероятно, невзрачной группой существ, которые лучше приспособлены к тому, чтобы пережить муки антропоцена.
Ученые, которые составляют карту генетического разнообразия, обнаружили, что характеристики генетического материала насекомых страдают при высокой плотности людей сильнее, чем у большинства животных других групп. Согласно одному исследованию, всемирное разнообразие пчел начало резко сокращаться в 1990-х годах, и в настоящее время в коллекции музеев и других учреждений попадает примерно вдвое меньше видов пчел, чем в 1950-х годах, когда энтомологи находили представителей около 1900 видов в год.
Даже на первый взгляд незначительное влияние человека на самые отдаленные уголки планеты приводит к сокращению популяции насекомых. Недавно исследователи обнаружили, что привнесение европейских сорных растений на отдаленные острова Южного океана, расположенные неподалеку от Антарктиды, сократило количество местных видов насекомых. «Мы делаем окружающую среду более однородной, – замечает Симон Лезер. – Выращивая много сои и применяя гербициды, вы посылаете сигнал "Эй, любители сои, сюда!" всем вредителям, жукам и тлям, которые питаются только соей. В то же время для обеспечения разнообразия естественных врагов, как правило, требуется более разнородная среда обитания».
Такая переделка мира природы ведет не к глобальному вымиранию всех насекомых, а скорее к исчезновению тех, которые не в состоянии приспособиться к привнесенным нами изменениям, включая насекомых, приносящих огромную пользу человеческой цивилизации.
На их место придут ненавистные нам животные, для которых мы, сами того не замечая, создаем благоприятные условия. «Насекомые не вымрут полностью, но мы однажды можем оказаться на планете, переполненной тараканами и комарами, – заявляет Тимоти Шоуолтер из Университета штата Луизиана. – Мы можем сделать мир непригодным для жизни нашего вида, но насекомые выживут».
Кризис насекомых следует представлять не как нисходящую прямую, а как множество разных графиков, причем некоторые из них стабильны, другие представлены ломаными, а третьи даже поднимаются вверх, в то время как численность других видов, которые важны или интересны для нас, движется к нулю. Если вымирание некоторых пчел и бабочек будет компенсироваться ростом численности домашних мух и саранчи, это вряд ли нас обрадует, даже если общая численность насекомых останется примерно на том же уровне. Цифры сами по себе говорят нам о многом. «Большинство СМИ игнорируют эту запутанную научную область, – отмечает Ману Сондерс. – Мы считаем, что людям нужны простые ответы, но так ли это? Не нужно принижать науку, чтобы привлечь всеобщее внимание».
Даже когда наука пытается устранить последствия убыли, насекомые продолжают нести потери, как правило, без каких-либо попыток с нашей стороны остановить этот процесс. Такая инерция, возможно, лучше всего отражена в работе 2013 года австралийского эколога Дэвида Линденмайера. Ученый рассматривает случаи, когда виды, находившиеся под угрозой исчезновения, помещались под наблюдение в целях сохранения, но вымирали повсюду или в некоторых ареалах обитания из-за отсутствия каких-либо действенных мер по спасению.
Один из самых печально известных примеров – нетопырь острова Рождества, крохотная летучая мышь весом около 3 граммов, которая гнездилась в дуплах деревьев. Когда-то эти летучие мыши были широко распространены на острове Рождества, внешней территории Австралии в Индийском океане, но с 1994 по 2006 год численность популяции сократилась на 80 %. Работники природоохранного ведомства, которые следили за популяциями, умоляли правительство Австралии создать программу разведения нетопырей в неволе, пока не стало слишком поздно, но вместо этого был создан комитет по рассмотрению этого вопроса. Прошли месяцы. Был проведен повторный сбор данных. К тому времени, когда экологи получили разрешение на отлов летучих мышей для разведения, благодаря ультразвуку удалось обнаружить только одну особь.
Исследователи отчаянно пытались поймать ее, но потерпели неудачу. Последние крики нетопыря острова Рождества были записаны 26 августа 2009 года. Затем он замолчал навсегда. «Это один из немногих случаев, когда мы можем установить дату исчезновения вида с точностью до дня», – отмечают эксперты МСОП в описании вида. Статья Линденмайера, в которой он подводит итог вымирания этого и других видов, утраченных из-за нашей медлительности, называется «Считаем книги, пока горит библиотека». В эпоху сокращения биологического разнообразия такой заголовок не останется незамеченным. Нет сомнений, что некоторые части мира насекомых охвачены вымиранием, и, к нашему ужасу, осталось еще много книг, которые можно посчитать. «Нужно действовать, даже если нам еще не все известно, – утверждает Себастьян Зайбольд. – Если мы решим подождать еще 10 или 20 лет, может быть слишком поздно. Не могу себе представить, как будет выглядеть мир без множества насекомых, но я точно не хочу его видеть».
В Австралии Линденмайер особенно ратует за сохранение ясеневых лесов в штате Виктория, чтобы предотвратить вымирание беличьего кускуса, редкого сумчатого эндемика, который устраивает гнезда в дуплах деревьев, часто попадающих под топор лесорубов. Этот маленький зверек – всего лишь один представитель колонны австралийских видов, марширующих прямиком к вымиранию из-за грубого вмешательства человека. Естественная среда обитания уничтожается, инвазионные виды, например одичавшие кошки, ежегодно истребляют миллиарды местных птиц и млекопитающих, а глобальное потепление начинает вонзать свои клыки в континент, который и без того считается самым засушливым обитаемым континентом планеты.
Однако до недавнего времени считалось, что насекомым ничего не угрожает в стране, где столько мух, что жест, смахивающий муху с лица, получил название «австралийское приветствие». Действительно, именно в Австралии сохранился уникальный вид – палочник острова Лорд-Хоу, или древесный омар, могучее насекомое величиной с кисть руки человека. Считалось, что этот вид был уничтожен в результате нашествия черных крыс, но потом исследователи обнаружили несколько особей на одинокой скале, выступающей из воды у восточного побережья Австралии.
Спустя десятилетия после того, как этот вид причислили к вымершим, его популяция была восстановлена.
Но теперь жизни насекомых в Австралии угрожает больше опасностей, чем раньше. Рождественский жук из семейства пластинчатоусых, получивший свое название благодаря переливчатому красно-зеленому окрасу, когда-то появлялся каждый декабрь на территории всего материка. В 1936 году квинслендская газета сообщила, что насекомых было столько, что «в замкнутых пространствах между зданиями шум их трепещущих крыльев напоминал отдаленный гул самолета».
Следующие поколения австралийцев росли, встречая рождественских жуков значительно реже – возможно, двух или трех за все новогодние праздники. В наши дни рождественские жуки полностью исчезли из некоторых частей страны. Поговаривают, что популяции этих насекомых сильно сократились и в других регионах, однако специальные исследования не проводились. Однако в нашем распоряжении есть достоверные сведения о карликовом поссуме, родственнике беличьего кускуса. Ученые обнаружили, что в 2018 году от 50 до 95 % особей потеряли весь свой помет. Детеныши умерли от голода. Их основная пища – мотылек Богонга, известный своими длительными миграциями в район Австралийских Альп, где живут поссумы, – переживает сокращение численности. В Австралии насчитывается около 250 тысяч видов насекомых, но систематические наблюдения ведутся лишь за избранными: мотыльком Богонга, древесной пчелой-плотником и спичечным кузнечиком Кей – насекомым, которое умеет становиться в позу, похожую на позу собаки мордой вверх в йоге. Однако теперь, похоже, открывается новый фронт борьбы против изнемогающей фауны Австралии, и эта угроза не может не отразиться на уникальном животном мире континента. «Мы опасаемся, что если сокращаются популяции насекомых, то же происходит и с более крупными животными, например птицами и ящерицами, для которых насекомые служат источником пищи», – заявляет Дэвид Йейтс, директор Австралийской национальной коллекции насекомых.
Согласно отчетам, тяжелее всего приходится насекомым в тропиках и субтропиках на северо-востоке материка, в области, где обитает настоящий калейдоскоп гигантских насекомых. В тропическом лесу, который тянется вдоль восточного побережья, можно встретить павлиноглазку геркулес, самую большую в мире бабочку, у которой размах крыльев достигает размера обеденной тарелки, рот отсутствует (она живет за счет пищевых запасов, съеденных на стадии гусеницы), а у хвоста располагаются два ложных глаза, чтобы сбить с толку потенциальных хищников.
Во влажных тропиках Квинсленда также обитает Ornithoptera euphorion, или птицекрыл, – самая крупная бабочка Австралии с размахом крыльев 18 сантиметров, и стебельчатоглазая муха, глаза которой располагаются на удлиненных стебельках, что придает ей комический, мультяшный вид. Одиночные осы сооружают из грязи гнезда и заполняют их парализованными гусеницами, которые идут в пищу появляющемуся на свет потомству; тем временем грозные зеленые муравьи устраивают свои лагеря в листве деревьев и кустарников, выдавливают из личинок липкий секрет, чтобы скрепить листья, и, действуя сообща, обездвиживают своих несчастных жертв перед расчленением.
Этот музей насекомых под открытым небом стал источником заработка для Джека Хазенпуша, который около 30 лет назад начал собирать насекомых и разводить необычных бабочек на своем участке в низменном тропическом лесу к северу от города Иннисфейл. Хазенпуш вскоре понял, что его занимательное лесное хобби может приносить доход, и основал Австралийскую ферму насекомых, которой он теперь заправляет вместе с женой и сыном. Компания занимается разведением разных насекомых для коллекционеров (благодаря лицензии на экспорт нескольких сотен особей в год) и использует собственную коллекцию в образовательных целях. Выставки в школах привлекают много детей, жаждущих увидеть величественные синие крылья парусника Улисса или потрясающего полуметрового Ctenomorpha gargantua, гигантского палочника. «Мы считали, что это самый большой палочник в мире, но его обошел китайский собрат, – рассказывает Хазенпуш. – По крайней мере это самый крупный палочник в Австралии».
Среди насекомых, разведением которых занимается Хазенпуш, особенно выделяется гигантский таракан-носорог, или роющий таракан, один из самых популярных домашних питомцев в Квинсленде. Это крепкое создание, коричневый панцирь которого придает ему сходство с бегающим шлемом, является самым тяжелым тараканом – он весит около 35 граммов. Верный своему имени, этот таракан зарывается на метр в землю и строит там жилище, в котором и проводит все десять лет своей жизни. «Они больше похожи на маленьких броненосцев. Гигантские насекомые, – говорит Хазенпуш. – Они определенно производят впечатление».
Ведя деревенскую жизнь в девственном уголке природы, Хазенпуш каждый год наблюдал такой бум рождаемости насекомых, что не сомневался – так будет всегда. Однако за последние пять лет все изменилось. Хазенпуш обнаружил, что там, где раньше собирались сотни насекомых, теперь появляется всего полдюжины. Пчел стало меньше, как и мотыльков. По оценкам Хазенпуша, популяция рождественских жуков снизилась на 90 %. «Это шокирует», – говорит он.


