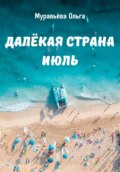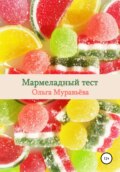Ольга Андреевна Муравьева
Мамина улыбка
3
Я ещё почти ничего не рассказала вам о папе. Хотя о нём мне больше всего хочется рассказать. Папа был моложе мамы на тринадцать лет: по тем временам разница в возрасте просто возмутительная. Впрочем, по тем временам в их браке всё было неприемлемым, неправильным, скандальным: и то, что мама была так намного старше, и то, что это был уже четвертый её брак, и то, что первого ребёнка она родила в сорок с лишним. Так вот, поскольку папа был значительно моложе, я всегда думала, что мамы не станет раньше, и я останусь только с папой, буду его, совсем старенького, водить под руку гулять, приносить ему вкусненькое по выходным. Я была уверена, что всю тяжесть маминой старости я разделю с папой. Увы, я ошибалась. И ещё, я никогда не думала, что мне будет так сильно папы не хватать.
Мама с папой давным-давно были в разводе, и папа много лет жил отдельно от нас, один, но очень часто, по первому же зову приходил, выполнял мамины поручения, и мне помогал всегда и во всём, безотказно. Безотказность. Вот, я нашла самое лучшее слово, которое характеризовало моего отца. Терпение, закрытость, сдержанность и безотказность.
Когда мы ещё жили все вместе, больше всего на свете папа любил сидеть уединенно в своём кресле на кухне и читать детективные романы. Крепкий растворимый кофе в большой кружке, початая пачка сигарет на подоконнике, и – часами, запоем – Кристи, Чейз, Стаут, Акунин, Маринина. Когда я входила на кухню за чем-нибудь, папа поднимал голову от книги, рассеянно-вопросительно взглядывал на меня поверх очков с маленькими прямоугольными стёклами без оправы и, убедившись, что от него ничего не требуется, снова углублялся в чтение. Любовь к книгам, чтению – у меня именно от папы. Он сам научил меня читать, когда мне было чуть больше четырех. И потом постоянно покупал мне книжки. И в детскую библиотеку за порцией новых книг мы ходили вместе с папой. Мама с насмешливым презрением относилась к этой нашей общей страсти и частенько обзывала папу «читакой» и «сраным книголюбом». Ей хотелось, чтоб мы разделяли её увлечённость спортом: аэробика, коньки, лыжи. И я, в общем-то, разделяла, хоть и немного через силу. Папа – нет, может быть, только немного в молодости. И тем не менее, он безропотно таскал на себе наши лыжи и коньки, когда мы выбирались на активный отдых все вместе.
Мама с папой часто ссорились. Когда я была совсем маленькая, я, конечно, не понимала причин их размолвок. Просто ужасно пугалась, когда они начинали кричать друг на друга: в эти минуты мне казалось, что происходит какая-то катастрофа, которая сейчас погубит всех нас. Однажды во время ссоры папа в сердцах схватил мой маленький детский стульчик, расписанный под хохлому, и швырнул его об пол так, что одна ножка хрустнула и сломалась. На следующий день, вечером после работы папа сидел и делал «операцию» покалеченному стульчику, вооружившись инструментами, кусками марли и тюбиком столярного клея. И потом, ещё много-много лет этот прооперированный, заклеенный детский стульчик служил мне верой и правдой, однако, постоянно напоминая трещиной на ножке о той давней родительской ссоре. Став постарше, я начала понимать, что мама ревнует папу к каким-то чужим тётям, которых она называла не иначе, как «бляди»; что она недовольна его «безынициативностью», его скрытностью, и ещё, наверное, много чем. Ссоры всегда начинала мама, папа долго отмалчивался, потом начинал тихо огрызаться и, в конце концов, взрывался и тоже переходил на крик, хлопал дверью и уходил курить на балкон. И каждый раз мне казалось, что это катастрофа, стихийное бедствие, вроде землетрясения или снежной лавины, и мы все сейчас погибнем.
Самые счастливые воспоминания моего детства – это не о каких-то подарках или поездках, или детских праздниках… Это о тех минутах, когда утром, в воскресенье просыпаешься в своей комнате, под тёплым одеялом из верблюжьей шерсти, которое слегка колется через пододеяльник, и ещё сквозь ласковую дремоту слышишь негромкие голоса: папа с мамой на кухне спокойно разговаривают о чём-то и даже смеются, и тихонько позвякивают чайные ложечки в чашках. И ты лежишь в блаженной полудрёме, и даже не хочется открывать глаза, а хочется, чтоб эти минуты длились ещё долго-долго-долго…
В самый разгар лета, в июле мне почему-то приснился снег. В своём сне я поднималась по улице к папиному дому, зимой, в синих сумерках то ли раннего вечера, то ли утра, и свежевыпавший, глубокий, холодный, голубой снег сухо скрипел под ногами. Скрип-скрип, скрип-скрип, идти не очень легко, хоть снег уже немного и утоптали, но он все ещё рыхлый, и я чувствую, как ноги вязнут в нём, проваливаются, и каждый шаг требует усилий. Я иду по этому снегу, в сумерках, и на сердце почему-то такая тоска и безысходность, словно я потеряла что-то очень-очень ценное и важное, и знаю, что никогда уже не найду.
Я просыпаюсь, за окнами – сияющее летнее утро, зелёные ветки вязов качаются от лёгкого ветерка, радостно свистят где-то высоко-высоко в небе стрижи. Но я ещё во власти своего синего, холодного, сумеречно-снежного сна, и этой призрачной безнадёжной тоски… Утром, за завтраком, мы с Владом всегда пересказываем друг другу свои сны, – мы оба запоминаем их в деталях. Но тогда Влад был в командировке в Китае, и мой странный зимний сон в летнюю ночь остался нерассказанным и неразгаданным. Тогда.
День рождения никогда не был для меня каким-то развесёлым праздником, хотя родители всегда старались сделать этот день особенным для меня, и им это удавалось как нельзя лучше. Получался действительно торжественный день, наполненный теплом, светом, добрыми словами, улыбками, и главное – ощущением того, что я любима, важна, значима, и что я – уникальный человечек, и похожего просто нет на всём белом свете. Конечно, папа с мамой никогда не ссорились в мой день рождения. Каждый год мама напоминала мне, что я появилась на свет не ночью, как большинство детей, а среди бела дня, в первом часу пополудни. Ночью была сильная метель, а утром снег перестал, ветер стих, выглянуло яркое февральское солнце, и, видимо, я решила, что это вполне подходящие условия, чтоб явить себя миру.
Каждый мой день рождения, провожая меня утром в школу, мама говорила: «Ты ещё не родилась, поэтому не поздравляю». И вот уже вернувшись со школы, после обеда я принимала поздравления. Всегда был большой торт со свечками. Цветы. Красивые открытки с поздравлениями – от родителей, от тёти и дедушки из Севастополя, от двоюродных сестер, от подружек. Подарки. Гости.
Это был особенный день, и всё-таки был в нём какой-то едва уловимый привкус грусти. Но по-настоящему печальным он стал после той, тридцать девятой моей зимы, потому что тогда, в феврале, буквально за пару дней до своего дня рождения я узнала, что у папы рак в последней стадии, и что папа уходит от меня, от нас, из этого мира.
Папа позвонил мне поздно вечером и попросил: «Пожалуйста, забеги ко мне завтра, принеси молока». Потом добавил: «И знаешь, что… Открой дверь своим ключом, ладно?» От этих его слов я похолодела. Папа неважно себя чувствовал последние пару месяцев, как вернулся из своего родного Севастополя, куда летал навестить сестру. Его беспокоил желудок, он плохо ел, сильно похудел, и всё ходил по врачам, пытаясь выяснить, что с ним. Пил какие-то таблетки. Я знала об этом, но мне и в голову не приходило, насколько всё было серьёзно. На следующее утро, перед работой, когда ещё не рассвело, я побежала к папе. Побежать, конечно, не получилось: всю ночь была метель, и к утру насыпало довольно много снега, так что пришлось идти по свежим сугробам. Первые прохожие уже протоптали узкие тропинки, но снег на них был ещё довольно рыхлым, так что идти было нелегко. Я шла в синих сумерках февральского утра, слушая, как снег сухо скрипит под ногами, постоянно прокручивая в голове папины слова «открой дверь своим ключом», от которых сердце снова холодело в груди, и вдруг в какой-то момент осознала, что я уже видела всё это, всю эту «картинку», видела, и ощущала, и чувствовала. Тогда, летом, во сне. Но как, как уже тогда я могла всё это знать?
Папа лежал на диване, натянув одеяло до подбородка. Седая щетина на бледных, восковых каких-то щеках, синеватые губы. Он сделал усилие, чтобы улыбнуться. Но не получилось. И у меня всё упало внутри. Почему, почему, почему он не говорил, насколько сильно ему плохо! И почему я сама этого не замечала? Занималась своими делами, своими какими-то мелкими заботами, работала, развлекалась… И не увидела, пропустила, прозевала самое страшное.
Потом были несколько дней моего панического метания по поликлиникам, больницам, частным клиникам, попытки что-то сделать, вперемешку с рыданиями, которые я просто не могла сдерживать, хотя в голове постоянно крутилась издевательски-жестокая поговорка: «Слезами делу не поможешь». Помню удивлённый, непонимающий взгляд усталого фельдшера скорой помощи: «А что вы плачете-то? Никто ещё не умер». А я просто обливалась слезами, захлёбывалась, тонула в них, потому что чувствовала уже всем своим существом, что папа с каждым днём, каждым часом, каждой минутой всё дальше от меня, – совсем как главная героиня фильма «Линия Кармана», который мы с Владом смотрели недавно на кинофестивале. И я, как бы я ни старалась, как бы ни металась, ничего не могу сделать, чтобы его удержать, потому что душа уже оторвалась от бренного исхудалого тела, и когда она пересечет эту невидимую черту, когда перейдет эту условную границу между атмосферой Земли и Космосом, – лишь вопрос времени.
Конечно, я сообщила маме. Мы с ней не очень часто виделись тогда, – она звала меня только, когда ей что-то срочно было нужно: перегорала лампочка или садилась батарейка в настенных часах, или пора уже было красить волосы. Когда ничего не было нужно, неделями не брала трубку, – просто отключала телефон, выдёргивая шнур из розетки. Но теперь она взяла трубку сразу. Закрывшись у папы на кухне, стараясь говорить как можно тише, изо всех сил сдерживая рыдания, я вкратце рассказала ей обо всем. Она выслушала, задала даже несколько уточняющих, чисто медицинских вопросов. Вздохнула: «Ну, что поделаешь!» Я объяснила, что не смогу пока к ней приходить, буду занята с папой. Я знала, что она ничем не поможет. И даже не посочувствует. Ей было всё равно, это слышалось даже в голосе.
Я понимаю, что пожилым людям часто бывает уже всё равно, что происходит с другими. Их волнует только то, что происходит с ними лично. И в этом старики очень похожи на маленьких детей. Мама не была такой раньше. Но теперь она уже смотрела на всё происходящее исключительно через призму своего эгоистического комфорта, хотя возможно, ей казалось даже, что она помогает. Потому что она не поленилась пойти в библиотеку медицинского университета и нарыть там несколько редких книг и статей про папино заболевание. И несколько раз она даже сама звонила мне и зачитывала свои конспекты об исследованиях фибробластомы желудка. В маме однозначно «умер» учёный… Она могла бы очень многого достичь в медицинской науке, если бы посвятила себя полностью профессии, если бы не вышла замуж за папу, если бы не родила меня. Она сама нередко шутила в разговоре со своими коллегами и бывшими однокурсниками – показывала на меня и говорила, смеясь: «Вот моя диссертация».
Весь свой день рождения в ту зиму я провела у папы… Накануне я возила его на скорой в больницу, в надежде, что его положат в стационар. Но нам отказали. Поставили ему капельницу в приёмном покое и после снова отдали мне. Чтобы отвезти его домой, пришлось вызывать специальную машину из частной клиники. Мы вернулись в квартиру, где всё было разбросано из-за наших спешных сборов в больницу, а пол затоптан мокрыми и грязными башмаками фельдшеров из «скорой». Весь вечер я убирала и мыла, кормила папу жидкой манной кашей с ложечки, – это единственное, что он мог теперь есть, – и осталась с ним на ночь, благо, что в комнате была ещё кровать. Ночью папа поднялся и пошёл в туалет, а на обратном пути рухнул в коридоре – потерял сознание. Я пыталась его поднять, но не могла, он был такой тяжёлый, словно каменный. Придя в себя, папа как-то сам встал на четвереньки и почти дополз до своего дивана. Наутро я поехала на другой конец города в аптеку купить какое-то редкое лекарство для капельницы, которое посоветовала доктор из частной клиники. Потом пришла сама эта врач, поставила папе капельницу, объяснила: «Это очень хороший, поистине волшебный препарат, ваш отец просто оживет после него». Так оно и было. Я и подумать не могла, что лекарство может так подействовать: у папы слегка порозовели щёки, взгляд стал ясным, и ближе к вечеру он сам поднялся с дивана и посидел немного в кресле за компьютером, ответил на электронные письма и сообщения в сетях, с удовольствием попил чай и кисель. Вечером эта доктор приехала ещё раз, для повторной процедуры. Она сидела на стуле возле папиного дивана, – немолодая, но очень красивая женщина с тёмными вьющимися волосами и ясными, васильково-голубыми глазами, внимательно смотрела на него, говорила тихим, мягким голосом, и от одного её присутствия становилось спокойнее на душе. Перед уходом, не спеша складывая штатив и собирая всё в большой саквояж, она снова обратилась ко мне:
– Послушайте, сейчас ему будет намного лучше. На какое-то время. Но вы не тяните. Как можно скорее постарайтесь определить его в Клинику ДВФУ. Это на Русском острове, вы знаете, да? Это будет непросто. Там почти никогда нет мест, и направления у вас нет, как я понимаю. Но вы постарайтесь. Это единственный ваш шанс. И я знаю, что у вас всё получится. Это вы на вид такая вся робкая, белая и пушистая… Внутри у вас, ох, какой стержень, железный, я чувствую.
Поздно вечером, уложив папу, я вернулась домой, к Владу, и мы скромно отметили мой день рождения, вдвоём, на нашей маленькой кухоньке, разговаривая тихо, как будто это у нас в квартире был кто-то больной, или маленький ребенок спал за стеной в комнате.
А на следующий день, рано-рано утром я поехала на Русский остров. Да, я никого там не знала, и у меня не было никакого направления, но я определила папу в эту клинику и в тот же день привезла его сюда на такси. Поздно вечером, измученный анализами и диагностическими манипуляциями, с катетером, проведённым через нос и через желудок прямо в кишечник, уставший, бледный, но всё-таки довольный, папа протянул мне руку со своей высокой белоснежной кушетки. Сжал мою ладонь костлявыми, сухими, шершавыми пальцами, улыбнулся запёкшимися губами: «Спасибо тебе. Главное, что мы успели».
Мы не успели. Папы не стало через месяц с небольшим, в конце марта. В ночь перед его похоронами шёл сильный снег. Снова этот проклятый снег… Правда, к полудню он почти весь растаял – всё-таки была уже весна. Как же папа любил весну! Он родился весной, и вот, умер весной тоже… Его провожали сослуживцы, друзья, знакомые, очень много людей… И мне казалось, что все смотрят на меня с упрёком, с укором… «Не уберегла!» Сырая желтоватая земля Морского кладбища. Огромная охапка кроваво-красных гвоздик, которую принесла моя двоюродная сестра… «Надо положить ему в гроб зажигалку и сигареты».
Слёзы бегут и бегут по лицу, без остановки, и я ничего не могу с этим поделать. И сквозь солёную пелену слёз смотрю, как мама наклоняется, торопливо зачерпывает рукой горстку земли и как-то легко, кокетливо, как будто весело даже бросает её в могилу – движением маленькой девочки, играющей в песочнице во дворе. Сорок лет назад она встретила папу в аэропорту Шереметьево… Всего пара встреч, переписка, и папа прилетел к ней через всю страну, на самый край земли и сделал предложение, и остался. Значит, была любовь? Куда же она ушла? Куда же любовь исчезает безвозвратно? И почему?
Я всегда думала, что мама уйдёт первой. Разве могла я предположить, что останусь вдвоём с ней, без папиной поддержки? Это было так неожиданно и так странно, что не укладывалось в голове… Ещё много месяцев спустя я ловила себя на том, что, столкнувшись с какой-то трудностью, проблемой сразу привычно думала: «Надо спросить у папы», «Папе надо позвонить, попросить, он поможет». И ещё, однажды, увидев на полке магазина красивую кружку с парусником, сразу сказала себе: «О, папе это понравится, надо ему купить в подарок!» – и осеклась… Папе это понравилось бы, да. Но ему больше ничего уже не нужно…
Когда папы не стало, мне было уже почти сорок. Но только после его ухода я впервые, по-настоящему почувствовала, что я – больше не ребёнок, что я – взрослая женщина. Маленькая девочка, которой папа читал вслух сказки перед сном, исчезла навсегда.
4
Но конечно, я не осталась совсем наедине с маминой старостью. Слава Богу, я сейчас не одна, у меня есть Влад, моя опора и поддержка, моя семья и самый-самый близкий человек. Я смело могу утверждать, что мне его дал Бог, просто подарил, потому что я очень-очень сильно попросила Его об этом. И попросила там, где Он лучше всего мог меня услышать.
До тридцати четырёх лет у меня не было ни одного романа, никаких «отношений», как сейчас принято говорить. После той самой первой школьной влюблённости в красавчика Пашку, безответной и безнадёжной, мне больше не нравились мальчишки. Что-то перевернулось в душе, мизансцена моего жизненного спектакля полностью поменялась, и на первый план вышли какие-то совсем другие вещи: книги, музыка, театр, учёба, учёба и ещё раз учёба… И тем не менее, я могла сколько угодно пить из этого источника, но – в одиночестве. Поэтому я просто ждала. Терпеливо. Долго. Порой теряя надежду и даже откликаясь на попытки ухаживания со стороны молодых людей, которые, по сути, были мне совсем неинтересны. Порой отчаиваясь и говоря себе, что буду одна всю жизнь, посвящу себя только профессии, может быть, возьму девочку из дома ребёнка, а может быть, не возьму… А годы шли, один за другим, череда долгих лет, которые я занимала, помимо учёбы и работы, чтением книг, ведением дневника, выставками и спектаклями, путешествиями с родителями. В целом, мне не было одиноко или скучно, или слишком уж тоскливо… Те, кто вырос единственным ребёнком в семье, знают: мы всегда умеем сами себя занять. И всё-таки, я постоянно жила с ощущением того, что «я никому не нужна», и вот это ощущение, ложное по сути, медленно, но верно подтачивало меня, как червь подтачивает изнутри дерево.
Это была мамина идея – поехать в Израиль. Безусловно, мама всегда была двигателем в нашей семье: с её страстью к путешествиям, к любому движению вообще, она категорически не хотела сидеть на месте, и тянула везде за собой меня и папу. А мы и не сопротивлялись. Так и на это раз: Израиль, так Израиль, почему бы и нет? Стояла ранняя весна – самое лучшее время для поездок в южные страны, где уже совсем тепло, но нет ещё изнуряющей летней жары. Ну и плюс огромные скидки на авиабилеты. Мы собрались очень быстро: минимум вещей, мгновенное подтверждение бронирования гостиницы по электронной почте. И вот он перед нами: дивный, невероятный, весь пронизанный ласковым весенним солнцем, предпасхальный, до сих пор наполненный духом библейских событий – Израиль, Земля Обетованная, самая прекрасная на свете.
Таксист, который вёз нас из аэропорта Бен-Гурион в Нетанию, в нашу гостиницу, сразу же открыл культурную программу, ненавязчиво и весело рассказывая обо всём, что мы видели по дороге. А потом были восемь удивительных, каких-то сказочных дней: мы колесили по всей этой крошечной стране из конца в конец на неподражаемо-удобных автобусах, с самыми приветливыми, жизнерадостными и эрудированными гидами в мире, которые поминутно сыпали искромётными шутками и смотрели на каждого из туристов в группе так, словно он был один-единственный, самый важный для них человек на всём белом свете.
– Одним словом, евреи, – констатировал как-то вечером за ужином папа, уплетая за обе щёки умопомрачительно вкусную, ароматную, посыпанную кунжутом пшеничную лепёшку, щедро намазанную хумусом.
– Ты же говорил, что терпеть не можешь жидов, – напомнила мама, смеясь.
– Когда?! Я этого не говорил, – отрёкся от своих слов папа, невозмутимо продолжая жевать. Надо признать, после той поездки он никогда так больше не говорил.
Так вот, если вы действительно хотите попросить о чём-то Бога и быть услышанными, просите от всего сердца, искренне, и лучше, если вы сделаете это в том месте, где Бог ближе всего к нам, – в Израиле. Наверняка, люди верующие возмутятся и возразят мне: как это может быть! Бог – везде, и прежде всего, Он у каждого в душе. Но только те, кто побывал в этой чудесной стране, знают, как сильно ощущается присутствие Всевышнего там: в горах Северной Галилеи, или у озера Кинерет, или на улочках златостенного Иерусалима. Весь Иерусалим, весь этот бело-золотой город под синим-синим бездонным небом говорит с тобой на каком-то древнем, забытом языке, а сам, кажется, понимает тебя без всяких слов.
Для кого-то знаменитая Стена Плача это лишь ещё одна любопытная достопримечательность. Для меня она стала Местом Встречи с Всевышним. Помню, как наш кудрявый улыбчивый гид по Иерусалиму предупредил:
– Имейте в виду, желания, загаданные у Стены Плача, действительно исполняются, поэтому, думайте хорошо, что пишете в записке…
А я не думала долго. У меня на тот момент было одно-единственное желание, и я хотела этого так давно и так сильно, столько лет жила этой мечтой, что просить Бога о чём-то другом даже не приходило в голову. Поэтому я быстро написала на листочке, вырванном из блокнота, несколько слов и, туго свернув листок в трубочку, сжала его в кулаке, вливаясь в живой ручеёк туристов, направляющихся к главной стене Великого Города. Стена Плача разделена, как известно, на две части: мужскую и женскую. Но я думаю, что нет на всей земле другого места, где бы мужчины и женщины были более равны, более схожи в своих чувствах, ощущениях и желаниях, чем здесь, где они стоят, зажав в ладонях бумажки с самыми заветными, самыми искренними словами, – открытые и беззащитные, словно дети перед нашим Отцом Небесным.
Подождав пару минут, пока у стены освободится место (было утро, и людей совсем немного), я подошла к ней вплотную, ещё раз мысленно проговорила свою просьбу и запихнула листочек в узенький зазор между золотисто-белыми кирпичами. Буквально несколько минут назад мне казалось, что это просто забавный ритуал, что-то вроде туристического развлечения… Но здесь я почувствовала другое: какое-то давление и тяжесть в груди и непреодолимое желание заплакать. Однако дать волю слезам я не могла, ибо слёз просто не было. Я наклонилась чуть вперёд, низко опустив голову, чтобы спрятать лицо, искривлённое гримасой плача, и крепко прижалась лбом к прохладному гладкому камню. «Господи, Господи, пожалуйста, прошу тебя, я так тебя прошу, дай это мне, мне так сильно это нужно, прошу!» – мысленно повторяла и повторяла я, забыв обо всём на свете. И через какое-то время, ощутив лёгкость и спокойствие, отошла от Стены. Это было в самом начале апреля. А в конце июля, в том же году, я познакомилась с Владом.
Мы уже десять лет вместе, преодолев и пресловутый трехлётний «срок годности» любви, и «кризис семи лет» брака (в нашем окружении множество пар распалось именно на восьмом году совместной жизни), и я уже не представляю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не встретила его.
Кажется, я говорила уже, что мама с ранней юности постоянно внушала мне мысль о том, что «все мужики – одинаковы, все они мрази, и прекрасно можно прожить и без них, и выходить замуж вовсе необязательно». Конечно, немного странно всё это звучало из уст привлекательной женщины, которая четыре раза была замужем, но с другой стороны, наверное, ей-то было виднее, и скорее всего, именно личный опыт привел её к таким выводам. В качестве наглядного примера всегда под рукой был папа – «безынициативный, ленивый, выпивоха и бабник, эгоист и предатель».
К предыдущим мужьям были свои претензии. Первый «слушал во всём свою мамочку и нашёл другую бабу, на мамочкин вкус, помоложе и попроще, деревенскую, впрочем, она сама ему подставилась, и скорее всего, некуда уже было деваться». Второй – «моряк с печки бряк, вообще непонятно, зачем на мне женился, потому что всю жизнь любил одну крашеную дневальную, и в итоге к ней и ушел, как только она освободилась, а мамаша его потом ещё приходила забрать свои подушки, оно и понятно – хохлы». Третий был «в целом хороший человек, но не захотел остаться во Владивостоке, укатил в свой родной Павлодар, где был у него сын от первого брака. Причём, уехал без предупреждения даже: я пришла с работы вечером, а его нет, и вещей нет, просто уехал и всё, я так рыдала, что, наверное, на все десять этажей было слышно». Вот как-то так. Но и чужие мужья были не лучше, и вообще у каждого из знакомых представителей сильного пола обнаруживался свой набор недостатков и пороков, который вызывал справедливое негодование типа: «И как только жена с ним живёт!». Исключением был, пожалуй, лишь мамин дядя Жора, но он был «почти святой, и таких вообще не бывает на свете».
Я не стану утверждать, что мама сознательно и целенаправленно вела работу по воспитанию идеальной старой девы, хотя полностью отрицать эту возможность тоже не буду. О том, зачем это делалось, чуть позже. Но я не соглашусь с теми, кто с уверенностью свяжет мою одинокую личную жизнь с предубеждением против мужчин или же отвращением к ним, которые сформировались благодаря маминым внушениям. Нет, это не так. Потому что на самом деле, никакого предубеждения или отвращения к мужскому полу в целом я не испытывала… Просто не видела смысла в том, чтобы «пробовать»… Хотелось, чтобы было раз и навсегда, с «тем самым», с «моим» человеком.
Вот почему я никогда не винила и не виню маму за свое долгое одиночество и добровольный целибат. Это был мой и только мой выбор, и мама здесь совершенно не причём.
Её ошибка (не вина, а именно ошибка) была лишь в том, что она с какого-то момента стала относиться ко мне не как к дочери, а как к партнёру по жизни, который должен был заменить ей всех – и мужа, и подруг, и всех родственников. Более того, она относилась ко мне, как к своей собственности. Чем старше я становилась, тем больше она стремилась контролировать мою жизнь… Тотальный контроль: моего времени, моих занятий, моего общения, моих потребностей, чувств и желаний.
Утром, придя на работу (от дома до школы пятнадцать минут пешком) я должна была пойти в учительскую и оттуда позвонить ей, сообщить, что я дошла. Каждый раз. Каждый день. Если я забывала позвонить, мама названивала завучу, секретарю или директору (разумеется, у неё под рукой были все номера). Уходя с работы, мне нужно было снова пойти к телефону и сообщить маме, что я иду домой. И спросить, не купить ли чего по пути. Чаще всего покупать ничего не нужно было, но не потому, что она всё сама уже купила, а потому, что «потом пойдём в магазин вместе». Да, в магазин мы чаще всего ходили вместе. Да и вообще везде ходили вместе, под ручку, словно пожилая дворянка со своей молодой компаньонкой. Я несла пакеты с покупками, а мама задерживалась около каждого торговца на рынке или продавца в киоске, чтобы мило поболтать, – она очень любила общаться с людьми. В кино, театр, на концерты и выставки мы тоже ходили вместе, разумеется. Если же мне хотелось пойти куда-то одной или со своими сверстниками, мама тут же демонстрировала свое недоумение, пренебрежение и презрение: «Ну и зачем тебе это?», «Фу, что там делать?», «Совершенно не стоит на это время тратить, лучше уж мы сходим в…» – и всё это таким брезгливым, ироничным тоном, что желание куда-то идти реально пропадало. А если не пропадало, и я всё же делала так, как хотела (хотя, уже с неким привкусом обесцененности от её слов), то уж последствия моих действий окончательно отбивали охоту повторить этот порыв независимости и свободы. Потому что дальше была обида, которая выражалась в долгом, иногда многодневном молчании, сопровождавшемся драматическими телодвижениями в виде швыряния предметов, а также громкими вздохами, и презрительным шипением «Госссппаади» на любое моё действие или попытку заговорить.
Вспоминая всё это сейчас, глядя на эту ситуацию как бы со стороны, я поражаюсь, ужасаюсь даже: как я могла не видеть, не понимать, насколько отвратительно и низко она себя вела по отношению ко мне? Как я могла терпеть, почему не бунтовала, почему просто не ушла? Всё, что я испытывала тогда, – это огромное, тяжёлое, невыносимое чувство вины. Оно ощущалось даже физически, словно огромная бетонная плита на плечах, которая вот-вот раздавит. И я всей душой хотела только одного: чтобы она меня простила, чтоб перестала обижаться и молчать, чтобы всё стало как прежде, ведь мы всегда были с нею друзьями. И конечно, со временем главным мотивом моего поведения стало избегание всеми возможными способами вот таких мучительных для меня ситуаций. Избегание боли.
Когда мы познакомились с Владом, мне было уже за тридцать. И да, я всё еще жила с мамой. Папа уже несколько лет обитал отдельно от нас, один, но часто приходил, чтобы помочь или просто пообщаться со мной. С тех пор как папа отделился, мама ещё больше затянула гайки своего тотального контроля надо мной, а чтобы у меня и времени не было даже подумать о свободе, окончательно переложила на меня всю работу по дому, не прикасаясь теперь совсем ни к чему. При этом полы надо было мыть через день, чтобы ни пылинки, потому что от пыли мама поминутно заходилась кашлем. Что касается готовки, завтрак я каждое утро готовила сама, на двоих, а когда возвращалась домой с работы, никакого обеда, разумеется, не было, никогда. Тогда я стала перед уходом домой перекусывать в школьной столовой, чтобы потом можно было не спеша готовить дома, не умирая с голоду. Как-то на вопрос мамы «А ты что, не голодная?» я сказала, что не очень, потому что съела в школе котлету. Она взвилась: «Ах, так ты, оказывается, жрёшь там, а я здесь сижу с пустым холодильником! Почему-то мне ты не принесла котлетку… только о своем брюхе думаешь, вся в отца!» С тех пор я стала покупать для неё в школе котлеты или пирожки, и вместе с ученическими тетрадками несла домой пакетики со снедью. Она с удовольствием уплетала принесённое, непременно вынося свою оценку: «Пирожки у них, конечно, говно, тесто сырое. Не бери больше». На другой же день я слышала: «А что пирожков не взяла?.. Ну и что, что сырые, всё равно, хоть бы что-то к чаю было».
Ещё одно дополнительное «развлечение», которое придумала для меня мама, чтоб не скучно жилось, это регулярно, не реже раза в месяц строчить заявления в ЖЭК по самым разным вопросам бытового неустройства в доме. Она озвучивала проблему и требовала, чтобы я написала текст в канцелярском стиле («Ну, ты же филолог!»). Потом я набирала этот текст на компьютере («Так солиднее»), ходила распечатать его в нескольких экземплярах (принтера дома не было, надо было идти в сервис-центр, или к папе на работу). После всего этого надо ещё было пройти по соседям и собрать подписи, а потом мы вместе шли в ЖЭК это заявление подавать («Одна я не пойду, надо с тобой, одну меня никто слушать не будет», «Ну и что, что у тебя педсовет завтра в это время, пропусти, подумаешь, велика важность!»). И вот – очередной поход к начальнику ЖЭКа, с долгими мамиными разглагольствованиями об открытой на чердак двери или странном шуме в водопроводной трубе, вперемешку с лирическими отступлениями об истории её предков, и мне было уже неловко смотреть людям в глаза, но я уговаривала и успокаивала себя тем, что мы всё же делаем нужное для всех общественное дело. Теперь я понимаю, что уже тогда мне надо было просто отвести её к психиатру. Или же самой пойти.