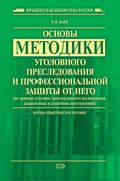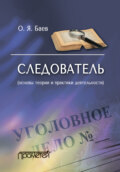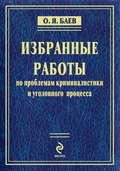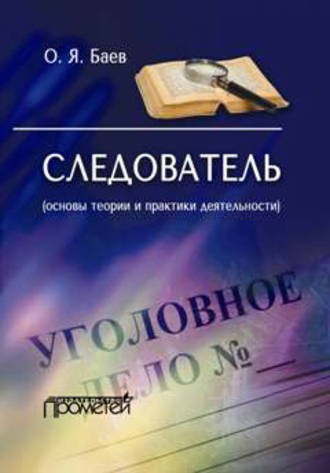
Олег Яковлевич Баев
Следователь (основы теории и практики деятельности)
Тем не менее, используя ранее составленную 3. схему места сокрытия им трупа, следователь произвел осмотр места происшествия, в ходе которого труп с очевидными следами насильственной смерти был обнаружен.
Расследование уголовного дела, возбужденного в этой связи по признакам ч. 2 ст. 105 УК (ранее это преступление оставалось латентным), в дальнейшем было приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Нет ни малейших сомнений в том, что в данном случае «признательные» показания 3. – доказательство недопустимое, использовать его в доказывании невозможно, как говорят, по определению.
Но, по глубокому нашему убеждению, было бы исключительным ханжеством признавать недопустимым доказательство в виде обнаружения трупа при осмотре следователем места происшествия, произведенного на основе информации, содержащейся в – вновь подчеркнем – недопустимых как доказательство показаниях 3., без наличия которой, будем реалистами, оно установлено не могло быть. (Если довести рассматриваемую ситуацию до парадокса, в этой связи можно ставить под сомнение и обоснованность самого возбуждения по данному факту уголовного дела, ибо основания для производства осмотра места происшествия были получены из недопустимого источника).
Показания 3. – недопустимы, недопустима ссылка на них в каких-либо процессуальных документах, составляемых как в ходе доказывания, так и по его результатам, они для того – поистине «плоды отравленного дерева».
Встречаются случаи признания допустимости использования «плодов отравленного дерева» и в значительно более проблематичных и спорных с позиции этого критерия ситуациях.
Но, думается нам, «плоды отравленного дерева», как о том писали еще в 1973 г. авторы фундаментальной «Теории доказательств в советском уголовном процессе», «…в некоторых (аналогичных приведенному нами – авт.), случаях может использоваться (подобно оперативной информации) в качестве своего рода «указателя» направления расследования и местонахождения доказательств»[108].
Конечно же, в правовых системах отдельных государств обличение уголовно-релевантной информации в формы, соблюдение которых делают ее допустимой для использования в качестве доказательств, различны. Но в любой их них возможность допустимости использования в доказывании при уголовном преследовании конкретного сформированного соответствующими должностными лицами доказательства – вопрос повышенно принципиальный, решаемый, однако, зачастую далеко непоследовательно.
Так, В. Н. Махов и М. А. Пешков в учебном пособии, посвященном досудебным стадиям уголовного процесса США, рассматривая проблемы допустимости доказательств, приводят следующие примеры из правоохранительной практики этой страны: «В деле Эдвардса (1972 г.) суд установил, что изъятая из мусорного контейнера без ордера на обыск упаковка от марихуаны является недопустимым доказательством, так как ее владелец мог вполне обоснованно рассчитывать, что содержимое принадлежащего ему мусорного контейнера останется втайне. В другом деле недокуренная сигарета марихуаны, изъятая полицейским через открытое окно автомашины, находившейся в гараже, которым совместно пользуются несколько незнакомых между собой владельцев, была признана допустимым доказательством, так как, по мнению суда, подобный гараж не представляет собой сферу частной жизни[109].
Не менее спорна и неоднозначна в этом отношении и практика ЕСПЧ.
К примеру, в Постановлении ЕСПЧ по делу «Праде против Германии» суд прежде всего отметил, что обыск в жилище, проведенный на основании судебного решения в рамках уголовного дела в отношении заявителя по фактам нарушения им авторского права привел к [случайному] обнаружению наркотиков – гашиша в значительном количестве [примерно 464 грамма].
Федеральный Конституционный Суд Германии затем отменил решение суда (первой инстанции), разрешающее проведение обыска по делу о нарушении авторских прав, по причине отсутствия достаточных оснований, «которые оправдывали бы такое существенное воздействие на конституционные права заявителя, которое оказывает обыск в жилище». Тем не менее, констатировал ЕСПЧ, как и предусмотрено ст. 13 Основного закона (Германии), власти получили решение суда на проведение обыска до его проведения.
ЕСПЧ далее указал: «Суд отмечает, что национальные суды тщательно проанализировали аргументы заявителя, касающиеся использования доказательства (обнаруженного наркотика – авт.), и подробно мотивировали свое решение о том, что доказательство могло быть использовано в судебном разбирательстве, несмотря на получение в ходе незаконного обыска в жилище. Они соотнесли общественный интерес, заключающийся в привлечении к ответственности за совершение такого преступления как хранение наркотиков, с интересами заявителя, заключающимися в том, чтобы уважалось его жилище… При таких обстоятельствах… их выводы о том, что общественные интересы перевешивают конституционные права заявителя, были тщательно и подробно мотивированы и не свидетельствуют о проявлении произвола или несоразмерности [вмешательства]. […]. Суд приходит к выводу, что разбирательство по делу заявителя в целом не было несоответствующим требованиям справедливого судебного разбирательства. Из этого следует, что нарушения статьи 6 § 1 Конвенции допущено не было»[110].
Но, помимо допустимости, есть также еще один обязательный, атрибутивный признак доказательства в уголовном процессе – относимость, имеющий не менее существенное (если – с позиции познания – не более) значение для объективности осуществляемого уголовного преследования и реализации его наступательной позиции, чем предыдущий.
Сущность его заключается в том, что содержащаяся в нем информация свидетельствует о наличии объективной связи полученных сведений с обстоятельствами, подлежащими доказыванию (а также иными обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела).
Надо заметить, что действующий УПК текстуально не определяет понятие относимости доказательств (как то отражено в нем применительно к критерию их допустимости), что сочли необходимым опосредовать в уголовно-процессуальных кодексах законодатели ряда других государств.
Так, «доказательство – указано в ст. 125 УПК Республики Казахстан признается относящимся к делу, если оно представляет собой фактические данные, которые подтверждают, опровергают или ставят под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение для данного дела» (такое же понятие относимости доказательств содержится в ст. 95 Республики Узбекистан).
Вряд ли в подобной нормативной трактовке этого атрибутивного признака доказательств есть необходимость. По сути, такое его понимание всецело вытекает из приведенной выше самой законодательной конструкции доказательства как сведений, устанавливающих наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Доказательство есть облеченные в соответствующую процессуальную форму не просто любые сведения, но сведения, лишь относящиеся, значимые для установления указанных обстоятельств, сведения к этому процессу относимые.
И в то же время установление того, что выявляемые в ходе следственного действия сведения являются относимыми, имеющими указанное значение для расследуемого дела – задача зачастую далеко не легкая. Они в ряде случаев могут быть и умышленно сфальсифицированы[111], но иногда могут возникать по совершенно иным причинам.
Так еще Ганс Гросс вспоминал случаи, «в которых С. С. (судебный следователь – авт.) описывал с самой педантичной тщательностью положение трупа и приходил к остроумнейшим заключениям, как вдруг при дальнейшем расследовании оказывалось, что труп до прибытия С. С. был перевернут и оставлен в этом положении посторонними любопытными лицами. В одном же деле на предварительном следствии большое значение при осмотре трупа придано было найденному на трупе пиджаку, но затем выяснилось, что пиджак был накинут на труп для того, чтобы избавить прохожих от страшного вида раздробленного черепа»[112].
Известный криминалист Н. И. Порубов в книге своих воспоминаний описывает случай, когда при повторном осмотре места убийства была обнаружена страница из журнала «Работница».
В результате большой и кропотливой работы по проверке всех подписчиков этого журнала в районе, где было совершено преступление, было установлено, что этот лист вырван из журнала, получаемого в доме участкового уполномоченного милиции. Будучи в определенной степени заподозренным в причастности к совершению данного преступления, тот при допросе вспомнил, что в день обнаружения трупа перед выездом на место этого убийства он завернул кусок сала в бумагу, для чего вырвал лист из какого-то журнала, находившегося на этажерке. По дороге он съел сало, а когда вытаскивал труп, вытер бумагой руки и бросил под ноги[113].
Говоря об этом признаке доказательства, следует обратить внимание на определенную его диалектичность. С одной стороны, этот признак объективен. Но, с другой, ряд имеющихся в распоряжении следователя к началу расследования (и получаемых в ходе расследования) сведений, облеченных им в надлежащую процессуальную форму, в форму доказательств, в дальнейшем вполне могут утратить свойство относимости к делу.
Особенно это характерно для доказательств, сформированных в ходе проверки следователем версий о причастности к совершению преступления тех или иных лиц, участие которых в преступлении в результате расследования не подтвердилось (или однозначно опровергнуто).
В этой связи можно согласиться с мнением Р. В. Костенко, что эти доказательства являются относимыми для их использования при принятии процессуальных решений в отношении этих лиц (об отмене избранной меры пресечения, постановления о прекращении уголовного преследования)[114].
Но, однако, в дальнейшем ни следователь в обоснование своего итогового решения по делу (в обвинительном заключении, постановлении о прекращении уголовного дела), ни рассматривающий уголовное дело по существу суд к ним обращаться не будут; эти доказательства утратили для них свойство относимости к делу. В необходимых случаях такая оценка доказательств должна быть отражена в соответствующем процессуальном акте, о чем с полной определенностью сказано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. «О судебном приговоре»: «Если какие-либо из исследованных доказательств суд признает не имеющими отношения к делу, об этом должно быть указано в приговоре» (п. 6).
И, напротив, если принятые этими субъектами доказывания по делу решения будут в надлежащем порядке отменены, то не исключено, что данные доказательства могут вновь приобрести значение относимых доказательств.
Скажем, уголовное преследование в отношении некоего лица прекращено в связи с наличием у него алиби, но после отмены этого решения следователя в ходе дополнительного расследования данное алиби опровергнуто, а потому ранее сформированные доказательства причастности этого лица к преступлению вновь приобретают характер относимости к делу.
Сказанное в очередной раз подтверждает то, что доказательством в уголовном деле являются любые относимые сведения, полученные из предусмотренных УПК источников, отраженные в протоколе следственного действия, зафиксировавшем факт, ход и результаты его производства.
Поэтому некорректным следует признать, когда при анализе доказательств зачастую эти параметры смешиваются, используются далеко не точно (что, думается, обусловливается «линейным» отнесением протоколов следственных и судебных действий (судебного заседания) к доказательствам как таковым, о чем мы упоминали выше).
К примеру, по мнению автора одного обвинительного заключения, «доказательствами, подтверждающими обвинение Е. в совершении инкриминированного ему преступления, являются:
[…]
– протокол осмотра места происшествия от 21.04.2014, согласно которому… (т. 1 л. д. 23–29);
– протокол допроса потерпевшего Р. от 04.06.2014 г., согласно которому… (т. 1 л. д. 195–198);
– протокол предъявления лица для опознания от 09.06.2014, согласно которому Р. опознал мужчину под № 2… – Е. (т. 1 л. д. 199–202)».
Более точно с уголовно-процессуальной точки зрения, как это нам представляется в настоящее время, было сформулировать эти приведенные доказательства таким образом:
– место происшествия, при осмотре которого было установлено… (т. л. д.);
– показания потерпевшего Р. от…, в которых допрашиваемый сообщил, что… (т. л. д.);
– опознание потерпевшим Р. среди предъявленных ему лиц подозреваемого Е. (т. л. д.).
Обоснованность нашей позиции по этому вопросу подтверждается, в частности, и тем, что законодатель в ст. 276 и 281 УПК говорит (на что обратил внимание С. Б. Российский) об оглашении в суде не протоколов допросов, а об оглашении показаний[115].
В то же время ст. 285 УПК предусмотрена возможность оглашения в суде не только заключений экспертиз, иных документов, но и протоколов следственных действий, «если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела». Именно последнее уточнение с очевидностью указывает на понимание протоколов не как доказательств, а лишь как на законодательно установленную форму, в которой данные обстоятельства были установлены или удостоверены.
И потому далеко неслучайно, что в уже приводимом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» особое внимание обращено на то, что «…с учетом положений статьи 74 и части I2 статьи 144 УПК РФ о том, какие сведения могут признаваться доказательствами по уголовному делу, суд в описательно-мотивировочной части приговора не вправе ограничиться перечислением доказательств или указанием на протоколы процессуальных действий и иные документы, в которых они отражены, а должен раскрыть их основное содержание» (п. 8).
Значительно более сложной представляется проблема включения в атрибуцию уголовно-процессуального доказательства такого – имеющего повышенное значение для всей системы объективного уголовного преследования – признака, как его достоверность.
Видимо, исходя из того, что уголовно-процессуальный закон указывает, что «каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности» (ч. 1 ст. 88 УПК), многие процессуалисты в атрибутивные признаки его, помимо обозначенных выше свойств относимости и допустимости, включают достоверность содержащейся в доказательстве информации.
«Если, – пишет например, по этому поводу В. В. Трухачев, – доказательственная информация, хотя бы полученная в порядке и из источников, предусмотренных законом, необъективна, т. е. противоречит комплексу информации, достоверность которой по делу установлена, она не может рассматриваться в качестве доказательства»[116].
Кстати сказать, так же полагают и законодатели Азербайджанской Республики, указавшие в ст. 124.1. своего УПК, что «Доказательствами по уголовному преследованию признаются заслуживающие доверия улики (сведения, документы, вещи), полученные судом или сторонами уголовного процесса» (выделено нами – авт.).
Не думаем, что подобная трактовка рассматриваемой категории обоснована хотя бы потому, что она, в сущности, противоречит определению доказательств, сформулированному в отечественном уголовно-процессуальном законе. В соответствии со ст. 74 УПК – напомним это вновь – таковыми являются «любые сведения» (выделено нами – авт.), которые получены из указанных в этой же статье источников. Таким образом, закон не включает (и, думаем мы, совершенно обоснованно) в это понятие в качестве необходимого (атрибутивного) его признака достоверность заложенной в доказательстве информации.
Скажем, ложные показания свидетеля, которые он дал при допросе, проведенном без каких-либо отступлений от процессуального порядка производства данного следственного действия, об уголовно-релевантных (относимых к делу) обстоятельствах есть «полноценное» доказательство, однако, требующее от следователя (суда) оценки их достоверности.
«Только после того, как допустимость отдельного доказательства установлена, – пишет известный израильский правовед А. Барак, – можно определять, насколько оно весомо» (достоверно – авт.)[117].
В следственной и судебной практике известны уголовные дела, по которым многочисленные свидетели дают заведомо ложные показания в интересах чаще всего обвиняемого, подсудимого. В то же время достоверными являются показания единственного потерпевшего.
Наиболее яркими примерами в контексте нашего исследования могут служить уголовные дела по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, когда обвинительным и, подчеркнем, достоверным показаниям потерпевшего противостоят противоположные показания многочисленных коллег обвиняемого.
Не менее – а скорее более – распространены факты дачи ложных показаний в результате подкупа и принуждения к тому со стороны заинтересованных в исходе дела лиц (либо по иным личным мотивам)[118].
Недостоверным может оказаться и доказательство, ранее сформированное в результате проведенной судебной экспертизы – к примеру, когда повторная экспертиза (назначенная по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 207 УПК) придет к выводам о необоснованности заключения экспертизы первоначальной, т. е. признает его недостоверным.
Мы уже не говорим об использовании следователями в уголовном преследовании сфальсифицированных доказательств – доказательств а priori недостоверных.
Р. В. Костенко свою позицию в ведущейся по рассматриваемой нами проблеме дискуссии сформулировал следующим образом:
«Признание доказательств достоверными не означает их трактовку как фактов реальной действительности, достоверных в силу своей объективной природы и существующих независимо от познавательной человеческой деятельности. Достоверность уголовно-процессуальных доказательств необходимо рассматривать как гносеологическую категорию. Это означает, что вывод кого-либо из субъектов, ведущих процесс о достоверности определенного доказательства, не исключает иной оценки тех же сведений другим субъектом на том же этапе доказательственной деятельности»[119].
Нет сомнений в научной корректности этих утверждений (так же полагает А. Б. Соловьев и ряд других ученых), за исключением одной детали. Что же могут столь различно оценивать (и зачастую оценивают) субъекты, осуществляющие доказывание и в нем участвующие? Столь различно они оценивают не что иное, как уже существующие, сформированные надлежащим субъектом в надлежащей для того процессуальной форме доказательства.
И потому в УПК большинства государств, возникших на постсоветском пространстве, в которых (в противоположность отечественному УПК) дается понятие достоверности доказательств, оно определяется следующим образом:
– доказательство признается достоверным, если в результате проверки выясняется, что оно соответствует действительности (ст. 125 УПК Республики Казахстан);
– доказательство признается достоверным, если в результате проверки выясняется, что оно соответствует действительности (ст. 95 УПК Республики Узбекистан);
– каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности […]. Достоверными признаются доказательства, если они соответствуют действительности (ст. 105 УПК Белоруссии).
И потому, считает А. В. Смирнов, «… достоверность указанных сведений не является необходимым признаком доказательства; они еще подлежат проверке и исследованию судом и сторонами и могут быть оценены иначе […] Как правило, вывод о достоверности этих сведений может быть сделан лишь при окончательной (итоговой) оценке определенной совокупности доказательств»[120].
Такового же мнения и А. В. Победкин: «Признание за сведением о факте наличие свойств относимости и допустимости (т. е. появление доказательства) свидетельствует о возможности оценки этого сведения на его достоверность»[121].
Этой же точки зрения придерживаются и многие другие специалисты в области судебного доказывания. «Нельзя считать доказательством только достоверные знания о событиях реальной действительности, – пишет, например, А. С. Рубис, – так как достоверность их должна быть предварительно доказана». В то же время, замечает далее автор, «средства, с помощью которых она может быть установлена, не могут быть ничем иным, как доказательствами по уголовному делу»[122], поэтому «сведения о фактах, полученные в установленном законом порядке и имеющие логическую связь с предметом доказывания, считаются доказательствами независимо от того, достоверны они или нет»[123].
Мы присоединяемся к приведенным выше мнениям (с полной убежденностью в их правоте) о том, что достоверность не есть атрибутивное (обязательное) свойство уголовно-процессуального доказательства.
Нам представляется, что о достоверности сформированного следователем доказательства (относимых уголовно-релевантных сведений, облеченных в соответствующую процессуальную форму) можно вести речь лишь в контексте оценки качества этого доказательства.
Остановимся на этой принципиальной в изучаемом контексте проблемы следственного уголовного преследования несколько подробнее.
По В. И. Далю, качество есть «свойство или принадлежность, все, что составляет сущность лица или вещи»[124].
В современном русском языке это понятие определяется как:
– существенный признак, свойство, отличающее один предмет от другого;
– степень достоинства, ценности, пригодности вещи, действия и т. п., соответствия тому, какими они должны быть[125].
С позиций гносеологии качество – это существенная определенность предмета, явления, процесса, в силу которой он является данным, а не иным предметом, явлением или процессом[126].
Международная организация по стандартизации (ИСО – ISO) лаконично определила качество (в интерпретации А. Д. Шадрина) как «степень, с которой совокупность собственных отличительных свойств (характеристик) выполняет потребности или ожидания заинтересованных сторон, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными»[127].
В то же время каждый качественно определенный объект, в свою очередь, с логической и психологической неизбежностью оценивается с точки зрения качества его самого каждым потребителем этого объекта – индивидуумом, группой людей, всем обществом (в зависимости от значимости объекта для них).
Если прибегнуть к достаточно грубой аналогии, нет сомнений, что «Ока» и «Мерседес» есть по своим атрибутивным признакам автомашины, к тому и другому техническому устройству всецело относится это понятие. Отличаются они между собой лишь одним – качеством, и с этой позиции они и оцениваются – и оцениваются различно! – как потребителями, так и обществом[128].
Так же, в сути своей, обстоит дело и с уголовно-процессуальными доказательствами. Достоверность, иными словами, качество сформированного доказательства по конкретному делу исследуется, проверяется, оценивается экспертами – каждым субъектом доказывания, другими лицами, в нем участвующими, как указано в ст. 87 УПК, «путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство». Чем более убедительно доказательство подтверждает (или опровергает) исследуемый по делу факт или обстоятельство, тем лучше, выше его качество.
Именно с этих позиций и в теории, и в практике доказывания оценивается значимость прямых, производных, косвенных, вещественных и личных доказательств (к примеру: обоснованное заключение идентификационной судебной экспертизы, очевидно, является более достоверным по своему качеству доказательством, чем противоречащие ее выводам показания свидетелей и т. д.). Заметим тут же, что эта проблема актуальна не только для принятия итоговых процессуальных решений, но и для решений, носящих прогностический характер (таких, например, как об избрании меры пресечения и определения ее вида, отстранения обвиняемого от должности, наличия оснований для производства обыска в жилище или ином помещении и т. п.).
Несколько эпатажный слоган (иначе расценить его вряд ли возможно) А. С. Александрова «информация – глупа, пока аргументатор не наполнит ее энергией своего дискурса» сопровождается совершенно верным замечанием о том, что сторона обвинения должна представлять доказательства в форме, «исключающей разумные, неустранимые сомнения у судьи (присяжного) в достоверности предоставленных доказательств виновности подсудимого»[129].
Особое внимание обратим на следующее.
На протяжении осуществления уголовного преследования и всего судопроизводства по конкретным уголовным делам в целом качество отдельных доказательств зачастую претерпевает существенные метаморфозы: подозреваемый, обвиняемый по тем или иным причинам отказывается от ранее данных, на взгляд субъекта доказывания, достоверных «признательных» показаний о совершении инкриминируемого ему преступления; изменят свои ранее данные «качественные» показания свидетели, а в ряде случаев и потерпевшие (например, последние впоследствии станут утверждать, что они допустили ошибку при опознании ими подозреваемого).
Можно утверждать, что качество сформированного следователем допустимого и относимого доказательства для обеспечения объективного и наступательного характера осуществления уголовного преследования нуждается в своей «предвосхищающей» защите (к примеру, когда лицо, чьи – представляющиеся достоверными, качественными показания – для того использованы, их еще не изменило, но вероятность этого не исключена; сказанное касается и такой же «предвосхищающей» проверке других возможных версий стороны защиты)[130].
Необходимость этого обусловлена тем, что существующие правовые механизмы, по верному замечанию С. Б. Российского (предупреждение свидетеля, потерпевшего или эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, заключения и т. д.), «лишь частные гарантии достоверности доказательств и не позволяют в полной мере исключить попадание в уголовное дело недостоверных сведений. Поэтому основными гарантиями достоверности доказательств продолжают служить личные качества субъектов доказывания, в частности, профессионализм, мастерство, высокая степень ответственности и правосознания. А современные достижения в области криминалистической науки (несколько, на наш взгляд, излишне оптимистично сообщает данный автор – авт.) вооружают дознавателей, следователей, прокуроров и судей таким арсеналом технических средств и тактических рекомендаций, которые в своей совокупности и при наличии вышеназванных качеств позволяют максимально снизить получение недостоверных доказательств»[131].
Качество всей системы допустимых и относимых доказательств для обоснованного непосредственного уголовного преследования (и его продолжения) следователя оценивает в принимаемом им итоговом процессуальном решении «по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью» (ст. 17 УПК).
Основываясь на вышеизложенных принципах, в конечном счете качество каждого доказательства и доказывания в целом оценивается судом в обвинительном приговоре (с возможными изменениями относительно обвинения, по которому подсудимый предан суду) или приговоре оправдательном, вступивших в законную силу. Либо – как законный паллиатив – в решении судьи о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом (в том числе, согласно последним изменениям в ст. 237 УПК, и для «поворота к худшему» относительно ранее предъявленного подсудимому обвинения).
Логично возникает вопрос: что доказывают не качественные уголовно-процессуальные доказательства, т. е. полученные из надлежащих источников и облеченные в надлежащую процессуальную форму относимые к делу, но содержательно недостоверные сведения?
Напрашивающийся в этой связи приведенный выше вывод, что недостоверные доказательства ничего не доказывают, а потому признаваться доказательствами в принципе не могут, не учитывает специфики доказывания именно уголовно-процессуального, а не просто как инструмента познания в других областях знания и практики (в них недостоверные доказательства просто отвергаются, далее не используются). Такие доказательства, вновь повторим, после их допустимого формирования в материалах уголовного дела существуют уже объективно, желает или не желает того субъект доказывания. Как недостоверные они этим субъектом по указанным выше принципам лишь оцениваются.
Из всего сказанного выше о сущности уголовно-процессуального доказательства и его обязательных (атрибутивных) признаках (свойствах) и качестве самого доказательства в контексте темы нашего исследования следуют такие принципиально важные выводы.
1. Доказательствами в уголовном деле являются полученные из надлежащего источника, облеченные в соответствующую процессуальную форму сведения, устанавливающие наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по нему, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. Качество (достоверность) каждого доказательства при осуществлении уголовного преследования оценивается следователем с позиции его соответствия уголовно-процессуальному закону, своему внутреннему убеждению и совести в результате сопоставления его с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.
Далее (с учетом выше сформулированных выводов о сущности уголовно-процессуального доказательства и его атрибутивных признаках) следует хотя бы вкратце остановиться на принципиально значимой и остро дискуссионной проблеме достаточности доказательств для обоснованного уголовного преследования, его доказанности.
Это необходимо даже не потому, что, в соответствии с законом (ст. 88 УПК), в уголовном судопроизводстве все собранные доказательства в их совокупности подлежат оценке сточки зрения их достаточности для разрешения уголовного дела; этого требует методология и логика познания, в том числе познания уголовно-процессуального: любое явление, событие, факт может считаться установленным достоверно, если для вывода о том есть достаточная совокупность подтверждающих такой вывод доказательств.
Сразу следует оговориться: достаточность есть не свойство доказательств, как почему-то иногда не очень корректно считается в литературе[132], а свойство доказанности. Верная его оценка позволяет сделать вывод о том, что некое уголовно-релевантное обстоятельство установлено или опровергнуто «совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, которые имеются в материалах уголовного дела и находятся между собой в логической взаимосвязи и взаимозависимости»[133].