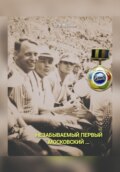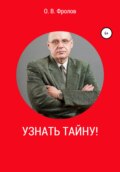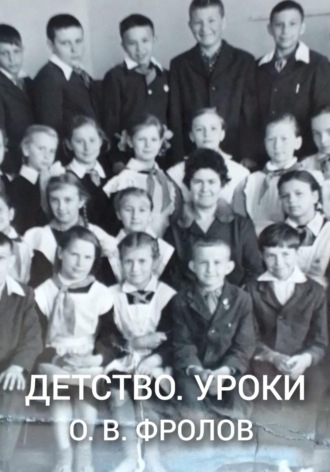
Олег Васильевич Фролов
Детство. Уроки
Уклон длинной улицы помог мне научиться кататься на двухколесном велосипеде. Дело в том, что уже переехав в «серый» дом, я продолжал кататься на трехколесном, о котором я рассказал в моей книге «Давно это было», но без лифта с пятого этажа я сам спустить его на землю, естественно, не мог, поэтому просил или бабушку или родителей помочь мне. Понятно, что часто они это делать не могли. А кататься-то хотелось! И тут мне повезло.
Помню у кого-то из мальчишек, но, кажется, не из нашего дома, был двухколесный, без одной педали велосипед. На этом велосипеде сначала он, а потом с его разрешения и другие мальчишки по очереди съезжали под уклон длинной дорогой. Дистанция для такого катания была следующая: около четвертого подъезда , находившегося напротив нашего дома, садились на седло велосипеда и оттолкнувшись, держа одну ногу на весу, а другую на единственной педали, скатывались вдоль сквера до его окончания, немного не доезжая до первого подъезда дома, за которым начинался угловой дом, в котором находился исполком городского Совета депутатов трудящихся.
Я долго приглядывался к такому катанию, и как-то, улучив момент, когда на улице были только «владелец» велосипеда и я, все-таки решился попробовать. Уговорил «владельца», сел на седло, поставил, кажется, правую ногу на педаль, а левую отвел в сторону, и, даже еще не оттолкнувшись, почувствовал, что падаю. Однако успел поставить ноги на землю и удержался в седле, не упал.
Вторая моя попытка, последовавшая сразу за первой, была немного удачнее. Мне удалось поехать около полутора метров, поскольку сбоку от меня бежал, поддерживая меня, «владелец» велосипеда. Понятно, что такой способ катания ни меня, ни его не устраивал.
Выход я нашел: садился на велосипедное седло, отталкивался и быстро расставив, немного приподняв над дорожным полотном, ноги, балансируя ими, съезжал, а при малейшей опасности упасть, ставил обе ноги на дорогу. Не помню, сколько дней я так катался, но в итоге я стал ставить ногу на педаль и скатываться, не снимая ее с педали, до остановки.
Почувствовав уверенность в том, что я, катаясь, не упаду, я попросил пару переделать мой трехколесный велосипед в двухколесный. Но даже пересев на него, я никогда не съезжал на нем по длинной дороге, а, крутил педали, вдоль палисадника нашего дома на ровной, без уклона дороге.
С велосипедом была связана еще одна история, которая, к счастью, хорошо завершилась. Дело в том, что я повадился переворачивать сначала трехколесный, а потом и двухколесный велосипед так, чтобы он опираясь на руль и седло, стоял вертикально. Мне нравилось крутить, то в одну сторону, то в другую, педаль, прикрепленную к большой шестерёнке – «звёздочке», от которой шла цепь на более маленькую шестеренку– «звёздочку», приводящую во вращение задние колеса, а после переделки, заднее колесо велосипеда. Кем я тогда себя воображал, не помню.
Однажды, взгромоздив вверх колесами велосипед, кажется, на сиденья двух поставленных рядом стульев, я, как обычно, начал рукой крутить педаль. И надо же было такому случиться, что мой младший брат Сергей, не знаю почему, протянул свою руку к движущейся цепи и его четыре тоненьких пальчика попали между цепью и зубцами шестеренки! Как я успел прекратить крутить, не знаю. Но когда я прокрутил педаль в обратную сторону, вынутые из шестеренки пальчики в своей средней части были не только окровавлены, но и черными от масла, которым была смазана велосипедная цепь.
Повезло, что в это время пришла, не помню откуда, кажется из магазина, бабушка. Если бы не она, я вряд ли смог самостоятельно обработать, хотя и поверхностные, но безусловно серьезные раны. Помню, что после этого, я перестал играть с перевернутым велосипедом. Несомненно, этот случай стал для меня еще одним жизненным уроком. Я понял, что, прежде чем, что-либо делать, надо подумать о безопасности как самого себя, так и окружающих, тем более, в первую очередь тех, кто вечно любим и бесконечно дорог.
Сколько лет я катался на этом двухколесном велосипеде, я не помню, но катался я на нем, кажется и тогда, когда мы уже начали в летнее время жить на даче в Трудовой. И, что интересно, у велосипеда в итоге отвалилась одна из педалей.
***
Помню, у нас в квартире почти постоянно было включено радио, точнее радиоприемник «Рекорд», о котором я рассказал в моей предыдущей книге «Давно это было», и должен сказать, что я слушал не только детские передачи.
Запомнилось, что о полете Ю. А. Гагарина я узнал именно по радио, когда, собирался выйти на балкон. О полетах спутников, я уже знал, и, может быть поэтому, а, скорее всего, по недомыслию малолетки особо не придал этому известию особого значения. «Дошло» до меня, что это было неординарное, величайшее событие только после того, как с неба посыпались серо-зеленого цвета листовки. Кажется, они были формата А5. Сначала я не понял, то это опускается, кружа и летая по ветру. Выбежал на балкон, услышал жужжание маленького, с двумя крыльями: одно, покороче, под кабиной летчиков, второе, более длинное, – над ней, самолета, мы его называли «кукурузником», за которым в солнечном небе развивался длинный серо-зеленый прерывистый «хвост», постепенно распадающийся на отдельные бумажные листки, и засмотрелся.
Самолет делал большие круги, улетая и возвращаясь. На школьном дворе, площадке для сушки, в общем, везде, лежали серо-зеленые листовки. Не уверен, но кажется, что одна из них спланировала на наш балкон, ее поймала бабушка. Но так ли это было, или бабушка принесла листовку со двора, помню, что на листовке была фотография Ю. А. Гагарина и текст, который мне прочитала бабушка. По-моему, это было, краткое изложение информационного сообщения ТАСС о первом в мире космическом полете человека. Вечером, вернувшись с работы, подобную листовку привезла и мама.
Если не ошибаюсь, о полетах еще трех советских космонавтов: Г. С. Титова, А. Г. Николаева и П. Р. Поповича, также разбрасывались аналогичные листовки.
Некоторое время экземпляры всех этих листовок я сохранял, но потом … Эх, надо было бы сохранить, но, увы …
Не сохранил я и театральные и концертные «программки», которые привозили папа и мама после посещения московских театров и концертов. А, их было много. Почему-то запомнилась одна: оперы Д. Верди «Риголетто». Может быть потому, что это была первая программка, которую я прочитал самостоятельно …
Конечно, в то время я мало что понимал, особенно в политике, но помню, как наслушавшись разговоров бабушек-соседок, обычно сидевших на лавочке у подъезда, о Карибском кризисе и о том, что вот-вот может быть война, а, значит, надо делать запасы продуктов, я совершил поступок, о котором и сейчас вспоминаю с удивлением. Короче говоря, я оторвал от связки сарделек, находившейся холодильники, а, надо сказать, что сардельки мы ели часто, одну и спрятал ее «про запас» в желтый фаянсовый примерно сорока сантиметровой высоты и сантиметров пятнадцати диаметром «бочонок» с закрывавшейся такой же желтой фаянсовой крышкой. Этот «бочонок» уже стоял в холодильнике, но пустым. О сделанном мною я никому не рассказал, полагая, что, когда будет необходимо, я сардельку извлеку из «бочонка», отдам родителям и у нас будет, что поесть …
Как известно, Карибский кризис завершился мирно, а я о сардельке забыл. Но, как-то заглянул в холодильник и сразу вспомнил, тем более что бабушка как раз собиралась отваривать, конечно, новые, сардельки. Вот я и решил отдать сардельку бабушке, чтобы она отварила ее вместе с другими. Думаю, понятно, мое удивление, когда, открыв крышку «бочонка», я увидел заплесневевшую, в серо-синем «мохнатом» налете сардельку. Пришлось мне рассказать бабушке историю этой сардельки. Наказан я ни ею, ни родителями не был. Но чувство вины за совершенное, хотя и с благими намерениями, у меня осталось
И еще. Я очень хотел стать большим, не столько взрослым, а именно большим. Помню, что папа время от времени отмечал, делая черным карандашом крохотную черную полоску на косяке двери в маленькую комнату, мой рост. А я смотрел, как полоска становится все выше и выше, и все ждал, когда же я вырасту.
Выше я рассказывал, что бегал покупать конфеты-«подушечки, но не только их. Как это не покажется удивительным, помню, что, по крайней мере, точно один раз, с написанной папой запиской, я бегал в киоск, находившийся ближе к правому углу, если смотреть из окон нашей квартиры, противоположного нашему дому, за папиросами «Беломорканал» или как их сокращенно называли курящие «Беломор». Детского сада тогда еще не было, поэтому весь мой «маршрут» контролировался папой, находившимся на балконе. Это было тогда, когда он еще курил и готовился к экзаменам.
Будучи маленьким, я, конечно, не понимал, что папа постепенно и осторожно приучал меня к самостоятельности. Но все его поручения выполнял с удовольствием.
Уже учась в начальных классах школы, я ходил с ним, а потом и самостоятельно к станции, покупать квас, который не только пили: папа из полулитровой большой стеклянной гранёной кружки, а я из такой же, только в половину меньшего объёма, но приносили в коричневого цвета трехлитровом бидоне домой, большая часть объёма которого шла на приготовление окрошки. В нее всегда добавляли нарезанные кусочки «Докторской» колбасы.
Ходил я, по воскресеньям обычно к девяти часам утра и в газетный киоск. Он находился около станции, метрах в двадцати пяти от бревенчатого здания «Универмага». На киоске была надпись– «Союзпечать». Почему к девяти часам? Чтобы успеть купить новые, или как тогда говорили, «свежие» еженедельные выпуски газет: «Неделя», «Футбол» и журнала «Огонек».
Развивал папа и мою наблюдательность. Для этого он просил меня отвернуться, а сам или переставлял, или прятал какую-то безделушку или игрушку, книжку, назвать которую я был должен, повернувшись обратно.
Кстати, по мере того, как я подрастал, папа стал брать меня с собой встречать маму. По-моему, обычно это было то ли в конце уходящего, то ли в начале наступающего года и связано было с тем, что надо было «свести баланс» на маминой работе. Помню, темный вечер, вокруг лежит снег, людей на улицах мало, а я с папой иду на станцию Долгопрудная. Остановившись на небольшой пристанционной площади, ждем прибытия электрички из Москвы. Она прибывает и останавливается, из нее выходит «кучка» народа, спускается с перрона по скользким ступеням, пересекает железнодорожные пути и быстро расходится … Я вижу маму и бегу к ней … Она, приобняв меня за плечи, подходит к идущему к ней навстречу папе, он берет ее сумку, как правило, с продуктами, и мы уходим домой, где в теплой квартире нас ждет бабушка, и, если еще не задремал, мой маленький брат Сергей.
***
Выше я рассказывал, что недалеко от нашего дома находилась средняя школа, в которой я проучился полных восемь лет и немногим более десяти дней.
Здание школы было четырехэтажным, желтого цвета. К нему было пристроено двухэтажное, вытянутое в сторону нашего дома, из такого же кирпича, как и наш дом, здание, на первом этаже которого была школьная столовая, а на втором – спортивный зал.
Входные двери в школу выходили на Советскую улицу и находились в центре здания. На первом этаже школы справа и слева от входных распашных дверей, одна створка которых была постоянно закрытой, находили, отделённым от фойе деревянными, коричневого цвета, с дверцами, барьерами, над которыми примерно метра на полтора вверх на металлическом каркасе была натянут металлическая темно-зеленого цвета с небольшими ячейками сетка-«рабица». У противоположной стены, между проходами стояли прямоугольные полуметровые деревянные на четырех ножках «банкетки» светло– желтого цвета, верхняя поверхность которых была покрыта коричневым дерматином, отступавшим от краев каждой из «банкеток» сантиметра на два.
За этой стеной слева находилась пионерская комната, справа – медицинский пункт. За ними были две маршевые лестницы. Одна из них – правая, в отличие от левой, как правило, была постоянно закрыта. Думаю, что левой лестницей пользовались преимущественно потому, что на втором этаже справа от нее был кабинет директора школы, а рядом с ним– в торце здания школы – учительская. Над учительской на третьем этаже находилась школьная библиотека, о ней я упоминал в моей книге «Давно это было» (М., 2024 г.).
Занятия, в школе начинались с восьми часов утра, но это для первой смены. Вторая смена начинала учиться с четырнадцати часов. Забегая вперед, скажу, что во вторую смену мне пришлось учиться несколько месяце, кажется, в третьем и, то ли в седьмом, то ли в восьмом классе. Учиться во вторую смену мне не нравилось: домой возвращаться приходилось вечером, времени до сна оставалось мало, хочется погулять и поиграть, а как быть с домашним заданием? Особенно, если надо было выучить, как тогда говорили, «наизусть» стихотворение.
Кстати, по мере того, как я «переходил» из класса в класс, я заметил, что текст заданных стихотворений, а то и отрывков из произведений, становился все длиннее и длиннее. Первый раз я с этим «столкнулся», когда было задано уже к следующему уроку литературы, который был на следующий день, выучить так называемое «письмо Татьяны Онегину», потом было «Бородино» и другие …
Мальчишки-одноклассники рассказывали, что они выполняют домашние задания утром до ухода в школу. Но у меня это не получалось, поэтому я «письменное» домашнее задание делал вечером, а «устное» готовил с утра. Естественно, бывало, что времени было маловато, я оказывался «в цейтноте», дочитывал заданное «через строчку» и шел в школу. А, поскольку, я никогда не хотел, чтобы мне поставили не то, что «двойку», но, даже, «тройку», понятно какое у меня было настроение по дороге в школу и до окончания уроков.
Должен сказать, что «двоек» у меня за все время учебы в этой школе практически не было, хотя о том, как получил две, помню, а «тройки» были исключительным явлением. Признаюсь, получив такие отметки, я всегда переживал: подвел родителей. Меня за такие отметки никогда не наказывали, но мне и без наказаний было не по себе.
Не помню, какая из этих двух памятных мне «двоек», было первой, но, учитывая, что предмет «Пение», кажется, заканчивался в четвертом классе, то первой была «двойка» по «пению». Получил я ее неожиданно для себя.
Учительница, заменявшая по какой-то, понятно не известной никому из нашего класса, причине, нашу учительницу, не знаю почему, но на уроке «пения» задала «на дом» написать, точно не помню, то ли сочинение, то ли, и это, наверное, ближе к истине, изложение о творчестве одного из известных русских композиторов, по-моему, П. И. Чайковского. А откуда взять информацию нем? Учебника по «пению»-то нет! И времени для выполнения было всего полтора дня: с обеда субботы до утра понедельника. Почему с субботы? Потому, что в то время учились не как сейчас пять, а шесть дней в неделю. Не помню, сам ли я додумался или кто-то из родителей подсказал, в общ, как сейчас помню промозглым дождливым серым днем я, кажется, с мамой приехали к ее сестре в Хлебниково. Дочка тети Лиды училась играть на аккордеоне, и у ней наверняка должно было что-то о П. И. Чайковском. И точно, Люда дала мне толстую большого формата книгу, в которой мелким, как мне кажется, шрифтом было рассказано об этом великом композиторе. Думаю, что эта книга была, если не энциклопедией музыки, то музыкальным справочником.
Я добросовестно переписал из нее то, что мне было понятно и что, на мой взгляд, было достаточно для выполнения домашнего задания.
Но, когда я на следующий день пришел в школу, то выяснилось, что практически все мальчишки-одноклассники не смогли выполнить задание учительницы. пения. Лишь некоторые смогли написать несколько предложений по заданной теме. В общем, получилось, что только принесённый мною текст соответствовал заявленным учительницей требованиям.
Надо сказать, что и у меня, и у них, была надежда, что уроки будет вести наша учительница, и, возможно, не будет спрашивать это домашнее задание. Не знаю, может быть, нынешние младшие школьники не такие наивные, какими были тогда мы … Но, ведь, всегда хочется верить в лучшее! Да и нашу учительница была с нами с первого дня учебы, а заменявшая ее, не знаю, как другим моим одноклассникам и одноклассницам, по крайней мере, мне точно не нравилась.
Надежде не суждено было сбыться, со звонком в класс вошла не наша учительница.
Мальчишки зашушукались, а мой сосед по парте шёпотом попросил у меня дать ему списать домашнее задание. Я сам никогда не списывал, но, бывало, позволял списать у меня решение примера или задачи. А тут, не арифметика, а текст, и как его можно списать, он же каким был таким и останется! Если списавший еще может, если осмелится, обмануть, сказав, что пример или задачу он решил сам, то с текстом это явно не получится. То есть «двойка» и списавшему, и давшему списать обеспечена! В общем, я отказал соседу, а потом на первой же перемене отказал и окружившим меня с аналогичными просьбами мальчишкам.
Урок пения был четвертым, учительница, заменявшая нашу, никого о домашнем задании не спрашивала, но в конце урока объявила, что все должны сдать тетради с домашним заданием. Дежурные по классу собрали у всех тетрадки и положили стопкой ей на стол.
А на следующий день произошло неожиданное. Наша учительница все еще отсутствовала, и уроки продолжала вести заменявшая ее. Как только начался первый урок, она, как мне и теперь кажется, зло объявила, что за домашнее задание по «пению» почти всем мальчишкам, кроме одного, она назвала, не помню, чью, но не мою фамилию, поставила «двойки». Дежурные по классу, взяли с ее стола, ранее принесенные ею наши тетрадки, и раздали их. Когда, не понимая, что происходит, я открыл и пролистал свою тетрадку, то в конце домашнего задания, прочитал, написанное красными чернилами: «Списал!» и ниже расположенную «двойку»
На перемене выяснилось, что такая надпись и оценка были в тетрадках всех мальчишек, кроме того, что фамилию она произнесла в начале урока. Выяснилось, что накануне мальчишки на перемене, сговорившись и не посвящая меня в свой сговор, воспользовавшись тем, что на перемене все, кроме дежурных, должны выходить из класса в коридор, вытащили из моего портфеля тетрадку с домашним заданием и за два, остававшихся до урока «пения» урока, переписали в свои тетрадки, после чего опять-таки на перемене положили мою тетрадку обратно в мой портфель. А текст-то, как я и предполагал, остался неизмененным!
Видимо, учительница, начав проверять собранные тетрадки с домашним заданием, почитала первую попавшуюся, оценила выполнение домашнего задания на «пятерку», а потом, увидев, что текст раз за разом повторяется слово в слово, начала эмоционально ставить всем «двойки».
Уверен, что наша учительница – первая моя учительница Нелли Борисовна Иванова так бы никогда не поступила!
Вторую «двойку» я получил за склонение числительных, учась в пятом классе. И получил ее заслуженно: не уделил должного внимания выполнению домашнего задания. Обычно, чтобы запомнить текст мне достаточно было прочитать его один раз и все: я был готов к уроку, память меня не подводила. Очевидно, я таки поступил в этом случае, не обратив внимания на необходимость, по сути, изучения правила склонения. Когда учительница русского языка вызвала меня к доске, я отвечая, «запутался» в окончаниях, за что заслужено получил «двойку» в «Дневник». Помню, переживал очень, но на следующий день, когда учительница вновь вызвала меня к доске, я эту «двойку» исправил, получив «пятерку».
***
Однако, я вновь «забежал» вперед.
В первый класс я пошел в год переезда из «красного» дома в «серый». Первого сентября меня, с портфелем в одной руке и огромным букетом, кажется, из разного цвета георгин, накануне привезённых из Хлебниково, меня провожала мама. Как проходила первая моя школьная «линейка» я не помню, помню только, что моя первая учительница Нелли Борисовна Иванова, построила нас парами: мальчик – девочка, и мы, войдя с площадки перед школой в распахнутые двери, поднялись, думаю, на второй этаж, вошли в класс и сели за серо-зеленого цвета деревянные парты, стоявшие в три ряда с двумя проходами между рядами.
Каждая парта представляла собой единое целое: «стол», который мы, собственно, и называли «партой», соединенный понизу с лавочкой, отстоявшей примерно на полметра от краев боковых ножек «стола» и имевшей «спинку». Мне пришлось посидеть за двумя аналогичными, но различавшимися высотой и шириной, видами парт, а также, кажется уже с пятого класса, за уже отдельно стоящими прямоугольными с плоской столешницей столами и на обыкновенных, правда на металлических ножках, стульях. Парты были очень тяжелыми, помню, когда мы делали генеральную уборку в классе, мы мальчишки, объединив свои усилия, с трудом их передвигали.
За каждой партой сидели двое, как правило, мальчик и девочка. Но это только в первом и втором классах, начиная с третьего, каждый, естественно с разрешения классного руководителя, точнее руководительницы, поскольку учителей. – классных руководителей в школе не было, мог самостоятельно выбирать не только с кем, но и на каком месте, и в каком ряду сидеть. Так, я в третьем классе, сидел с Олегом Наливалкиным кажется, на четвертой от доски парте третьего ряда от окон класса; а, начиная с пятого, также на четвертой от доски парте, но уже первого от окон ряда. Олега не было, он переехал куда-то с родителями, моим соседом сначала был Широков, кажется его звали Сергей, потом Славка Трофимов, за ним Вова Купцов. Интересно, что мое место за партой всегда было со стороны прохода между рядами. Кто была моя соседка по парте в первом и втором классах, не помню.
Поверхность «стола», который в дальнейшем я буду привычно называть «партой», была большей частью скошенной в сторону лавочки. В ее горизонтальной, шириной около десяти сантиметров верхней части, примерно в десяти сантиметрах от каждого бока, было отверстие для чернильницы, рядом с которыми, вытянутые к центру «парты», находились полуовальные глубиной около сантиметра и шириной не более трех сантиметров выемки для перьевых ручек. От горизонтальной верхней части начинался уклон длиной не менее полуметра, нижняя треть поверхности которого представляла собой откидывающиеся две крышки, скрывавшие находившиеся под ними два отсека для размещения в них портфелей. Каждая крышка крепилась двумя металлическими петлями.
Кстати, в то время ранцев ни у кого не было, все ходили с т, правда, иногда у кого-то из мальчишек вместо портфеля были офицерские полевые сумки. Мне очень хотелось иметь такую сумку, но, увы, не получилось … А, кажется, с седьмого класса многие мальчишки стали вместо портфелей приходить в школу с папками из кожзаменителя. Видя это, я на первых порах постоянно удивлялся: в мой портфель учебники и тетради еле помещаются, а как же в значительно меньшего объёма папки? Но присмотревшись, понял, что в папках в основном находились, как их тогда называли «общие» тетради. «Общие» не потому, что в них записывали все со всех еженедельных уроков, хотя были и такие мальчишки, а потому, что они были не те, двенадцати листовые ценой в две копейки тетрадки, а «толстые», главным образом, с «кожаным» переплетом сорока восьми листовые тетради, которые стоили сорок копеек.
Не могу не сказать и о том, что были и такие моменты не только одноклассники, но и знакомые мальчишки, мягко говоря, не отличавшиеся не то, что отличным, а даже хорошим поведением, равно как и учебой, якобы по забывчивости, не помещали не только в папки, но и в портфели, свои «Дневники». Причины, думаю, понятны …
Но вернусь к рассказу о первом учебном дне в школе.
Я не помню, что в начале первого урока говорила нам Нелли Борисовна, но помню, как через некоторое время после его начала, неожиданно приоткрылась дверь в класс, и в образовавшемся проеме среди лиц незнакомых мне женщин, я увидел мамино лицо. Но это было не больше минуты, дверь закрылась и урок продолжался.
Чем мы занимались в течении каждого из четырех сорока пятиминутных уроков и трех перемен: двух пятиминутных, и одной, между ними – десятиминутной, я толком не помню. В памяти осталось только, что, кажется, Нелли Борисовна, что-то рассказывала и читала, да и то, что мы что-то «писали» в тетрадках. Я взял слово «писали» в кавычки, потому что, судя по тому, что я «писал», придя домой, употребить это слово без кавычек на тот момент нельзя.
Из школы меня забрала бабушка, и вообще, не помню точно относительно второго, но в первом классе меня отводила в школу и приводила из нее домой бабушка.
Дома я подбежал к столу, стоявшему в большой комнате, вынул из портфеля, почему-то мне кажется, не карандаш, а чернильницу-«невыливайку», ее мы еще называли «непроливайкой», перьевую ручку, тетрадку по «письму», и, даже не присев на стул, стоя, раскрыл тетрадку «в косую линеечку» и начал, опуская, или как мы тогда говорили «макая», заостренную, состоящую из двух прилегающих вытянутой треугольной формы половинок, заканчивающуюся крошечным продолговатым с извилистыми краями отверстием, часть стального пера, вставленного в металлическую «гильзу», прикрепленную к деревянной примерно пятимиллиметровой толщины и до двадцати сантиметровой длины округлой палочке, в чернильницу, выводить на каждой строчке по каждой косой линии наклонные палочки, потом разнообразные крючочки, стараясь добиться, чтобы они были похожи на те, которые красными чернилами предварительно написала на тетрадном листе моя учительница. Настолько я был увлечен началом учебы.
Кстати, после окончания письма, я, как и другие ученики, обязательно протирал перо от остатков чернил. Для этого использовалась «перочистка»: круглое, диаметром не более пяти сантиметров и толщиной менее одного сантиметра, многослойное «приспособление». Верхняя и нижняя часть были из плотной, очевидно, все-таки не кожи, а кожзаменителя, между ними было несколько, наложенных друг на друга слоев из плотной, немного лохматящейся ткани, думаю, это был фетр. Креплением этой незамысловатой конструкции служила расклепанная на концах блестящая трубочка длиной около семи и диаметром пять сантиметров. Да, на верхней части «перочистки» всегда было, налагавшееся на нее, «солнышко» из более мягкого кожзаменителя, обязательно другого, не совпадающего с цветом верхней и нижней части, цвета. Почему «солнышко»? Потому, что оно представляло из себя круг, по окружности которого были вырезаны треугольные зубчики.
Но вернусь к рассказу. Конечно, все это домашнее задание я до того, как бабушка позвала меня ми моего младшего брата Сергея обедать на кухню, я выполнить не успел. Окончил его выполнение после обеда и, как говорится, «с чувством исполненного долга», убежал к мальчишкам «на улицу». Почему, я сказал о долге? Потому, что учебу я и тогда, и потом, где бы и сколько бы я не учился, всегда считал своим долгом. Перед кем? В первую очередь перед родителями, а потом уж перед самим собой.
Вечером я рассказал родителям о школе, повторив то, что днем рассказал бабушке, и показал выполненное домашнее задание. Жаль, не помню, как они его оценили …
Вообще, то, что я начал учиться в школе, на первых порах для меня не было чем-то особенным, чрезвычайно важным. К школе загодя я не готовился: читать и писать кроме буквы «а», о которой я рассказал в моей книге «Давно это было» (М., 2024 г.), не умел, считал ли, не помню, но в лучшем случае, до пяти, может быть, и мог. Букв и цифр, не говоря, уж, о цифрах, не знал. По-моему, даже то, что я стал учеником, было в первые учебные дни, нечто само собой разумеющееся: я росту и обязан ходить в школу, а раз обязан, то так и должно быть. Думаю, я в первые свои школьные дни даже толком не понимал, что это значит, – учиться. Сказала учительница, что, придя домой, надо сделать домашнее задание, – я приходил и делал, если не сказала – не делал.
Понимать, что значит учиться, я стал только через два-три дня после первого моего учебного дня. До этого я по мере того, что сумел усвоить на уроках, отвечал учительнице. Но именно по мере. Почему? Потому, что как рассказала Нелли Борисовна моей бабушке, когда она пришла забирать меня из школы, оказалось, что я не выучил стихотворение, которое, с первого сентября учительница не только разучивала с нами на уроках, но и не раз повторяла со всем классом. Помню, когда она, не вызывая меня к доске, просила меня его рассказать, я полностью это сделать не смог: что-то, запомнившееся, повторил, а что-то нет. Бабушка днем, а родители вечером, вернувшись с работы, как всегда спокойно, объяснили мне, что учиться, это не только писать, но и запоминать то, что говорит учительница, а в дальнейшем, когда я научусь читать, то и написанное, да так, чтобы я самостоятельно мог повторить.
Кстати, повторение как в форме пересказа, так и в воспроизведении стихотворений, мне далось не сразу.
Помню, когда, кажется уже во втором полугодии первого моего учебного года, учительница задала на дом подготовить пересказ маленького текста, то ли о гусях, то ли об утках, напечатанного в синего цвета, не помню с какой картинкой на обложке, учебнике «Родная речь», я не смог сразу самостоятельно это сделать. И не то, чтобы я не старался выполнить это домашнее задание, наоборот, я всячески хотел его выполнить, но у меня почему-то не получалось. Я постоянно сбивался, останавливая «пересказ». Расстроенный, я ушел «на улицу», где через некоторое время меня встретила, приехавшая с работы мама, которая поинтересовалась о том, сделал ли я уроки. Я честно ответил, что письменные домашние задания сделал, а устное у меня не получается.
Мы пришли в квартиру, где несколькими минутами позже я постарался воспроизвести по памяти то, что я запомнил., и в очередной раз сбился. И вот тут-то выяснилось, что я пытался не «пересказать» своими словами текст, а «рассказать», как я привык рассказывать стихотворение! То есть я не усвоил на школьном уроке смысл слова «пересказ», и сбивался потому, что текст рассказа, естественно, был не рифмованным. Нет рифмы – нет четкого изложения. Мама помогла мне понять разницу и, тех пор с пересказом любого текста, даже написанного в стихотворной форме, у меня сложностей не возникало.
А трудности в воспроизведении стихотворений, заключались в том, что запоминание некоторых из заданных, правда я опять «забегаю вперед», в классах, уже не начальной школы, стихотворных текстов, для меня было мучительным. Ну, не «ложились» они в голову, не «ложились» и все! Нет, в конце концов, с помощью мамы, но чаще папы, я их, конечно, запоминал после неоднократных настойчивых последовательных повторений стихотворных строк.