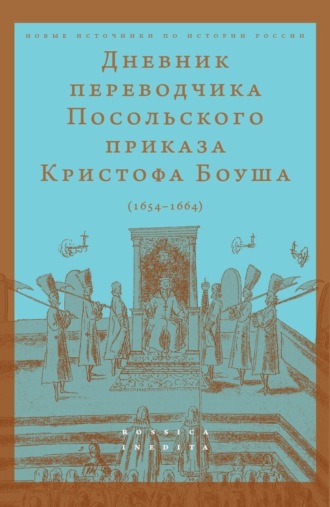
Дневник переводчик Посольского приказа Кристофа Боуша (1654-1664)
Дела финансовые и дела семейные
Доверие, оказывавшееся Боушу, было предопределено дефицитом кадров, который Посольский приказ испытывал во второй половине 1650-х годов. Сам Боуш писал в своей челобитной в марте 1658 г.: «А я, холоп твой, немецкой и польской языки и всякие латинские мудрые речи перевожу один»[84]. Формально это утверждение выглядит типичным для подобных документов риторическим преувеличением, поскольку на сентябрь 1657 г. в приказе числились семь переводчиков немецкого, четыре – польского и пять – латинского языка[85]. В действительности же слова Боуша имели под собой веские основания. Во-первых, он оставался единственным в приказе специалистом, владевшим на достаточном уровне одновременно тремя упомянутыми языками. Во-вторых, многие из его коллег подолгу находились в зарубежных посольствах или несли службу вдали от Москвы – в Новгороде или Пскове. Не будет преувеличением сказать, что на Боуша между 1655 и 1667 гг. легла основная нагрузка в приказных переводах с европейских языков. Сравниться с ним по объему выполняемой работы могли, вероятно, лишь Григорий Колчицкий и Людвиг Ширецкий[86] – в отношении польского и латыни и Якоб Виберх, еще один выходец из Курляндии[87], – в том, что касалось немецкого. Фактически именно эти несколько человек обеспечивали повседневное функционирование внешнеполитического ведомства русского государства в разгар тяжелейшей русско-польской войны, которая повлекла многократный рост объемов дипломатической переписки с европейскими державами.
Карьерный успех Боуша наиболее зримо выражался в размере получаемого им жалованья[88]. При поступлении в Посольский приказ летом 1655 г. его месячный оклад составлял 22 рубля[89], но уже в течение осени вырос до 25 рублей[90]. Вскоре последовала очередная прибавка до 30, а в марте 1658 г. – до 50 рублей[91]. За шведский посольский съезд осени 1659 г. переводчик получил единовременную прибавку в 25 рублей[92], а уже осенью 1662 г. его оклад достиг 70 рублей, не считая очередной доплаты в 25 рублей за переговоры с поляками в Смоленске[93]. В 1667 г., во время своей последней дипломатической миссии, Боуш получал уже 120 рублей в год, являясь, таким образом, самым высокооплачиваемым переводчиком Посольского приказа[94].
Несомненно, увеличение номинального жалования переводчиков являлось в значительной степени вынужденной мерой правительства, вызванной обесцениванием медной монеты и резким ростом цен, на что неоднократно жаловался автор «Дневника». За период 1660–1663 гг. Боуш подписал как минимум три коллективных челобитных переводчиков об увеличении жалования[95]. Правительство отчасти компенсировало потери своих служащих с помощью денежных придач и натуральных выплат продуктами и сукном, которые Боуш получал с 1658/59 г.[96] При раздаче соляного жалования на пике порчи монеты в 1661/62 г. Боуш был упомянут прежде всех прочих переводчиков[97]. Осенью 1662 г. он получил в придачу к своему годовому жалованью собольих мехов на сумму 20 рублей[98]. В 1667 г. Боушу, отправлявшемуся к герцогу Курляндии и курфюрсту Бранденбурга, выдали из казны на снаряжение себя и других членов посольства вместе с 300 рублями соболей на 50 рублей[99].
Как и многие приказные служащие, Боуш отчасти был обязан увеличением жалования отказу от поместного землевладения. Еще при своем поступлении на службу он получил поместный оклад в 400 четей, который номинально числился за ним по меньшей мере до сентября 1662 г.[100]5 августа 1663 г. Боуш, однако, присягнул в том, «что государева жалованья поместья и вотчин за мною не дано ни приданых, ни куплен ых, ни закладных и никаких пустошей и земли нет»[101]. 25 марта 1664 г. государь определил ему «вместо поместья хлеба из дворца по 50 четей ржи, да по 50 четей овса, да во два годы по сукну лундышу доброму, по пяти аршин»[102].
Боуш стал также единственным за все время царствования Алексея Михайловича переводчиком, получившим дом в Китай-городе, в непосредственной близости от Кремля[103]. В марте 1656 г. он сообщал в своей челобитной: «Работаю я, холоп твой, в посольском приказе у твоих государевых дел неотступно, а дворишка, государь, у меня своего нет, скитаюся по чюжим дворам, а купить мне нечем, человек бедной, иноземец. А есть, государь, двор выморочной по переводчику Посольского приказа, по Ивану Боярчикову, оценкой по твоему государеву указу 40 рублей»[104]. Переводчик греческого языка Иван Боярчиков, служивший в приказе с 1631 г., действительно умер во время «морового поветрия» 1654–1655 гг.[105] Боушу позволили приобрести оставшийся после него дом по указанной в челобитной «оценке» в 40 рублей с трехлетней рассрочкой. Двор, доставшийся Боушу в собственность, примыкал к Китайгородской стене между сохранившейся доныне церковью Зачатия Пресвятой Богородицы (Анны на Углу) и Москворецкими воротами и составлял более 30 метров в длину и около 15 метров в ширину[106].
В «Дневнике» автор умалчивает о своей семейной жизни, но документы Посольского приказа позволяют восполнить этот пробел, по крайней мере для русского периода жизни Боуша. Его жену звали Ульяна (Ульяница), хотя в одном из приказных документов она, по всей видимости ошибочно, именуется Анной[107]. В девичестве Ульяна Федорова дочь Образцова, она была замужем первым браком за неким Иваном Брызгаловым, который служил «в Сибири на Тюмене головою у стрельцов и у казаков», а затем в том же качестве в Великом Устюге, где и умер, вероятно, в первой половине 1650-х годов[108]. После смерти мужа Ульяна перебралась в Москву, где некоторое время была приживальщицей у дьяка А. Козлова, возможно, ее родственника или свойственника[109]. От первого брака у Ульяны остался как минимум один сын, достигший юношества или зрелости, – Петр Иванов сын Брызгалов. Зимой 1670 г., уже после смерти отчима, он отправился на богомолье на Белоозеро и был схвачен людьми местного помещика Федора Маклакова, который отобрал у него все пожитки и силой принуждал написать на себя кабальную. Лишь челобитная матери, воспользовавшейся, вероятно, связями покойного Боуша, спасла Петра от более серьезных неприятностей. Именно этому инциденту и последовавшему короткому разбирательству мы обязаны сведениями о происхождении и первом браке Ульяны Боуш[110].
Точную дату бракосочетания Василия и Ульяны назвать затруднительно, но, вероятно, она приходится на первые два или три года после поступления Боуша на царскую службу. В декабре 1660 г. он писал в очередной челобитной о прибавке жалования: «з женишкою, и з детишками, и с людишками, сам пятнатцеть, питаюся и домишко свое строю с одного месячного корму»[111]. Очевидно, среди пятнадцати домочадцев Боуш числил, помимо своей семьи, несколько человек прислуги. В челобитной, поданной в июне 1661 г., он отмечал, что ему «з женишкою, и з детишками, и с челядью прокормитца нечем»[112]. Слуги переводчика сопровождали его и в поездках. Летом 1667 г., когда Боуш отправился к курфюрсту Бранденбурга, Ульяна жаловалась в своей челобитной: «которые… людишки у нас были, и он муж с собою побрал на твою, великого государя, службу», а потому с их двора невозможно выставить людей для обязательной караульной службы[113].
Смерть в Митаве
К концу весны или первым дням лета (но не позднее 5 июня) 1667 г. относится и последний из известных нам переводов, выполненных Боушем, – краткая записка о титуле испанского короля, поданная немецким полковником на русской службе Кристианом Лубенау фон Лилиенкловом (Крестьяном Любеновым)[114]. Полный титул уже умершего к тому времени короля Филиппа IV[115] Боуш перевел с «немецкого письма», а сокращенный, который использовал при обращении к испанскому монарху император Священной Римской империи, – с латыни. Записка предназначалась для нужд первого в истории русского посольства в Испанию, выехавшего из Москвы 8 июля 1667 г.
Летом 1667 г. и самому Боушу впервые доверили самостоятельную миссию за рубеж к курфюрсту Бранденбурга и герцогу Курляндии[116]. Едва ли в том, что Боуша долгое время не посылали к иностранным дворам, можно видеть знак сомнения в его лояльности со стороны руководства Посольского приказа. Переводчиков с наибольшими и быстро растущими окладами в царствование Алексея Михайловича относительно неохотно отправляли за границу[117]. В этих специалистах слишком нуждались в столице или на длительных посольских съездах, чтобы надолго отпускать их из России. Несомненным признаком доверия, оказанного Боушу, можно считать тот факт, что его путь пролегал через владения герцога Курляндского, чьим подданным он прежде являлся и лояльность к которому мог сохранить.
Боуш и его подчиненные – подьячий Самойла Лисовский, толмач Алексей Плетников и несколько слуг – покинули Москву 21 июня 1667 г. С собой они везли царские грамоты, в которых Алексей Михайлович извещал курфюрста Фридриха Вильгельма и герцога Курляндского Якоба о заключении перемирия с Речью Посполитой и прощупывал возможности союза против Османской империи, которая представляла угрозу и для южных рубежей России, и, как показала австро-турецкая война 1663–1664 гг., для немецких государств. 15 июля Боуш со товарищи прибыли в Митаву, где спустя два дня имели аудиенцию у герцога Курляндского, а уже 16 августа добрались до Берлина. 18 августа Боуш был на приеме у курфюрста Фридриха Вильгельма, а затем обстоятельно беседовал с ним[118].
Переговоры в Берлине стали высшей точкой дипломатической карьеры Боуша, но жизнь его уже отсчитывала последние месяцы. Еще по пути в Бранденбург ему пришлось задержаться из-за болезни в Штеттине на три дня между 3 и 6 августа[119]. 23 августа члены посольства выехали из Берлина и, прибыв 27 августа в Штаргард в Померании, слегли все вместе, видимо, вследствие некоей инфекции, от которой Боуш уже не смог полностью оправиться. 20 сентября он продолжил путь в Данциг, куда прибыл 30 сентября по-прежнему больным[120]. 7 октября посольство добралось до Кёнигсберга, где Боуш имел встречу с князем Богуславом Радзивиллом[121]. Оттуда Боуш со товарищи через Мемель доехали 22 октября до Митавы. Согласно статейному списку, «посланной… ис Старграда до Нитавы ехал болен, и в Нитаву приехав, лежал вельми болен же. И декабря в 30 день Божиим изволением умер»[122].
Герцог Курляндский Якоб Кетлер известил главу Посольского приказа, Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, о смерти Боуша в своей грамоте от 2 января 1668 г. Приведем неожиданно подробный и, как кажется, сочувственный рассказ герцога о смерти бывшего подданного: «Он прибыл в это место [Митаву на пути в Берлин. – О. Р.] в добром здравии, но заболел на обратном пути, так что принужден был от трех до четырех недель лежать в Померании без движения. Когда же, наконец, он почувствовал некоторое улучшение, то вновь двинулся в путь, так что вновь прибыл сюда, но совершенно слабым. Хотя он и оправился вновь, его охватил столь сильный лихорадочный жар, что он принужден был воздержаться от своего путешествия, постоянно ожидая улучшения, которое, однако, не последовало. Ему становилось все хуже несмотря на то, что он не испытывал недостатка в нужных лекарствах, добром уходе и усердной помощи своих слуг, пока, наконец, он не покинул этот мир в прошлое воскресенье, о чем Мы весьма скорбим»[123]. Члены посольства с телом Боуша добрались до Москвы лишь 8 марта 1668 г.[124] Место и обстоятельства его погребения остались неизвестны.
Курляндским чиновникам мы обязаны описью имущества Боуша, произведенной в присутствии других членов посольства 12 января 1668 г. и переведенной затем на русский язык[125]. Наряду с посудой, одеждой, предметами обихода и вооружения в описи перечислены многочисленные служебные и, возможно, личные документы покойного. Так, в числе пожитков Боуша значился «железом обитой ящик или ларец, в котором всякие розные письма, которого не ворошили» (ein mit eisen beslagenes schreibpalpett, darin unterschiedene brieffe, welche nicht gerühret worden)[126], а также «замкнутой мешечик, в котором того господина посланниковы книги» (eine verschloßene pudel, warinnen des H. abgesandten bücher sein sollen)[127]. О содержании этих бумаг полных сведений нет. Известно, что они включали в себя грамоты курфюрста Бранденбургского и герцога Курляндского к царю, а также отчеты, продиктованные Боушем во время болезни[128].
Велик соблазн предположить, что среди упомянутых бумаг мог находиться и автограф «Дневника» или какие-то материалы к нему, но никаких подтверждений этой догадке у нас нет. Известно, что многие документы, связанные с последней миссией Боуша, в том числе оригинал его статейного списка, не сохранились. Возможно, их сожгли, приписав болезнь переводчика «моровому поветрию» и уничтожив документы, с которыми он тесно соприкасался[129]. Остается неясным, брал ли Боуш рукопись «Дневника» с собой, отправляясь в поездку, или оставлял в надежном месте в Москве. Нет ответа и на вопрос о том, каким образом и через какие руки она дошла до коллекционера – Гюйссена, Брюса или иного неустановленного лица, – из собрания которого затем попала в Академию. Едва ли, однако, сослуживцы или начальники Боуша получили доступ к его «Дневнику», поскольку никакого расследования, которое должно было сопровождать подобную находку, начато не было.
Вдова Боуша пережила мужа более чем на двадцать лет, причем обитала по какой-то причине не в оставшемся от него доме в Китай-городе, а в Квасном переулке близ Тверской[130]. Чертеж городских построек между Москворецкими воротами и Зачатьевской церковью с подробной росписью владельцев дворов, составленный между 1669 и 1673 гг., не содержит упоминаний о наследниках переводчика[131]. За период до 1689 г. сохранилось несколько челобитных Ульяны Боуш и записей о выплате ей годового жалования в размере 10 рублей и кормовых денег в 17 копеек в день – половину дневного содержания ее мужа в последний год жизни[132]. Это означает, что вдова Боуша не только оставалась жива на протяжении этого времени, но и не вышла еще раз замуж, поскольку в этом случае выплаты были бы прекращены[133].
Дальнейшие сведения о детях Боуша, к сожалению, скудны. В челобитной, поданной сразу после смерти мужа, в марте 1668 г., Ульяна упомянула своего сына Гришку[134]. В других прошениях, датированных сентябрем 1669 г. и сентябрем 1673 г., она писала о себе: «з детишками сама-четверта»[135], следовательно, Боуша пережили трое детей, не считая, очевидно, уже достигшего совершеннолетия пасынка Петра Брызгалова. Иных упоминаний о Григории Боуше (Бауше, Баушеве и т. п.), равно как и о других детях переводчика, найти не удалось. Можно лишь быть уверенным, что сын Боуша не пошел по стопам отца и не сделал, как это иногда случалось с детьми крещеных иноземцев, карьеру в Посольском приказе в качестве переводчика или толмача.
Свой среди чужих, чужой среди своих
Насколько позволяет судить приказная документация, Боуш прожил в России не слишком длинную, но со всех точек зрения удачную жизнь. Перед нами история успеха бывшего пленника, который за несколько лет превратился в ключевого сотрудника важнейшего государственного ведомства, выполнял самые ответственные поручения и каждодневно соприкасался с миром высокой политики. Наконец, это история чужеземца, который обзавелся в России домом и семьей и довольно неплохо интегрировался в местный социум. Содержание «Дневника», однако, рисует нам оборотную сторону этого успеха. Мы видим в его авторе человека, вынужденного служить русскому государству, но – во всяком случае, поначалу – ненавидевшего и презиравшего своих хозяев и не скрывавшего перед самим собой сочувствия к бывшим соотечественникам.
Нелестные характеристики русских в «Дневнике» вполне стереотипны и для «россики» раннего Нового времени, и для европейских описаний «чужого» вообще[136]. Автор бичует обитателей русского государства за жестокость, вероломство и гордыню. Несколько раз он акцентирует внимание на сексуальной разнузданности русских и их презрении к христианскому браку, побуждавших не только к насилию над пленными полячками, но и к разрушению законных семейных уз. Мы ничего не знаем о семье Боуша до его попадания в русский плен и можем лишь догадываться, не проговаривается ли он здесь о личной драме. Жестокость, раболепие, невежественность русских обращаются в «Дневнике» против них самих, как, например, в основанной, по всей видимости, на ложных слухах истории о казни мальчика, назвавшегося в игре царем, и его родителей (л. 20 об.). Рабская преданность своему государю отличает даже знатнейших из русских вельмож, таких, например, как князь Никита Иванович Одоевский, не пожелавший нарушить царскую волю даже перед смертным одром любимого сына (л. 23 об. – 24).
Если в период 1654–1656 гг. «Дневник» пестрит подобными уничижительными для русских отзывами, то в последующие годы число такого рода инвектив снижается. В некоторой степени причиной тому стал поворот в войне. После 1656 г. русские войска уже не захватывали новые территории, а перешли к далеко не всегда успешной обороне ранее завоеванных земель Великого княжества Литовского, ограничиваясь лишь набегами на собственно польские владения. Вероятно, однако, что постепенная интеграция Боуша в русское общество и его карьерные успехи также сыграли свою роль в снижении эмоционального накала «Дневника». Обвинения русских в жестокости не исчезают из текста полностью даже в 1664 г., но занимают в нем все менее и менее важное место.
Стоит отметить примечательный сдвиг в словоупотреблении. В первые годы после своего попадания в плен автор «Дневника» наравне с этнонимом «русские» использует также наименование «московиты» (Moskowiter) и происходящее от него прилагательное «московитский» (moskowitisch). Порой этот экзоэтноним носит очевидную негативную окраску, но иногда употребляется и в нейтральном смысле – для обозначения русских войск и дипломатических представителей. Единожды все русское царство обозначено как «московитское государство» (л. 19 об.). С годами, однако, слово «московиты» постепенно исчезает из авторского лексикона. Уже после 1658 г. оно встречается считанное число раз, а последнее обращение к нему датируется 13 марта 1662 г. (л. 104 об.). Вероятно, автор «Дневника» все более и более попадал в зависимость от московского словоупотребления и в конце концов принял этноним «русские» как единственное конвенциональное обозначение жителей Московского государства.
Говоря о жестокости, гордыне и глупости царских подданных, наш автор, однако, не осмеливается на прямую критику в адрес самого Алексея Михайловича. О царе в «Дневнике» говорится в подчеркнуто нейтральном почтительном тоне, равно как и об иноземных государях – королях Швеции и Дании или императоре Священной Римской империи. Менее сдержан автор по отношению к русским государственным и военным деятелям. Таких полководцев, как князь Алексей Никитич Трубецкой или князь Иван Андреевич Хованский, он бичует за жестокость и алчность, хотя и отдает в других случаях должное храбрости и искусству этих воевод. В основанном, по всей видимости, на польских переводных источниках подробном рассказе о взятии королевскими войсками Вильны в конце 1661 г. «Дневник» не скупится на перечисление жестокостей русского коменданта крепости Данилы Ефимовича Мышецкого, но одновременно признает его стойкость в плену перед лицом неминуемой казни (л. 99–100).
За общим сдержанным тоном «Дневника» мы можем, вероятно, различить симпатии и антипатии его автора по отношению к русским послам, под началом которых ему довелось работать. Так, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин удостоился в тексте неприязненного отзыва за свою якобы вызванную завистью жестокость к собственному сыну (л. 61), а подробный рассказ «Дневника» о свидании Ордина-Нащокина с глазу на глаз с шведским фельдмаршалом Дугласом 5 ноября 1659 г. также выдает иронию в адрес русского дипломата. Напротив, князь Никита Иванович Одоевский изображен в «Дневнике» с уважением, как сторонник мира между Россией и Речью Посполитой, а упоминание о его болезни, вызванной срывом переговоров осенью 1664 г., кажется исполненным искреннего сочувствия (л. 181–181 об.).
Как уже говорилось, симпатии автора «Дневника» неизменно оказываются на стороне «поляков», т. е., в сущности, всех жителей Речи Посполитой, особенно оказавшихся в русском плену или на завоеванных «московитами» землях. Сочувствие к польским пленным сочетается в «Дневнике» с презрением и сожалением в адрес тех из них, кто, поверив русским посулам о сохранении и преумножении их вольностей, отступился от своего короля и начал служить русскому государю. Подобный ригоризм кажется не вполне уместным в устах человека, который и сам, попав в плен, перешел на службу к русским, обратился в православие и обеспечил себе в России вполне благополучное существование. Возможно, однако, именно в этой внутренней раздвоенности следует искать причины, побудившие Боуша взяться за перо.
Равно непримирим автор «Дневника» и ко всем прочим изменникам Польской короны. Первое место в их ряду занимают запорожские казаки, действия которых трактуются как бунт против законного государя, не заслуживавший поддержки со стороны русского царя. Сходную риторику, несколько смягченную, правда, в сравнении с инвективами против изменников в пользу московитов, можно видеть и в описании противников королевской власти внутри Речи Посполитой – от гетмана Януша Радзвилла, обратившегося в 1655 г. за поддержкой к шведам, до конфедератов войска Литовского 1661–1663 гг. и гетмана Ежи Любомирского, поднявшего в 1664 г. рокош против короля. Хотя автор «Дневника» и признает, что в двух последних случаях требования со стороны недовольных королем и Республикой были отчасти правомерны, ничто не может оправдать в его глазах вред, наносимый бунтовщиками государству, которое из-за их действий не смогло добиться почетного мира и возместить свои потери первых лет войны.
Описывая сложные политические коллизии внутри Речи Посполитой, автор «Дневника» всегда выступает последовательным сторонником королевской власти. Король Ян Казимир – пожалуй, единственное действующее лицо «Дневника», к которому не обращены даже косвенные упреки. При этом о происходящем при королевском дворе и в центральных органах управления Польского королевства автор очевидно осведомлен хуже, чем о событиях в ставках литовских гетманов или на линии соприкосновения польско-литовских и русских войск. Требование сильной королевской власти кажется до некоторой степени естественным для человека, не укорененного внутри польско-литовского общества по праву рождения и родственных связей, каким, вероятно, был Боуш, но стремившегося при этом в силу тех или иных личных причин ассоциировать себя с Республикой в целом и принимавшего ее политическую культуру.
Если же пытаться найти положительного польско-литовского героя «Дневника», помимо короля, то таковым, вероятно, окажется гетман польный литовский Винцент Гонсевский, о котором автор отзывается с неизменным почтением. На первый взгляд этот выбор протагониста представляется несколько странным, поскольку военная и политическая карьера Гонсевского была далеко не безупречна. Автор «Дневника» вскользь упоминает о кратком периоде 1654–1655 гг., когда Гонсевский был сторонником Януша Радзивилла и Кейданской унии, и оттеняет этот неприятный для своего героя эпизод инвективами в адрес шведов, вероломно захвативших Гонсевского в плен (л. 16). Попадание Гонсевского, уже в статусе польного гетмана литовского, в русский плен в битве под Верками 11 октября 1658 г. «Дневник» приписывает исключительно вероломству московитов. Слухи о том, что Гонсевский за годы, проведенные в плену, стал сторонником царской власти, наш автор отвергает как необоснованные, а роль гетмана в направленной против короля конфедерации войска Литовского рисует как посредничество, служившее якобы восстановлению внутреннего единства Речи Посполитой. Убийство конфедератами Гонсевского и его товарища Казимира Журонского описано в «Дневнике» с почти художественной выразительностью (л. 112–113)[137]. Эта нескрываемая симпатия столь необычна для «Дневника», что невольно заставляет предполагать некую связь между его автором и Гонсевским. Возможно, Боуш до 1654 г. в той или иной форме состоял на службе у будущего гетмана или входил в его клиентелу, хотя подобные предположения, разумеется, носят сугубо спекулятивный характер.


