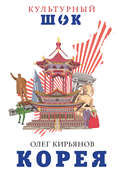Олег Кирьянов
Южная Корея. Цена экономического чуда
Глава 3. «Ворабель» или «воины экономического чуда»?
Я пришел работать в компанию в начале 1970-х гг. И у нас было искреннее стремление вытащить страну из нищеты, построить мощную экономику. Мы шли на работу как на бой, в котором обязательно надо победить. И радовались за каждый контракт компании как за свой личный успех. Нас не надо было особо уговаривать работать больше – мы работали по 12–14 часов, добирались домой усталые, валились спать, а рано утром вновь бежали к проходной, чтобы увидеть, как обретает реальные очертания строившееся нами очередное судно. Мы были воинами, бойцами в экономической битве за будущее страны – так нам говорили по телевизору, так нам говорило руководство компании, и мы в это верили сами. Но за все это нам пришлось платить тем, что мы фактически не видели семьи, дети выросли, видя отцов только по выходным, многие мои сверстники рано умерли, были и несчастные случаи – но время было такое… Сейчас, конечно, все иначе. Как часы пропикали 18:00 – молодые сотрудники встали и ушли, оставив тех, кто постарше, работать. Успех компании для них почти успех чужого дяди и, не успев устроиться на работу, они тут же начинают искать место получше – другую фирму. Я не могу их судить. Это наши дети, кому-то даже внуки – они не бойцы экономической войны. Время уже другое и люди приходят другие…
Ли Кван Хи, сотрудник судостроительной компании Hyundai Heavy Industries
Про Южную Корею, их стиль работы и экономику уже сформировался ряд стереотипов, которые в чем-то верны, в чем-то упрощают, а в чем-то искажают ситуацию. То, что можно услышать чаще всего, – корейцы очень много работают, практически на износ, упорные, экономика в целом базируется на суперсовременных технологиях и динамично развивается, корейские конгломераты постоянно удивляют какими-то новинками, хотя время от времени появляются сообщения о банкротстве даже крупных компаний…
Как видится, общий подход корейцев к экономике, к самой работе сейчас находится в стадии перелома, когда существуют и старые практики, привычки, о которых наслышаны за рубежом, но активно идут перемены, которые как спускаются «сверху», путем принятия новых законов и правил, так и поднимаются «снизу» – приходя вместе с молодым поколением, которое уже совсем иначе относится к работе, чем это делали их отцы.
Летом 2012 г. внимание многих корейцев привлек лозунг политика Сон Хак Кю, заявившего о своих амбициях бороться за кресло президента на ближайших выборах. Сон до президентства не добрался, но вот его лозунг, стоит признать, был очень удачным и запал в душу многим. Звучал он как «Жизнь, в которой есть вечера!» Данное выражение означало стремление к сокращению рабочего дня и изменению общего отношения к труду, когда людям не приходится работать с раннего утра до позднего вечера если не за станком, то уж точно в интересах своей фирмы, завода или организации, жертвуя при этом временем и силами, которые могли бы быть потрачены на семью, на свои увлечения, на отдых, в конце концов.
У корейцев же часто действительно получалось, что они жили без вечеров, а жизнь проходила на рабочем месте, и дети вообще не видели отца, так как он уходил рано утром, когда они еще спали, а возвращался поздно вечером, когда детишки уже были в кроватях. Выходные же обычно проходили следующим образом: в субботу глава семейства отсыпался до полудня, наверстывая тот недосып, что накопился за неделю, и зачастую «отходя» от обязательных рабочих застолий в целях сплочения коллективного духа. С детьми же получалось пообщаться только по воскресеньям. В этой связи обещание сделать так, чтобы у людей даже в будние дни стало бы появляться время для себя и для семьи, звучало очень заманчиво.
Стоит также отметить, что в Южной Корее пятидневная рабочая неделя была введена относительно недавно – лишь в 2004 г., а до этого корейцы работали еще и по субботам – в крупных компаниях и на госслужбе обычно полдня, а на небольших фирмах полный день. Получалось, что и в субботу «папа был на работе», а в будние дни дети его вообще не видели – «воскресный папа», так их называли. Для сравнения скажем, что пятидневная рабочая неделя во Франции была введена в 1937 г., в Германии – в 1967 г., а в Японии – в 1987 г. Вот какую цену приходилось платить рядовым корейцам за «экономическое чудо на реке Ханган».
Сон Хак Кю не стал президентом, но в итоге в 2017 г. это место занял его соратник по так называемому прогрессивно-демократическому лагерю Мун Чжэ Ин, который, как и многие его друзья-знакомые-коллеги по партии, строил свою карьеру, борясь за права рабочих. В июле 2018 г. именно под давлением демократов произошло можно сказать эпохальное событие – вступил в силу закон об обязательной максимальной 52-часовой рабочей неделе. Он предписывал, что рабочий день длится восемь часов при пятидневной рабочей неделе, то есть 40 часов в неделю. Максимальное время, которое можно дополнительно работать и которое должно оплачиваться по повышенной ставке, не должно превышать 12 часов и может добавляться только с согласия самого наемного сотрудника. То есть работать можно не более 52 часов в неделю.
Как это было и при введении обязательной пятидневной рабочей недели в 2004 г., тут же поднялась волна протеста и критики в первую очередь со стороны руководства бизнеса, а также тех, кто беспокоился об экономической конкурентоспособности страны. Они считали, что если корейцы не будут перерабатывать и это будет закреплено законодательно, то Корея очень быстро растратит все свое технологическое преимущество и уступит в жесткой конкурентной борьбе на мировом рынке. Однако правительство демократов заявило, что страна уже достаточно богата, чтобы задуматься и о качестве жизни, а не только о темпах экономического роста. Тогда-то и вошло в лексикон корейского языка новое слово, которое сейчас знает каждый, – «ворабель». Это сокращение, которое не обошлось без англицизмов, переиначенных на корейский лад. Происходит оно от английского сочетания work-life balance, то есть жизнь, когда все гармонично сбалансировано между работой и отдыхом. «Ворабель» же получилось от корейского произношения первых слогов этих слов. В конце концов «ворабель» стало тоже чуть ли не лозунгом и логическим продолжением «жизни с вечерами».
Впрочем, стоит отметить, что обеспокоенность экономистов и владельцев компаний была учтена и кое-какие исключения были сделаны. Правило 52 часов стало обязательным для государственных и муниципальных учреждений и крупных компаний, где число сотрудников превышало 300 человек. Через несколько лет данное правило стало обязательным и для компаний от 50 до 299 человек, а потом и для всех вообще. Чуть позже, когда к власти вернулись консерваторы, заботящиеся больше об интересах бизнеса, в зависимости от типа и характера работы разрешили применять правило 52 часов более гибко, так как, например, в период сбора урожая надо работать много, чтобы успеть всё собрать, а отдых можно перенести на зимние месяцы. Однако принцип «ворабель» оказался слишком привлекательным, а потому речь о его отмене уже не идет.
Другое новое слово, которое вошло в обиход деловой культуры корейцев – «кхальтхве» – сочетание первых слогов от слов «нож» и «уход с работы». Оно означает, что как только часы пропикали 18.00, то всё – вне зависимости от поведения начальника каждый имеет право собирать вещи и идти домой, если, конечно, вы до этого добровольно и за дополнительную плату не согласились поработать побольше, но опять же не более 12 часов в неделю. Ранее же в Корее неписанной традицией считалось невежливым уходить до того, как начальник покинет свое рабочее место. Вот и получалось, что формально везде рабочий день заканчивался в 18.00, но, как правило, самый большой начальник неспешно собирался и уходил где-то в 18.30, его заместитель в 19.00 и так далее волна докатывалась до рядовых сотрудников часам к восьми вечера, а то и позже. При этом можно было даже сидеть и заниматься своими делами, но именно находиться на рабочем месте, так как «шеф еще здесь». Хуже всего приходилось тем, у кого начальник по тем или иным причинам не спешил домой – вот тогда страдали все, ожидая, когда этот трудоголик уйдет. Правда, были и «прогрессивные» начальники, которые, прекрасно зная о неписанной традиции, сразу предупреждали: «На меня не обращайте внимания – как только наступит 18.00, можете идти домой, меня не ждите!»
Но вот пришла эпоха «жизни с вечерами», «ворабель» и «кхальтхве» и, что не менее важно, пришло и новое поколение, которое видело, как трудились и «жили» на работе их родители. Но если для родителей лозунги про «бойцов экономического чуда» имели значение, то для их детей, которые выросли уже в эпоху более зажиточной и развитой Кореи, это было чуждым. Дети не хотели вкалывать так, как это делали их отцы (мамы обычно сидели дома с детьми – так было заведено). Вот молодежи очень сильно «зашли» все нововведения, которые молодые люди стали активно отстаивать, не боясь при этом идти на конфликт с «строителями экономического чуда» из более старших поколений.
Подобный конфликт и своего рода переходный период наблюдается в корейской экономике, обществе, на рабочих местах до сих пор. С одной стороны стоят те, кто обоснованно указывает на закон о 52 часах и пятидневной рабочей неделе, а также оплачиваемом 15-дневном отпуске. А с другой – находятся те, кто говорит, что если так подходить, то Корея никогда не стала бы Кореей, не выбралась бы из болота нищеты, в котором она находилась еще относительно недавно – в 1960-х и начале 1970-х гг. С одной стороны стоит молодежь, для которой есть не только работа, но и свои интересы, своя жизнь, своя семья, свое здоровье, а с другой те, у кого преданность компании, делу – это самое главное. При этом сама атмосфера корейского общества такова, что человек по жизни вообще «должен» много работать и в целом не приветствуется слишком довольное лицо человека, который с улыбочкой возвращается с работы. Идти с работы ты должен со словами «Ой, тяжело» – наверное поэтому корейцы достаточно часто говорят это даже сами с собой …
В итоге мы имеем следующую реальность. Действительно, «кхальтхве» и 52-часовая неделя, за которую можно бороться и по закону, привели к тому, что стал меняться сам стиль жизни корейцев. Во-первых, заметно стали сокращаться «добровольно-принудительные» посиделки со спиртным в кругу коллег «в целях сплочения рабочего духа». У многих действительно появились вечера и люди отнюдь не жаждут их проводить с теми, кого и так видят в формате «пять дней в неделю с 9.00 до 18.00». Многие идут получать дополнительное образование, но по своей воле. Что интересно, корейцы все же достаточно активно идут и на посиделки со спиртным, что они, чего уж греха таить, в целом любят, но идут не с надоевшими начальниками и коллегами, а с друзьями, возлюбленными или с родственниками, семьей.
Резко расцвели разного рода кружки, дополнительные курсы, клубы по интересам – от йоги и тенниса до каллиграфии и запуска квадрокоптеров. В Корее в последние годы увеличились продажи внедорожников. Казалось бы, для сравнительно небольшой страны с великолепными дорогами внедорожники – неразумная трата денег. Но это связано с модой на пешие прогулки с палаткой, по горам, на выезды к морю, когда требуется разное снаряжение, а потому большой объем кузова оправдан. В итоге расцвели автокемпинги, появились места для палаток, которые раньше было днем с огнем не сыскать, выросли продажи разного снаряжения, вплоть до походных котелков и горелок.
В Корее найти дикую природу очень сложно, а потому все эти выезды, честно говоря, чистой воды имитация выезда на природу, но тем не менее это в любом случае стало возможно только потому, что у многих корейцев появился шанс в 18.00 встать, выключить компьютер и уйти домой, не ожидая, когда шеф, лениво зевнув и потянувшись, решит сам двигаться домой. В итоге, выехав вечером в пятницу, вполне можно устроить неплохой пикник или поход вдоль моря или в горы на выходных, вернувшись домой вечером в воскресенье – благо размеры страны и состояние дорог позволяют быстро переноситься с одного края Кореи на другой.
Однако, как можно догадаться, все не так-то просто. Есть и другие реалии: 52 часа и 5 дней в неделю очень хорошо соблюдаются в крупных компаниях и на госслужбе – там действительно все четко. А вот в малых и средних компаниях, судя по отчетности, все работают «законные» «только 8 часов в день + не более 12 часов за неделю», но в реальности «дел слишком много и как тут уйти?!» Вроде бы никто не заставляет оставаться, но если доклад должен быть готов завтра утром, то как уходить в 6 вечера?! Никто не отменял и «общей атмосферы коллектива», когда «принято» работать больше и не вспоминать о законе. Да, молодежь стала посмелее, но не все могут «поднять бунт на корабле», куда только что пришли работать. Пару раз так покачаешь права и в итоге тебя под тем или иным предлогом (и часто абсолютно законным!) начнут лишать премии, будут поручать самую неинтересную и нудную работу, будут задерживать повышения и в итоге просто уволят.
Среди моих сверстников-корейцев чисто по возрасту хватает руководителей среднего звена, и они жалуются на то, что оказались в самом худшем положении. Причина следующая: под тобой молодые подчиненные, которые знают про «ворабель» и закон о 52 часах работы и которых даже на 10 минут не задержишь, а над тобой – высокое начальство, которое требует результат и требует, конечно же, с руководства среднего звена, не бегая за каждым рядовым сотрудником. В итоге, как пожаловался один начальник департамента в госорганизации, «после 6 вечера обычно остаюсь я и мой заместитель – вот мы и завершаем то, что либо не успели, либо требует руководство. Мы с замом примерно одного возраста и больше понимаем, что есть слово „надо“, и начинали еще тогда, когда это было принято, а вот молодых ребят не оставишь работать, чуть что – напишут анонимное заявление в Комиссию по труду и нас замучают проверками, прецеденты уже были. В итоге „ворабель“ для меня – это какая-то сказка…» Но особенно, подчеркнем, особенно сильны переработки на малых и средних предприятиях, в малом бизнесе, где глава компании куда ближе к подчиненным и ему проще всех видеть и контролировать. И это не отражается в официальных цифрах статистики, а на деле – кому-то «ворабель», а кому-то – продолжение «битвы за международную конкурентоспособность и за экономическое чудо на реке Ханган».
Правда, если верить статистике, Южная Корея, несмотря на все изменения, (поставить запятую) по-прежнему остается одной из самых много работающих стран (среди аналогичных по уровню развития). Согласно данным на конец 2020 г., в Южной Корее кореец трудился на рабочем месте 1908 часов. Из 38 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) большими трудоголиками оказались только турки – 2124 часа/год и Коста-Рика – 1913 часов. Корея же заняла 36-е место среди 38 стран ОЭСР. Средний же показатель среди государств – членов данной организации был 1687 часов/год.
Впрочем, если смотреть в динамике, то сдвиги к лучшему все же есть. В 2008 г. у РК длительность работы за год составляла 2209 часов, что существенно больше, чем 1908 часов в 2020 г. Правда, как часто указывают корейцы, «много – не значит эффективно». По этому показателю – стоимость продукции, произведенной за час труда, – Южная Корея по-прежнему не в лидерах, несмотря на свой имидж передовой технологической державы и страны, где «везде только хай-тэк и роботы». В 2020 г. за 1 час кореец производил 41,7 доллара продукции, что стало 27-м показателем среди 38 стран ОЭСР. Для сравнения показатель Ирландии – 111,8 долл/час, Норвегии – 85,5 долл/час, США – 74,3 долл/час. Уровень Южной Кореи оказался схож с уровнем производительности труда в ряде стран Восточной Европы – Словакии, Чехии, Словении. Как бы не так уж и плохо, но точно и не лидер.
Схожая в чем-то картина наблюдается по части отпусков. С официальной точки зрения ушли в прошлое «традиционные корейские страшилки» про то, что у корейцев в году только 3–4 дня отпуска. По закону – целых 15 дней оплачиваемого отпуска и еще один день добавляется за каждые три года работы. Ситуация стала улучшаться в последние годы, но до стандартов развитых стран Южной Корее еще далеко. В 2015 г. корейцы в среднем отдыхали 6 дней (оплачиваемый отпуск), в 2016 г. – 8, 2017 г. – 10, 2018 г. – 14 и в 2019 г. – 15 дней. Но, для сравнения, показатели Германии, Испании, Италии и других стран Западной Европы, многие из которых Южная Корея уже догнала по доходу на душу населения, куда больше. Европейцы из упомянутых стран отдыхают от 27 и более дней в году.
При этом 70 % корейцев заявляют, что им не хватает отдыха. По этому «рейтингу недовольства» они одни из лидеров – второе место среди развитых стран. В целом неудивительно, если учесть, что по длительности «законного отпуска» Корея как раз в самом низу. Впрочем, отметим, что «градус недовольства» с введением новых правил стал падать. В 2017 г. жаловались на нехватку 82 % корейцев, в 2019 г. – 74 % и вот теперь «только» 70 %.
Кроме того, с отпуском также до сих пор заметна сила инерции и неписанных правил. В реальности ты практически никогда не сможешь взять весь отпуск целиком и пойти гулять даже те самые 15 дней, что фигурируют в статистике. Доминирует практика, что сотрудник обычно берет «куски» по 3–4 дня, пытаясь присоединить их к государственным и прочим праздникам и выходным, что позволяет уже получить 7–8 дней подряд и куда-то выехать. Но все равно полностью весь отпуск в Корее брать «не принято», потому что «А кто за тебя работать будет?», да и положенные дни мало кто отгуливает целиком. Кроме того, в эти 15 дней по статистике включены не просто отпуск, а все уходы. В Корее не получится «отпроситься у начальника, потому что у меня сантехник должен прийти». Вернее, получится, но в счет отпуска. Схожее и с болезнями. Нет, из больницы вас никто не будет вытаскивать к конвейеру, но «пролежать дома с простудой всю неделю» точно не получится. Потому обычно сразу берут самые сильные лекарства, чтобы уничтожить грипп «лошадиной» дозой таблеток и явиться через день, максимум через два «в строй».
В общем, Корея по части рабочей культуры и традиций меняется, корейцы стали больше отдыхать, но если чисто по деньгам и размеру ВВП Южная Корея уже во многом догнала, а где-то и перегнала ряд развитых стран, то по показателям отдыха, заботы о себе еще очень сильны элементы «догоняющего развития», когда отставание в экономике приходилось и во многом приходится компенсировать за счет самопожертвования.
Глава 4. В лидерах там, где лучше быть отстающим
Самоубийства, самоубийства и еще раз самоубийства – эта проблема продолжает преследовать Южную Корею уже достаточно долго. Более двух десятков лет власти страны прикладывают поистине титанические усилия, чтобы убедить сограждан отказаться от самого радикального способа ухода от всех проблем. Некоторые подвижки есть, но, к сожалению, не такие значительные, на которые надеялись.
По-прежнему в Корее для молодежи самая большая смертельная опасность – это не болезни, не преступность, не войны, а они сами. В определенной степени понятно, что если молодые люди в невоюющей стране умирают, то, как правило, не от болезней.
Чтобы не быть голословным, приведу объективную статистику. Южная Корея известна своей «мягкой силой» – поп-музыка, кино, страна высоких технологий и пр., но есть и не самые позитивные образы. Вот один из таких распространенных стереотипов о Южной Корее – это страна с самым высоким уровнем самоубийств, и это, к сожалению, очень близко к истине.
Если брать мир в целом, то в наиболее свежей статистике, которую удалось найти (данные за 2019 г. World Population Review) Южная Корея оказалась на 4-м месте в мире с показателем 28,6 самоубийств на 100 тысяч населения. Но тут можно с уверенностью говорить, что у Кореи все же первое место в «своей лиге», потому что из первых восьми стран семь остальных – это так называемые «микространы» – с населением от нескольких сотен до трех миллионов человек, а потому их данные не очень репрезентативны. Вот так выглядит первая восьмерка: Лесото, Гайана, Эсватини, Южная Корея, Кирибати, Микронезия, Литва, Суринам. Кстати, стоит отметить, что России тоже особо нечем гордиться. Она на 9-м месте в мире или на 2-м месте (после Кореи) среди более-менее значимых с точки зрения численности населения стран.
В первых строчках самых «самоубивающихся» стран мира Южная Корея находится уже давно, при этом являясь абсолютным лидером среди, как уже было отмечено, государств с населением от трех миллионов человек (а это меньше населения Санкт-Петербурга). Проблема настолько серьезна, что в 2020 г. самоубийства стали четвертой по распространенности причиной смерти граждан Южной Кореи вообще. Вперед прошли лишь рак, сердечно-сосудистые заболевания и пневмония.
Корейцы давно сравнивают себя в первую очередь с государствами схожего уровня развития, чаще всего используют данные наиболее развитых 38 стран, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Самая свежая статистика на момент написания книги была опубликована в феврале 2022 г., но в ней также обобщены и обработаны в первую очередь данные за 2019 г. Средний показатель самоубийств по странам ОЭСР – 11 на 100 тысяч населения, у Южной Кореи же он 24,6. Это несколько расходится с данными World Population Review, хотя разница не такая значительная и в обеих случаях среди указанных 38 стран Южная Корея – уверенный лидер. Следом идет Литва (21,6), Словения (16,5), Бельгия, Япония и другие. Интересно, что шлейф государств с высоким уровнем самоубийств тянется за странами Северной Европы или Японией, но Южная Корея уверенно их опережает. Самые низкие показатели самоубийств среди стран ОЭСР – у Турции, Греции, Мексики, Италии, Колумбии (от 4,4 до 5,7 самоубийств на 100 тысяч).
Судя по статистике, с 2010 г. Южная Корея и Литва постоянно оспаривали друг у друга титул лидера по самоубийствам: с 2013 по 2017 г. на первом месте была Литва, но потом опять Южная Корея. Со временем статистика улучшается, но не так, как хотелось. У Литвы за период с 2013 по 2019 г. показатель самоубийств упал с 34,8 до 21,6 на 100 тысяч населения, а у Южной Кореи – с 28,7 до 24,6.
Если же смотреть на ситуацию в динамике, то в 1980–1990-е гг. Южная Корея отнюдь не была в мировых лидерах по самоубийствам. Но что-то, видно, произошло в начале 2000-х, когда Южная Корея 10 лет подряд удерживала первое место среди стран ОЭСР по самоубийствам, а затем «спорила» лишь с Литвой. Цифры показывают какой-то аномальный рост самоубийств. До 1997 г. показатель самоубийств был менее 10 на 100 тысяч населения, в 2000 г. – 14,8, а в 2004 г. он стал уже 29,5, дойдя в 2010 г. до 34,1, после чего стал несколько снижаться.
Что же так толкнуло вверх этот показатель? По мнению корейских экспертов, главную роль сыграла экономика. Валютно-финансовый кризис 1997–1998 гг., который в Корее называют «кризисом МВФ» (потому что Корее пришлось брать заем у международной организации и следовать ее указаниям по реструктуризации). Шок был не только финансовым, но и психологическим, когда Корея столкнулась с тем, что эра стремительного экономического чуда, высоких темпов роста и пожизненного стабильного найма закончилась. Пошли массовые увольнения, хотя ранее считалось, что если попал в какую-то крупную компанию, то можно спокойно жить до пенсии, не беспокоясь о кризисах. В 2003 г. произошел крупный кризис компаний кредитных карт, а в 2008–2009 гг. снова международный экономический кризис, который затронул и Южную Корею. Все это совпало со скачком самоубийств в Южной Корее, наблюдавшимся как раз с 1998 по 2010 г.
Проблема суицида в Стране утренней свежести, если верить статистике, особенно остро стоит среди пожилого населения. У детей показатель самоубийств заметно ниже среднего по стране в целом, в активном экономическом возрасте приближается к общему усредненному показателю, а у пожилых – резкий скачок. В 2020 г., например, показатель самоубийств в РК в среднем составил 25,7 на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 10 до 19 лет – 6,5, 20–29 лет – 21,7, у групп 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 лет колебался незначительно в пределах от 27,1 до 30,1, тогда как у 70–79 лет – 38,8 и 80–89 лет – 62,6. Отметим, что в 2016 г. у пожилых дела обстояли еще более серьезно: 70–79 лет – 54,4 и 80–89 лет – 78,1.
Если же читать СМИ, то создается несколько иное впечатление. Достаточно регулярно корейские, да и мировые СМИ «взрываются» сообщениями про самоубийства тех или иных известных певцов, актеров и прочих деятелей искусств. Это провоцирует так называемый эффект Вертера, когда молодежь начинает следовать за своими кумирами в «лучший мир» под влиянием очень насыщенного освещения подобного рода новостей в СМИ. Но дело в том, что новости об уходе популярных и особенно молодых звезд эстрады и вообще молодежи вызывают куда больший резонанс и беспокойство, чем добровольный уход из жизни стариков, которые часто умирают в одиночестве у себя дома, а если говорить объективно, то пожилые корейцы в несколько раз чаще налагают на себя руки, чем другие возрастные группы.
Тем не менее самоубийства являются главными причинами смерти корейцев в трех самых молодых возрастных группах: 10–19, 20–29 и 30–39 лет, то есть фактически в возрасте до 40 лет корейцы умирают в первую очередь от самоубийств. В возрасте от 40 до 59 лет самоубийство – вторая по частоте причина ухода из жизни. В целом это логично: чем моложе люди, тем меньше у них причин умирать от болезней, а потому самоубийства неизбежно будут возглавлять рейтинг причин смерти среди молодежи.
По поводу резкого увеличения числа самоубийств среди пожилых людей большинство экспертов считают, что люди просто не хотят мучиться последние годы жизни, долго и трудно угасать, а потому предпочитают ускорить процесс радикальным способом. Хватает и тех, кто не может себе позволить дорогостоящее лечение при выявлении серьезных заболеваний, которых с возрастом по естественным причинам становится все больше, а надежд на полное выздоровление – меньше. В этой связи все громче звучат призывы узаконить в Корее эвтаназию, что позволит людям спокойно и с достоинством уходить из жизни, когда надежд нет, а это сразу снизит статистику самоубийств. Однако эвтаназия в Южной Корее не узаконена, и, как следствие, многие старики сами уходят из жизни либо, если есть деньги, едут делать эвтаназию в страны Европы, где она разрешена.
Еще одна особенность самоубийств в Южной Корее – мужчины куда чаще, чем женщины, сводят счеты с жизнью, хотя слабый пол куда чаще совершает попытки самоубийства, не доходящие до летального исхода (особенно выделяются молодые женщины в возрасте от 20 до 29 лет). По данным 2020 г., мужчины более чем вдвое чаще совершают самоубийства. При общем среднем показателе в 25,7 самоубийств на 100 тысяч, у мужчин показатель составил 35,5, тогда как у женщин – 15,9. Из всех самоубийств 2020 г. 68,9 % пришлось на мужчин, тогда как на женщин – 31,1 %. И данный феномен очень хорошо заметен с увеличением возраста: в возрасте от 10 до 19 лет показатель самоубийств мужчин и женщин соотносится как 6,5 и 6,4 – то есть практически равны, но затем сразу идет разрыв: 20–29 лет – 23,8 vs 19,3, 30–39 лет – 34,4 vs 19,4, 40–49 лет – 40,6 vs 17,4, 50–59 лет – 45,7 vs 15,1, 60–69 лет – 44,8 vs 16,0, 70–79 лет – 64,5 vs 17,9, 80–89 лет – 118,0 vs 35,2.
Если же проследить показатели за последние годы, то эта тенденция является стабильной – мужчины в Южной Корее в среднем более чем вдвое чаще сводят счеты с жизнью. Судя по опросам, на мужчин куда большее влияние оказывают и куда чаще толкают к самоубийствам экономические трудности. Возможно, что в целом в Корее, несмотря на все перемены в сознании, пока еще именно мужчина считается «главным добытчиком» в семье. Некоторые психологи отмечают, что мужчины более склонны активно действовать, чем терпеть, что особенно заметно с возрастом по показателям числа самоубийств в зависимости от пола.
Причины самоубийств
По каким причинам корейцы решают уйти из жизни? Безусловно, часто точно выяснить причины ухода из жизни непросто, приходится только догадываться. Если обобщить доминирующие выводы, то по мнению многих социологов и психологов корейцы слишком просто решают свести счеты с жизнью под давлением внешних обстоятельств. Так, скачок того же 2010 г. связан с финансовым кризисом 2008–2009 гг., который, кстати, поразил в первую очередь не Корею и из которого Корея выбралась одной из первых, но тем не менее почему-то очень остро на ухудшение ситуации отреагировали именно корейцы. Некоторое снижение числа самоубийств в последние годы эксперты связывают с тем, что в стране существенно ужесточили правила отпуска лекарств и химикатов, которые часто использовались для сведения счетов с жизнью. Однако в Интернете полно групп самоубийц, а ряд порталов предлагают «набор идеального самоубийцы», где вам всего за несколько десятков долларов доставят по указанному адресу то, что вы хотите: веревку с мылом и прочими принадлежностями или иные приспособления для быстрого ухода из жизни.
Если брать статистику 2020 г., которая основана на данных, предоставленных Агентством национальной полиции РК, то отчетливо выделяются три главные группы причин: психологические проблемы (38,4 %), экономические трудности (25,4 %) и проблемы со здоровьем (17 %). Далее с большим отрывом идут «проблемы в семье» (7 %), что часто сложно отличить от психологических проблем. Что касается «проблем со здоровьем», то чаще всего это означает какие-то неизлечимые заболевания, когда человек не хочет продлевать свое существование и мучиться.
Характерной особенностью является тот факт, что в Корее у мужчин и женщин разные причины для суицида. Если предельно упрощать, то для женщин главная причина в большинстве случаев – психологические проблемы (56,4 %), а для мужчин на первом месте – экономические трудности (31,8 %), правда, и психологические проблемы недалеко отстали – 30,2 %.
Если же пытаться выявлять тенденцию в зависимости от возраста, то у молодежи (от 11 до 30 лет) преобладают психологические причины (более половины), тогда как потом к ним начинают подбираться экономические. Для возраста от 41 до 60 лет, то есть когда часто приходится отвечать за семью и детей, экономические трудности начинают играть большую роль в качестве главного мотива для самоубийства. Проблемы со здоровьем, как можно догадаться, обычно начинают быть более заметными у пожилых людей. В общем же корейцы решаются на суицид, если верить статистике, по двум главным причинам – психологические проблемы и сложности с финансовым обеспечением своей жизни и семьи. Для женщин превалирует обычно «психология», у мужчин на первом месте – «экономика».