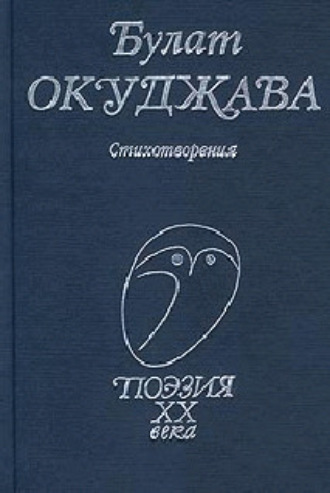
Булат Окуджава
Стихотворения
В БАРАБАННОМ ПЕРЕУЛКЕ
В Барабанном переулке
барабанщики живут.
Поутру они как встанут,
барабаны как возьмут,
как ударят в барабаны,
двери настежь отворя…
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?
В Барабанном переулке
барабанщиц нет, хоть плачь.
Лишь грохочут барабаны
ненасытные, хоть прячь.
То ли утренние зори,
то ль вечерняя заря…
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?
Барабанщик пестрый бантик
к барабану привязал,
барабану бить побудку,
как по буквам, приказал
и пошел по переулку,
что-то в сердце затая…
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?
А в соседнем переулке
барабанщицы живут
и, конечно, в переулке,
очень добрыми слывут,
и за ними ведь не надо
отправляться за моря…
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?!
1961
* * *
Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.
Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.
И был тот крик далек-далек
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.
Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно…
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало
утро.
1961
ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.
И если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.
И, уходя, в ночной тиши
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.
Пусть будет теплою стена
и мягкою – скамейка…
Дверям закрытым – грош цена,
замку цена – копейка.
1961
ПЕСЕНКА О ПЕХОТЕ
Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой
спасения нет…
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.
Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:
у жизни и смерти
еще не окончены счеты свои.
Нас время учило:
живи по-походному, дверь отворя…
Товарищ мужчина,
а все же заманчива доля твоя:
весь век ты в походе,
и только одно отрывает от сна:
чего ж мы уходим,
когда над землею бушует весна?
1961
* * *
Допеты все песни.
И точка.
И хватит, и хватит о том.
Ну, может, какая-то строчка
осталась еще за бортом.
Над нею кружатся колеса,
но, даже когда не свернуть,
наивна и простоволоса,
она еще жаждет сверкнуть.
Надейся, надейся, голубка,
свои паруса пораскинь,
ты хрупкая, словно скорлупка,
по этим морям городским.
Куда тебя волны ни бросят,
на помощь теперь не зови.
С тебя ничего уж не спросят:
как хочется – так и плыви,
подобна мгновенному снимку,
где полночь и двор в серебре,
и мальчик с гитарой в обнимку
на этом арбатском
дворе.
1961
КАК Я СИДЕЛ В КРЕСЛЕ ЦАРЯ
Век восемнадцатый.
Актеры
играют прямо на траве.
Я – Павел Первый,
тот, который
сидит России во главе.
И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:
«Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам…
Я отменяю все парады…
Чешите все по кабакам…
Напейтесь все,
переженитесь
кто с кем желает,
кто нашел…
А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!…»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Но нет, нельзя.
Я ж Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
«Ребята,
навострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя… Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям —
мне самому они приелись…
Я поведу вас сам…
Я сам…»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Но нет, нельзя.
Я ж – Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
Мгновение – и закричу:
«За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не бойтесь,
судей не жалейте,
иначе —
всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье…
Я знаю, ч т о я говорю!».
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Да мне ж нельзя.
Я – Павел Первый.
Мне бунтовать никак нельзя.
1962
ЛЕНИНГРАДСКАЯ МУЗЫКА
Пока еще звезды последние не отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели,
сойдите к дворам,
туда, где – дрова, где пестреют мазки
акварели…
И звонкая скрипка Растрелли
послышится вам.
Неправда, неправда,
все – враки, что будто бы старят
старанья и годы! Едва вы очутитесь тут,
как в колокола
купола золотые ударят,
колонны
горластые трубы свои задерут.
Веселую полночь люби – да на утро надейся…
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.
О вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита,
кларнеты ограды
свистят менуэты…
И улица Росси поет!
1962
* * *
Оле
Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал
городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил…
Так что же я смею?
И что я могу?
Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не полюблю
женщин, которых не полюблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу,
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу…
в пуле, которую не заслужу?…
1962
ДВА ВЕЛИКИХ СЛОВА
Не пугайся слова «кровь» —
кровь, она всегда прекрасна,
кровь ярка, красна и страстна,
«кровь» рифмуется с «любовь».
Этой рифмы древний лад!
Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?
Жар ее неотвратим…
Разве ею ты не клялся
в миг, когда один остался
с вражьей пулей на один?
И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь,
снова
прокричали песнь твою.
И когда пропал в краю
вечных зим,
песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.
Мир качнулся.
Но опять
в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять.
И не верь ты докторам,
что для улучшенья крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.
1962
НОЧНОЙ РАЗГОВОР
– Мой конь притомился.
Стоптались мои башмаки.
Куда же мне ехать?
Скажите мне, будьте добры.
– Вдоль Красной реки, моя радость,
вдоль Красной реки,
до Синей горы, моя радость,
до Синей горы.
– А как мне проехать туда?
Притомился мой конь.
Скажите пожалуйста,
как мне проехать туда?
– На ясный огонь, моя радость,
на ясный огонь,
езжай на огонь, моя радость,
найдешь без труда.
– А где ж этот ясный огонь?
Почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом…
– Фонарщик был должен зажечь,
да, наверное, спит,
фонарщик-то спит, моя радость…
А я ни при чем.
И снова он едет один
без дороги
во тьму.
Куда же он едет,
ведь ночь подступила к глазам!…
– Ты что потерял, моя радость? —
кричу я ему.
И он отвечает:
– Ах, если б я знал это сам…
1962
КАРАВАЙ
Вы видели, щиток приоткрывая,
в задумчивой и душной глубине
прищуренные глазки каравая,
когда он сам с собой наедине?
Когда очнуться не хватает мочи,
когда румяный край – под цвет зари,
о чем он думает?
О чем бормочет,
ленивые глотая пузыри?
А в нем живут сгоревшие поленья,
старанья мастериц и мастеров.
Он, как последнее стихотворенье,
и добр, и откровенен, и суров.
И задыхается на белом блюде
от радости рожденья своего…
И кланяются караваю люди
и ломтики уносят от него.
1962
ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА
Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая.
Она зелена как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.
1962
СТИХИ БЕЗ НАЗВАНИЯ
Оле
1
Вся земля, вся планета – сплошное «туда».
Как струна,
дорога звонка и туга.
Все, куда бы ни ехали, только – туда,
и никто не сюда. Все – туда и туда.
Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь.
Но смеюсь (я признаться боюсь, что боюсь).
Сам себя осуждаю, корю.
И курю.
Вдруг какая-то женщина (сердце горит)…
– Вы куда?! – удивленно я ей говорю.
– Я сюда… – так влюбленно она говорит.
«Сумасшедшая! – думаю. – Вот ерунда…
Как же можно «сюда», когда нужно – «туда»?!»
2
Строгая женщина в строгих очках
мне рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.
Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают
свои допотопные скрипки,
расправляют
помятые сюртучки,
поднимают
над головами смычки,
распрямляют
свои вдохновенные усики…
что за дом,
если в нем
не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!…
Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощенье…
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознагражденье.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю
по чину и званию,
и играют они вечный вальс
по названию:
«Может быть, наконец,
повезет мне в любви…»
3
Я люблю эту женщину.
Очень люблю.
Керамический конь увезет нас постранствовать,
будет нас на ухабах трясти и подбрасывать…
Я в Тарусе ей кружев старинных куплю.
Между прочим,
Таруса стоит над Окой.
Там торгуют в базарные дни земляникою,
не клубникою,
а земляникою,
дикою…
Вы, конечно, еще не встречали такой.
Эту женщину я от тревог излечу
и себя отучу от сомнений и слабости,
и совсем не за радости и не за сладости
я награду потом от нее получу.
Между прочим, земля околдует меня
и ее
и окружит людьми и деревьями,
и, наверно, уже за десятой деревнею
с этой женщиной мы потеряем коня.
Ах, как гладок и холоден был этот конь!
Позабудь про него.
И, как зернышко – в борозду,
ты подкинь-ка, смеясь, августовского хворосту
своей белой пригоршней в красный огонь.
Что ж касается славы, любви и наград…
Где-то ходит, наверное, конь керамический
со своею улыбочкой иронической…
А в костре настоящие сосны горят!
4
Вокзал прощанье нам прокличет,
и свет зеленый расцветет,
и так легко до неприличья
шлагбаум руки разведет.
Не буду я кричать и клясться,
в лицо заглядывать судьбе…
Но дни и версты будут красться
вдоль окон поезда,
к тебе.
И лес, и горизонт далекий,
и жизнь, как паровозный дым,
все – лишь к тебе, как те дороги,
которые
когда-то
в Рим.
1962
МУЗЫКА
Симону Чиковани
Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают,
то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле
стягиваются
моем.
И музыка передо мной танцует гибко,
и оживает все
до самых мелочей:
пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!
Ночной комар,
как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,
и каждый жест велик,
как расстоянье,
и веточка умершая
жива, жива…
И стыдно мне за мелкие мои
старанья
и за
непоправимые слова.
…Вот сила музыки.
Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,
как будто трубы медные зазвали
куда-то горячо и далеко…
И музыки стремительное тело
плывет,
кричит неведомо кому:
«Куда вы все?!
Да разве в этом дело?!»
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!!
…Вот черт,
как ничего еще не надоело!
1962
* * *
М. Хуциеву
Мы приедем туда, приедем,
проедем – зови не зови —
вот по этим каменистым,
по этим
осыпающимся дорогам любви.
Там мальчики гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.
Перед чинарою голубою
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моей любовью
перемешиваются во мне.
…Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.
Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лицо дыша…
Мы наездились, мы не торопимся,
мы хотим хоть раз не спеша.
После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,
вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.
И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.
И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.
1963
ХРАМУЛИ
Храмули – серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки,
а нос – пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.
Но если вглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.
И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка – припев.
На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.
Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!
Представьте, она понимает призванье свое:
и громоподобные пиршества не для нее.
Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,
ей четкие пальцы и теплые губы нужны.
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасенье души.
1963
ПОСЛЕДНИЙ МАНГАЛ
Тамазу Чиладзе
Джансугу Чарквиани
Когда под хохот Куры и сплетни,
в холодной выпачканный золе,
вдруг закричал мангал последний,
что он последний на всей земле,
мы все тогда над Курой сидели
и мясо сдабривали вином,
и два поэта в обнимку пели
о трудном счастье, о жестяном.
А тот мангал, словно пес – на запах
орехов, зелени, бастурмы,
качаясь, шел на железных лапах
к столу, за которым сидели мы.
И я клянусь вам, что я увидел,
как он в усердьи своем простом,
как пес, которого мир обидел,
присел и вильнул жестяным хвостом.
Пропахший зеленью, как духами,
и шашлыками еще лютей,
он, словно свергнутый бог,
в духане
с надеждой слушал слова людей…
…Поэты плакали. Я смеялся.
Стакан покачивался в руке.
И современно шипело мясо
на электрическом
очаге.
1963
ФРЕСКИ
1. ОХОТНИК
Спасибо тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что так ты кругла
и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как бог!
Спасибо тебе за твое уменье,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье…
Дай тебе бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть…
Он должен
умереть
с улыбкой.
Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам…
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму…
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу…
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не расслышу.
О, спасибо тебе, расстояние, что я
не увидел оленьих глаз,
когда он угас!…
2. ГОНЧАР
Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять,
и месить,
и молоть…
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык – отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий,
поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых…
Царь, а царь,
это рыбы раба твоего,
бык раба твоего…
Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего
раба твоего.
Царь, а царь,
хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою
озоровать:
бога – побоку,
бабу – под бок, на кровать?!
Царь, а царь,
когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принесть,
где желтый бык —
отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых,
пять рыб голубых…
3. РАБ
Один шажок
и другой шажок,
а солнышко село…
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда…
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар —
тебе,
а пожар —
себе…
Я рвань,
я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь,
не давай никому…
Пусть тебе – прекрасно,
госпоже – прекрасно,
холуям – прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!
1963







