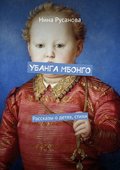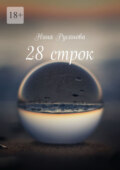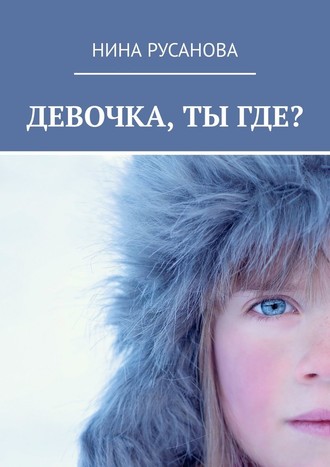
Нина Русанова
Девочка, ты где? НЕдетские рассказы – 2. Стихи
Послесловие Светланы Данилиной
Обложка Нины Русановой
Макет Нины Русановой
© Нина Русанова, 2020
ISBN 978-5-4498-9450-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРОЛОГ
Симметрия – узор для дураков
Лицом к лицу
Лица не увидать.
С. А. Есенин«Письмо к женщине»
Симметрия – узор для дураков:1
Урок второй – увы/ура – не первый.
И этот новый сборник не таков
И по-другому действует на нервы.
В нём всё – не эдак, всё – не очень так,
Но каждый выстрел – на опереженье.
И, глядя на людей, люблю собак —
Добрейшее из наших отражений.
Цветы, соринки, перья, сорняки —
И в них найду своё и человечье.
Движением – не тем, не той руки —
Зачем-то ведь и их увековечу.
Героями расплывчатых структур —
Не то стихов, не то не тех рассказов —
Я приглашу блаженненьких и дур.
А дуры ли? – не разберёшься сразу.
Здесь всё – обман, иллюзия и бред —
Проекция бесплотнейших абстракций,
И перспектив, сходящих не на нет,
И бесконечности ревербераций.
На радость вашу, на свою беду —
Готова хоть и с зеркалом сразиться!
Но если я из комнаты уйду,
То в нём уже ничто не отразится.
Ничто, никто – в кромешной суете
Лицо к лицу – сродни посмертной маске.
Ах, девочки и мальчики! Вы где?
Ушли, ушли… Но оживают краски.
Вам кажется, что автор нездоров?
Но это лишь одна из точек зрений:
Ведь в этом мире – до хрена миров!
И в каждом – до хренища! – измерений.
1. ОГОЛЬ и МУЖАС
Гоголь-моголь
Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь…
М. С. Пляцковский«Чему учат в школе»
Вы думаете, я говорю по-французски? Нет, я не имел счастия воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда ещё ребёнком, меня легко было приучить, стоило только посечь хорошенько, и я бы знал, я бы непременно знал.
Н. В. Гоголь «Женитьба»
– Пряник медовый дашь?
Фраза из фильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише»по А. П. Гайдару
– Ты мне – никто! никто!! – кричит маленькая девочка.
И кричит она их, эти страшные слова, а вернее, слово (страшное слово во всей фразе всего одно, но зато какое! – это уничижающее, уничтожающее «никто!») – не кому-нибудь, а своей родной, собственной своей, бабушке.
На что бабушка, естественно…
Молчит.
А девочка, расценив бабушкино молчание как некий знак (согласия и чуть ли даже не одобрения), продолжает. Успех свой надо закрепить:
– Вот сама подумай. Подумай, ты же умная! – приглашает она бабушку к размышлению, раздумью, да ещё и ободряет («умная!»), видимо, совсем уж обнаглев.
– Ты мне не мама… – рассуждает вслух, – и не папа… Ведь не папа же?
Искоса следя за бабушкиной реакцией, девочка делает лукавую паузу, будто проверяя бабушку, играя с ней: а вдруг поддастся?.. спорить начнёт…
И, не дождавшись (да особенно-то и не стараясь дождаться) какого-либо ответа (да и какой здесь может быть «какой-либо» ответ?), сама же себе и отвечает:
– И не папа.
Что и требовалось доказать.
Впрочем, реакция всё-таки следует. Бабушка всё так же, молча и будто бы даже со вздохом смирения, кивает, что, очевидно, должно означать: да, она своей внучке не папа. И она, бабушка, признаёт этот факт, осознаёт его во всей неоспоримой, неопровержимой и сокрушающей полноте. Ведь это же очевидно, ну сами подумайте, ну в самом-то деле: ну какая же она своей внучке «папа»?!
Девочка торжествует.
Однако милостиво решает дать незадачливой бабушке последний шанс. И, словно соломинку утопающему, бросает небрежно, но вместе с тем и великодушно:
– Ну тогда, может быть, ты мне сестра?
И снова делает паузу, на этот раз совсем уже коротенькую, коротю-ю-сенькую (так, чистая формальность); и снова, не дожидаясь ответа, сама же отвечает-заключает:
– Не сестра.
Казалось бы, приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Но нет! Все – абсолютно все! – формальности должны быть соблюдены маленькой… тиранкой?.. тираньей?.. Тираншей! Сказки про доброго (но справедливого!) царя, думаю, известны читателю.
А посему:
– Или, может быть, брат?
И – уже без паузы, решив не дожидаться ни бабушкиных молчаливых согласных кивков, ни вздохов послушного смирения… или смиренного послушания… или же, наоборот, – несогласных, а то и вовсе – укоризненных! – покачиваний головы из стороны в сторону, – девочка констатирует:
– И не брат.
После чего доказательство очевидного (и ведь блестящее, надо заметить, доказательство!) вступает в свою завершающую фазу:
– Вот видишь? Не папа и не мама, не сестра и не брат. Тогда кто же ты мне? – искусством задавания риторических вопросов это маленькое… маленькое… э-э-э… ну, скажем так, существо… маленькое существо овладело вполне. И искусством давания ответов (таких же точно – риторических) тоже овладело оно:
– Ты мне – никто. И поэтому я тебя – слушаться – не буду! – торжественно заключает юная победительница.
А что же бабушка?
А бабушка всё так же молчит.
Девочка – празднует победу! В душе её – поют фанфары! Вспыхивает, искрясь огнями, праздничный салют! Она – ликует! Но, конечно же, только внутренне. А внешне… внешне лишь лёгкая улыбка (улыбочка) играет на её лице.
И вот наконец слышится спокойный бабушкин голос:
– Я – твоя бабушка.
И затем всё так же спокойно и даже ласково (и как это у неё так получается?) бабушка говорит:
– Ну, пойдём уже уроки делать… Пойдём, пойдём…
И как, спрашивается, она всё это терпит?! Все эти выходки? Да как она может?!
Да от кого?! – от собственной внучки!..
Какая же это всё-таки ужасная девочка! Какая-то она… совсем невоспитанная. Так себя вести!.. Говорить такое! – родной бабушке!
Или вот это. Хотя уже одного только вышеописанного достаточно. Но всё-таки… Всё-таки. Вот представьте себе. Ну хоть на минуточку! Нет, вы только взгляните на это!
Девочка стоит в кладовке – тихо-тихо, как мышка… буквально чуть дыша… едва дыша… не дыша даже.
И – из этой самой кладовки, сквозь щёлочку, – наблюдает за бабушкой: как та ходит по всей квартире – ищет её, свою маленькую внучку.
Нет, конечно, «по всей квартире» – это сильно сказано, ведь из одной только кладовки (да ещё сквозь ма-а-аленькую, сквозь мал-ю-ю-ю-сенькую такую щёлочку… да ещё и не дыша – а то вдруг бабушка услышит!.. и тогда уж точно обнаружит её укрытие) не больно-то много увидишь. Да ничего не увидишь! Только и увидишь, что бабушкину спину, когда та идёт из коридора на кухню. И потом (правда, вовремя отпрянув) можно увидеть бабушку, идущую обратно: из кухни – снова в коридор… Но зато уж точно всегда можно услышать, как бабушка, ходя взад-вперёд по коридору и по всем трём комнатам: детской, родительской и большой… и даже в туалет заглядывает… – всё так же спокойно, всё тем же добрым (и ласковым!) голосом – зовёт… зовёт её, эту ужасную, эту кошмарную, несносную эту девочку:
– Катя-а-а… Катенька-а-а… Катю-у-у-ша-а-а…
Вот ведь ужас-то. Вот ведь стыд какой.
Да-да, вы не ослышались. Эта противная, эта ужасная девочка – Катя. Собственной персоной. И это, пожалуй, самое ужасное место в рассказе.
Однако как-то всё же вышла она в тот день из своего убежища.
Наверное, ей просто наскучило стоять в хоть и уютной, но тёмной (свет зажечь она не могла, не смела – это бы всё испортило!) и пыльной кладовке, где составить ей компанию могли лишь расположенные по всем четырём углам каморки деревянные полки, а на них – выстроенные рядами трёхлитровые банки: с маринованными огурцами и помидорами… с домашними компотами и соками… и с вареньем (бабушкиным же!): малиновым, клубничным и вишнёвым – Катиным любимым. Нет, пожалуй, всё-таки клубничное – самое её любимое… но и вишнёвое тоже… Или нет: и не клубничное, и не вишнёвое, а всё-таки малиновое – потому что оно пахнет… розами. Или это розы?.. Розы – пахнут малиновым вареньем!
Катя сама сделала это открытие! Ещё когда была совсем маленькой, ещё когда ей только пять лет было! Вот. Как-то раз понюхала она стоявшие в гостиной розы… они стояли на столе в любимой маминой хрустальной вазе… И вдруг она… (не ваза! и не мама, конечно же! а Катя) вдруг она… поняла. Поняла! Что розы… что розы пахнут… бабушкиным малиновым вареньем! И дедушкиным тоже.
Ах, как же ей хочется к дедушке!.. Ходить босиком по огороду… объедать малину… вот прямо с куста!.. И к бабушке хочется… на каникулы поскорее поехать… Приехать и обнять её… покрепче, посильнее обнять… крепко-крепко! Ах, как же!.. как же всё-таки сильно!.. как сильно!!.. как-то уже успела она… соскучиться.
И тут только вспомнив, что вообще-то бабушка как раз таки и находится сейчас здесь, и вот уже битый час ходит она взад-вперёд по квартире, и зовёт её, любимую свою внучку, внученьку (тоже уже, наверное, «соскучилась»), Катя тихонько отворяет дверь… тихо-тихо, на цыпочках (чтобы всё-таки бабушка не догадалась по звуку, откуда она идёт, и не обнаружила тем самым её секретного убежища, тайного наблюдательного пункта (ну… так… на всякий случай), выходит из кладовки и медленно… медленно-медленно (потому что ведь и стыдно ей уже) идёт по коридору – к бабушке.
Бедная бабушка!..
Кате действительно совестно: и зачем она так над ней издевалась?..
Да она и сама не знает, зачем… Да просто так… Ну… ну потому что бабушка очень добрая… и Катю никогда – никогда-никогда! – не наказывала и не наказывает. И наказывать не будет (что-что, а это Катя знает совершенно точно). Ни её, ни другого кого. Никогда.
Правда, родители говорят, что своих-то детей – Лёшу, Витю и Аню (Катиных папу и дядю с тётей) – она всё-таки иногда наказывала… и вообще – в строгости держала.
А вот внуков, говорят, она жалеет. (Интересно, почему?) Жалеет и балует. И некоторых даже «совсем распустила». И даже – «испортила». «Своей любовью».
Дело в том, что бабушка у Кати – учительница.
Когда Катя приезжает к ней на каникулы и они вместе идут по главной улице (на переговорный пункт звонить маме в Москву), все с бабушкой здороваются: «Здравствуйте, Катерина Романовна!.. Здравствуйте, Катерина Романовна!..» – только и слышно со всех сторон. И Катя знает, что все эти люди – бабушкины ученики. Бывшие, конечно (бабушка ведь уже на пенсии). Или их родители. Ну или дети. Катину бабушку Екатерину Романовну Кислову знают все – всё село её знает.
Потому-то она такая строгая (была). И требовательная (до сих пор осталась). Правда, в основном к себе самой. Потому что учителем быть – это большая ответственность. Очень большая. И Катя это хорошо понимает: а вдруг чему-нибудь не тому научишь?!
Потому-то и к собственным детям бабушка была строгой и требовательной – они ведь тоже были её учениками! Катя понимает и это: а вдруг другие ученики (и другие учителя! и другие родители!) подумают, что ты им, своим детям, пятёрки просто так ставишь?!
И именно поэтому – потому, что учительница – она, Катина бабушка, сейчас здесь: она приехала Катю учить. Учить писать.
Правда, писать Катю учат ещё и в школе… но это совсем, совсем другое дело. А читать Катя уже и так умеет. Сама. Да вообще-то она и писать тоже умеет… но пока только печатными буквами. А в школе их учат – учат, конечно, писать прописью. Но бабушка всё равно учит лучше.
Итак, Катя – первоклассница. Бабушка её – учительница. Друг друга они очень любят, друг в друге души не чают! – буквально. Друг по другу скучают, а увидятся – так и наглядеться не могут! И надышаться! И наобниматься! Да жить друг без друга не могут они! Ведь их даже и зовут одинаково!
Но самое интересное (или главное?.. или – невероятное?) – это то, что Кате нравится учиться! И что в общем-то она послушная девочка…
Тогда что же это? Что это было?
И главное – зачем?!
А вот непонятно, что. «То».
И непонятно, зачем. «Затем».
И если с Катей всё ясно – а ясно то, что ничего не ясно (причём до сих пор), – то с бабушкой… с бабушкой и вовсе. Тут даже и слов-то никаких не подберёшь.
Потому что бабушка… Ну вот зачем? Зачем, спрашивается?! Ведь Катя уже «сдалась»! И из убежища своего вышла! И учиться «согласилась»! И даже села уже за папин секретер и тетрадь свою «письменную» открыла, и ручку шариковую достала – приготовилась писать…
А бабушка – нет, вы только послушайте! Вы послушайте, что она говорит!
Она обещает Кате… приготовить ей… для неё…
Приготовить ей… гоголь-моголь! – любимый Катин десерт.
Причём обещает сделать это не после урока, а до!
И уже идёт! – уже идёт готовить! – то есть вот прямо сейчас! До письма ещё! До всего!
И Катя, радостная, – не то чтобы «не веря своему счастью», нет, как раз таки веря! – в бабушку свою верит она, как верят дети в Деда Мороза – доброго и всемогущего! – бежит за нею на кухню. И уже облизывается, предвкушая.
А на кухне бабушка берёт из холодильника яичко… даже два… тщательно моет их под краном… вытирает висящим справа от него льняным полотенцем… кладёт на стол… затем достаёт из шкафа беленькую эмалированную мисочку с бледно-жёлтым нарисованным на донышке тюльпанчиком (полустёртым, потому что это Катина мисочка, детская ещё), затем снова берёт яички… и, аккуратно по одному разбив и ловко разделив скорлупу на половинки, переливая густой, прозрачный, похожий на медузу белок (и как это бабушке не противно?) из одной половинки в другую и давая ему стечь, отделяет желтки… после чего добавляет к желткам сахар… слегка перемешивает… и маленьким серебристым венчиком начинает взбивать полученную смесь. Взбивает очень тщательно – аккуратными и быстрыми – лёгкими, летящими почти! – но уверенными, привычными руке движениями (бабушка не только учительница первая в мире, лучшая самая! – она ещё и готовит замечательно).
И вот, через считаные минуты гоголь-моголь готов!
Вуаля!2
Сладкая и густая нежно-жёлтого цвета пенка, перелитая бабушкой в маленькую хрустальную вазочку-бокальчик – специально для Кати! – уже ничем не напоминает те сырые яйца (бе-е-е…), из которых была приготовлена. Даже ничего общего не имеет с ними. Ведь это действительно крем!
Крем де ля крем!..3 Лучший из лучших! Самый вкусный на свете! Ах, гоголь-моголь, гоголь-моголь…
Катя быстро расправляется с угощением и спешит, бежит (бегом бежит!) в родительскую спальню, где стоит папин секретер, а на нём – лежит раскрытая тетрадь – ждёт её, дожидается… Вот Катя и торопится – к ней. Писать. А как же! Всё должно быть честно. По-честному должно быть!
Села. Устраиваясь поудобнее, нетерпеливо поёрзала. Уселась наконец.
И – по-честному! – с удовольствием! – с удвоенным старанием (ведь два желтка! плюс сахар!) принялась за дело.
И вот уже она пишет. Сидя за папиным секретером (это вам не просто «стол» какой-нибудь!), старательно выводит в тетради палочки… затем крючочки… Одна строчка, другая… третья… и вот уже полстраницы… и целая страница исписана… И не оторваться! Вот ведь понравилось! Как будто ей здесь, в тетради этой, как мама любит говорить, мёдом намазано!
Стоит ли рассказывать о том, что и на следующий день, едва придя из школы и пообедав… или нет… ещё чуть-чуть отдохнув (совсем чуть-чуть!) и чуточку поиграв (ведь надо же и поиграть человеку!) перед тем, как приняться за уроки, Катя спросила бабушку «с пристрастием»:
– А гоголь-моголь – сделаешь?!
Это она решила теперь так бабушку «шантажировать». Или вид делать, что шантажирует. Как будто бабушка могла ей отказать – сказать, что нет, не сделает. Или как будто без гоголя-моголя Катя не стала бы заниматься! В самом деле! Да конечно! – конечно, стала бы!
Но бабушка тоже «сделала вид». И пошла на кухню – готовить для Кати этот самый гоголь-моголь.
А потом они с бабушкой премиленько позанимались. Душа в душу!
Долго сидели… Не потому, что трудно было, а потому, что нравилось. Хотелось потому что.
И не только письмо, но и чтение сделали… И вообще всё – все остальные уроки, всё, что было задано. Конечно, это Катя делала уроки, а бабушка просто рядом сидела. Просто была рядом.
Но письму – письму – учила Катю именно она. Не так, как сейчас учат – «слитному письму» (а на самом-то деле скорописи – шариковой ручкой), а так, как учили писать раньше – ручкой перьевой, каллиграфическим почерком: наклонные линии с нажимом – ровные, идеально параллельные, выполненные твёрдой, спокойной и уверенной рукой… тоненькие линии без нажима – нитяные… или нет, как-то по-другому назывались они… волосные, вот! – волосные линии… Или «волосяные»?..
Тоненькая волнистая перепоночка-перемычка буквы «Н»… и такая же точно у буквы «Ю»… и у буквы «Э»… А уж как красиво выписывает бабушка их общую букву «К»! Никто и никогда не умел, не умеет и уметь не будет – так писать. Никто! И никогда.
Действительно – будто ниточки! – волосинки-паутинки шёлковые… – тонкие-тонкие, тонюсенькие… трепещущие на ветру… играющие в тёплых лучах первой осени – последнего лета…
Лета – бабьего:
«Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора…»4
Помнится, читали они с бабушкой такое стихотворение. Вернее, это бабушка читала, а Катя слушала. Обеим оно очень нравилось. Это Тютчев написал. И ведь всё так, всё верно. Поэт изобразил картину ранней осени так, будто действительно нарисовал её, но только словами: и прозрачный воздух, и хрустальный день, и лучезарный вечер, и отдыхающее после страды поле… А уж кому, как не бабушке, знать об этом! Ведь и поле, и гуляющий по нему, срезающий тяжёлые колосья бодрый серп – всё это из её детства…
Бабушка много рассказывала Кате о том, как она росла, сколько было у неё братьев и сестёр… И как они все вместе ходили в школу – с раннего утра, босиком, за много километров отправлялись в путь… И о родителях своих рассказывала… И о своём дедушке Кузьме: как тот хлеба никогда не выбрасывал, но аккуратно ладонью со стола всё до крошки подбирал, собирал… одной рукой в другую смахивал и отправлял себе в рот. А ведь жили они вовсе не бедно! Не то чтобы уж очень богато, однако ни в чём не нуждались – не мёрзли и не голодали. Просто всё, что было в их доме: и этот стол деревянный, и вокруг стола лавки, и на столе – каравай, а под караваем – скатерть… – всё это сделали они сами. Сами и берегли.
И Катя слушала, слушала, как зачарованная: как выращивали лён… как собирали его… да как ткали из него холсты… чтобы потом шить из них рубашки и сарафаны… И как бабушка с сёстрами, маленькими тогда девочками, полоскали в реке длинные полотнища ткани, а затем, вытащив их из воды и растянув мокрыми дорожками прямо на траве, сушили-отбеливали на солнце…
«…И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле…»5
Нажим… волосяная… нажим… волосяная… Никто не умел так писать – только бабушка. А теперь ещё и Катя умела. Ну и ещё папа с мамой, конечно. И дядя с тётей. Но ведь они все не могли её учить: родители – на работе, тётя – вообще в другом городе! А бабушка – приехала и смогла. Потому что она на пенсии.
Вот такой у них с бабушкой был «секрет». Ведь недаром же они за секретером занимались, за папиным! (А не за Таниным столом, хотя бы и письменным.)
Бабушка выучила чистописанию всех своих детей и внуков. Неужели каждому готовила она гоголь-моголь?
Или для каждого были у неё какие-то свои, отдельные, методы? К каждому – свой, особый, подход… секретный маленький ключик…
В войну ведь, как известно, никаких «гоголей-моголей» не было – а Катины родители росли и ходили в школу именно в те годы.
Папа часто рассказывал им с Таней о том, как однажды бабушке удалось раздобыть где-то целый мешок сахару. Кускового. Она поставила мешок в буфет, а буфет заперла на ключ. А маленький папа этот ключ взял (без разрешения!), буфет открыл и, прорвав мешок с одного угла – так, чтобы не было видно, – вытащил из него один ослепительно-белый и, как слеза, прозрачный кусок – и… даже не «поиграл им в руке» – от одного только прикосновения к сладкому рот мальчика тут же наполнился слюной – как если бы вожделенный кусок уже был там. Едва успев осознать и не успев всерьёз, глубоко и надолго задуматься о природе столь парадоксального явления, эдакого соответствия-несоответствия, туда же – а именно в рот – он его и отправил. Практически сразу. Сахар, сколько мог, медлил, сладко тая, истекая совершенно немыслимой сдадостью-сластью, такой, что поневоле приходилось причмокивать, прихлёбывать, прихлюпывать (и даже как-то «по-французски» сёрбать), с плямкающим присвистом втягивая губами воздух и шумно сглатывая «нектар». Сахар съел, буфет закрыл, а ключ от него положил на место.
А на следующий день всё повторилось. А потом ещё и ещё раз… и каждый из них – «последний». «Разам» этим Лёша потерял счёт – удержаться от соблазна не было никакой возможности: куски были такими снежно-прозрачными, такими маняще-сверкающими… да попросту они были сладкими! А Лёша был… а Лёша был маленьким – самым маленьким в классе! И вечно голодным. Лет восемь было ему. А казалось, что шесть.
Преступление обнаружилось, когда «полный» и «целый» мешок сахару в один прекрасный день вдруг просто обрушился – рухнул: аккуратно прорванный угол его был нижним! И влетело маленькому Лёше от доброй Катиной бабушки (а тогда строгой мамы-учительницы Катерины Романовны) по первое число. Так влетело, что на всю жизнь запомнилось. И всю Катину жизнь, сколько она себя помнит, рассказывалось. И непонятно было: весело папе об этом рассказывать… или, наоборот, грустно. Так бывает – что трудно разграничить. И не знаешь, как реагировать – как, например, на заявление папы о том, что слова «сладкий» и «солёный» образовались от одного корня – корня солодки, в чистом виде чуть горьковатого даже. А ты только в третьем классе. Ну или «уже» – но тебе всё равно пока этого не объясняли, а объяснят, возможно, только в университете. И солодку ты пробовала только в виде микстуры от кашля, но ещё об этом не знаешь. А узнаешь только тогда, когда будешь поить этой же самой микстурой своих детей. А вырос он (не корень солодки, конечно, но Катин папа), догнав наконец по росту своих одноклассников, только к моменту выпуска из школы.
У мамы тоже были свои истории. Одна из них о том, как в эвакуации по самым большим праздникам их с бабушкой соседка по комнате доверяла маленькой Лиле выскрести начисто кастрюльку из-под манной каши, которую варила для своего грудного ребёнка. Лиля вычищала посудинку так, что мыть её, казалось, уже не было никакой необходимости, и мечтала о том, что вот когда она-а вырастет… то всегда — каждый день – будет варить себе манную кашу. Можете вы себе такое представить? Манную кашу – каждый день.
А другая история о том, как однажды та же соседка напекла печенья и спрятала накрытую полотенцем, а сверху «для верности» ещё и газетой, тарелку со свежей выпечкой под свою кровать, к стене, в самый дальний угол, откуда, несмотря на все эти ухищрения, всё равно пахло редким, почти невозможным в те годы, лакомством – тёплым ещё! – упоительно до полного умопомрачения.
Стоит ли удивляться тому, что при первом же удобном случае, когда в комнате не было никого из взрослых (Лилю оставили присмотреть за спящим младенцем), она полезла под соседкину кровать и тарелку эту «нашла». Не остановили её ни дальний угол, ни чистое полотенце, ни даже газета. Ни спящий на кровати малыш. «Догадавшись» о том, что драгоценные печеньица хозяйкой наверняка тщательно посчитаны-пересчитаны и что если она, Лиля, съест хоть одно из них, это тотчас бросится в глаза, более того – сразу станет понятно, кто именно съел, и что её, Лилю, обязательно накажут! – девочка решила все печенья обкусать: по краешку, совсем по чуть-чуть, но равномерно, по всему периметру, ровненько, очень аккуратно… – и тогда уж точно никто ничего не заметит. И не накажет. Обкусать. Что она и сделала – лёжа тут же, под кроватью, в пыли, темноте, тесноте и духоте… В духоте, но в какой! – в такой аппетитно-душистой духоте, что и задохнуться не страшно!
А ведь и было – страшно. Лиля помнит, как соседка неожиданно зачем-то вернулась: ноги в серых чулках и стоптанных башмаках прошаркали по комнате, встали посреди неё в замешательстве, удивившись, видимо, отсутствию «няньки», но вслух при спящем младенце ничего говорить не стали… затем приблизились к самой-самой кровати… что-то там поправили… ребёнок угрожающе закряхтел, просыпаясь… и тогда ноги сели его укачивать. Да и не только ноги уселись. На кровать. Отчего та провисла чуть не до пола! Хорошо, что тарелка с печеньем стояла в самом дальнем углу, а худышка-Лиля притаилась у самой-самой стены – иначе соседка села бы прямо на неё! Всё это время девочка лежала, не шелохнувшись, замерев от страха, задержав дыхание перед тарелкой с ароматно-песочными кружочками, которые всё ещё тепло и нежно дышали ей в лицо… а половина из них уже была ею обглодана. Лежала, опасаясь чихнуть ненароком (в носу моментально засвербела вся «подкроватная» пыль) или кашлянуть (в горле внезапно запершили все «печенные» крошки). Лежала, сглатывая слюну и более всего на свете боясь, что вот-вот, сейчас в желудке у неё, не сытом, но лишь раззадоренном нечаянным (но и не вполне невинным), не совсем предумышленным (но ведь никем и не дозволенным) пиром, оглушительно заурчит.
А что было дальше: куда девалась соседка (и девалась ли?) и как она, Лиля, вылезала, отряхивая пыль с живота, локтей и коленей и оправляя мятое платье, как в десятый раз облизывала и утирала губы, обеими ладонями проверяя, не осталась ли, не дай бог, на лице, хоть одна сладкая «песчинка», как раскрылся её обман и что за этим последовало – не помнит.
Это о том, что касается сладостей. Что до тетрадей, то их вообще не было в те годы – все письменные уроки делали… да на газетах же и делали их (если, конечно, были газеты). А писали всё равно каллиграфическим почерком: нажим… волосяная… нажим… волосяная… Поэтому совершенно непонятно: какой там был «ключик»? – тогда… Да ещё и «к каждому».
И вот теперь Катя училась писать в чистейшей тетради в косую линеечку, любовалась на первоначальную осень – ту, что стояла наяву, за окном, – тёплую, тихую, всю в трепетных золотых косицах по кроткому, но всё равно праздничному лазоревому небу, от которого неизменно захватывало дух!.. и ту, что открывалась ей в стихах – благодатную, умиротворённую, немного грустную… связывая их в себе воедино волосяными линиями – нитями тонкими до прозрачности, почти незримости, паутинно-хрустальной хрупкости… но в то же время и самыми прочными на свете – да потому, что без нажима – и уплетала гоголь-моголь, как говорится, за обе свои худенькие щёки.
Но – и так говорится тоже – «недолго музыка играла»: вскорости Катина мама заметила, что в холодильнике как-то уж очень быстро, просто даже подозрительно быстро! – стали заканчиваться яички. Просто пропадать стали. Только успевай покупать!
И пришлось Кате с бабушкой «расколоться» – признаться, что это Катя… занимается с бабушкой… «за гоголь-моголь».
Мама очень рассердилась тогда. И теперь уже не Катиному папе когда-то в далёком детстве, а Кате с бабушкой здесь и сейчас влетело по первое число. И первокласснице, и первой и самой лучшей учительнице – обеим. Мама сказала, что бабушка Катю «совсем распустила» и что теперь Катя из неё, то есть из бабушки, «верёвки вьёт».
А она и не вьёт вовсе. Разве что чуть-чуть совсем… повила. Но больше уже не вьёт, точно не вьёт – добровольно пишет.
Катя знает, что учиться ей всё равно нужно.
Просто она очень любит гоголь-моголь.
Мама сказала, что «нечего», что Катя и так, и без гоголя-моголя – «без баловства!» – может и должна заниматься.
И бабушке готовить для внучки французские (да французские ли?6), равно как и любые другие десертные изыски – в особенности перед уроками! – строго-настрого запретила.
Ну а Катя что?..
А Катя – делала уроки. Училась. Занималась. Да она и так занималась бы…
Вот она и занималась. Подумаешь… в самом-то деле.
И без гоголя-моголя бабушка выучила Катю писать, и писала Катя – лучше всех в классе!
Учительница Галина Сергеевна даже вызывала Катю к доске, чтобы та в специально отведённом для этого месте (в разлинованном левом нижнем углу её), писала новые буквы – для всего класса. Чтобы все видели, как надо.
И так – каждый день!
Катя очень этим гордилась. И когда учительница однажды спросила, кто же это научил Катю так хорошо, так красиво писать, она ответила, что это бабушка, потому что она, Катина бабушка, – тоже учительница. На весь класс сказала – громко. Чтобы все слышали и все знали, какая у Кати бабушка и как Кате с ней повезло.
Но вот что интересно.
С тех самых пор, с того самого первого класса — мастер-класса! – бабушкиного – потому что бабушка, конечно же, была Мастером — мастером своего дела и большой мастерицей во всех других делах, за какое бы ни взялась! – Катя так и не ела гоголя-моголя.
Вот так и не ела. С тех самых пор. Причём ни разу. Ни одного. А уж сырые яйца она и вовсе – на дух, как говорится, не переносила. И не переносит.
А про несырые почему-то думает, что часто их есть вредно, что в них, а точнее в их желтках, – один холестерин. Чистый. Ну то есть голый. Нет, она знает, конечно, что есть их можно и даже нужно, но нечасто – один-два раза в неделю, не более.
Но вот как раз эти-то самые «один-два раза в неделю» Катя и забывает их есть. А когда вспоминает, что нужно, – то почему-то в этот самый день ей яиц… ну совершенно не хочется. Ну вот почему-то. И поэтому она не ест их вовсе.
А теперь учёные говорят, то есть пишут, что никакие они, яички эти, не вредные и что весь холестерин, какой в них есть (или даже не холестерин он, а холестерол?), – полезный. Самый что ни на есть.
А ещё пишут – что ещё в них есть… (уж что есть, то есть! – есть так есть!) да чего уж там… Что в них содержится лецитин, необходимый для работы мозга.
Особенно детского.
Особенно в период роста. И – обучения.
Неужели бабушка уже тогда об этом знала?
Ах, гоголь-моголь, гоголь-моголь!.. Сдаётся автору, он и не то ещё мог бы… И не то ещё смог бы он!
Ведь недаром же он – моголь…
А уж как удивилась маленькая Катя – и даже рассмеялась! да прямо в голос! – впервые услышав имя великого русского писателя!
Ах, как она веселилась тогда! Какая замечательная – сладкая, весёлая! – вот уж действительно вкусная! – оказалась у него фамилия!
«И как же, наверное, хорошо он пишет!..» – думала она, предвкушая.