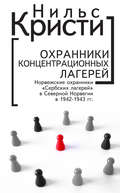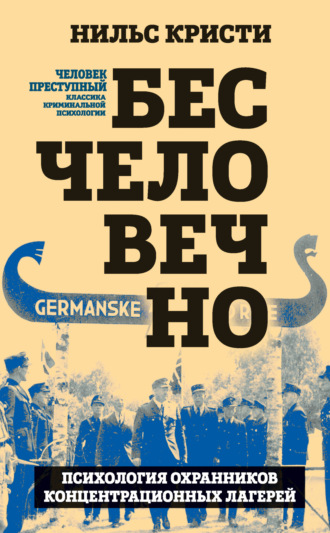
Нильс Кристи
Бесчеловечно. Психология охранников концентрационных лагерей
Возникает вопрос о том, какое воздействие такая система оказывала на заключенных. Мы попытаемся сначала воссоздать физические последствия, а затем более подробно остановимся на последствиях психологических.
Смертность
Ойген Когон16 в своей книге пытается определить примерное число погибших в немецких концентрационных лагерях. С рядом оговорок на невозможность установить точное число погибших, он приходит к выводу, что их минимальное число составляет около семи миллионов 125 тысяч человек17. Как полагает Когон, около 200 тысяч погибло еще до войны, а остальные – во время войны. До войны уровень смертности в обычных лагерях составлял примерно 10 %, а концу войны вырос до 35–40 % в лагерях среднего типа. В лагерях уничтожения, таких как Освенцим, уровень смертности был, разумеется, гораздо выше.
Одд Нансен и Тим Греве пишут по этому поводу следующее:
«Во время Нюрнбергского процесса были приведены цифры, показывающие, что в концентрационных лагерях в Германии побывало, по меньшей мере, 19 миллионов человек. Около 12 миллионов – людей всех национальностей и народностей – погибли в газовых камерах, были расстреляны, повешены или умерщвлены иным способом. Позднее французская правительственная комиссия пришла к выводу о том, что погибло 26 миллионов заключенных, однако это количество представляется завышенным»18.
В датском исследовании истощения и его последствий подсчитана смертность среди датчан в концентрационных лагерях. Следует, однако, учитывать, что датчане, наряду с норвежцами, находились в лагере на привилегированном положении и имели больше шансов выжить, чем остальные. Немцы считали их «арийцами» и относились к ним поэтому гораздо лучше, а самое важное, большинство из них получали посылки от Красного Креста и из дома. Авторы пишут по этому поводу следующее:
«Смертность в лагерях была различной, в зависимости от условий содержания и в особенности от питания. Для датчан она является в некотором смысле показателем степени достаточности питания. Для шести тысяч датчан, отправленных в Германию по различным причинам и пробывших там различные сроки, смертность составила в целом 10 %…
В лагерях типа Порта и Хусум, куда не поступали посылки, а продолжительность содержания составляла всего семь месяцев, смертность достигала соответственно 44 и 25 %. В лагере Заксенхаузен смертность была только 3 %, несмотря на более длительный период пребывания – 10–18 месяцев. Большое значение имели также виды работ: в лагерях Порта и Хусум работы были тяжелыми. В трудовых колониях с таким же питанием, но с более легкой работой смертность составляла всего 3 %. Смертность полицейских в возрастной группе 21–30 лет составляла 3 %, в группе от 31–45 лет – 5 %, а старше 45 лет – 9 %. При более суровых условиях содержания эти цифры составляли соответственно 14, 31 и 43 %.
Что касается причин смерти, то по приблизительным данным, около одной трети людей умерло просто от голода и истощения без осложнений, еще одна треть – от голода и туберкулеза легких, и одна треть – от прочих инфекционных осложнений истощения и голода»19.
Болезни
В данном исследовании мы не делаем попытки дать медицинское описание болезней, преобладающих в концлагерях. Гораздо важнее проследить, какое воздействие эти болезни оказывали на внешний вид и поведение заключенных. Нас интересует картина, представавшая перед глазами охранников, так как позднее мы познакомимся с их версией событий.
Четыре фактора приводили к частым случаем заболеваний среди заключенных. Прежде всего, это недоедание и перенапряжение. Далее большое значение имели антисанитарные условия, температура воздуха и жестокое обращение.
НЕДОЕДАНИЕ приводило, прежде всего, к сильной потере веса. Четвертая часть выживших датских политических заключенных весили менее 45 кг20. Снижение веса объяснялось скорее условиями содержания в различных лагерях, нежели продолжительностью нахождения там. Исхудание было в некоторой степени скрыто или не так заметно по причине голодных отеков, то есть накопления жидкости в тканевых щелях, ведущее к их увеличению и опуханию ткани. Этим страдали 36 % выживших датских политических заключенных.
Другой результат недоедания – так называемая диарея от голода, а также частое и сильное мочеиспускание. Пища в лагере была чаще всего жидкая, а кроме того, заключенные пили много воды, чтобы заглушить чувство голода. 78 % датских заключенных концлагерей страдали от диареи во время пребывания в лагере21.
«Несмотря на плохие гигиенические условия, диарею в большинстве случаев следует рассматривать как симптом истощения, а не его инфекционное осложнение», – говорится в датском исследовании. И далее: «Диарея от голода появлялась эндемически. Более „привелигированные“ заключенные, получавшие лучшее питание и жившие в „райских“ условиях, обычно не заражались. Чаще всего симптомы наступали постепенно, среди политических заключенных через один-два месяца недоедания… Число испражнений составляло в легких случаях от 5–10 в день, а в тяжелых случаях опорожнение кишечника происходило практически непрерывно…»22.
«Человек-скелет», или «доходяга», известный нам из большинства описаний концлагерей, находится на последней стадии недоедания. В датском исследовании о нем говорится следующее:
«Конечный результат истощения при данных условиях – это взрослый человек весом 35–40 кг, исхудавший до состояния скелета. У людей, дошедших до такого состояния, возрастные границы стираются. Недостача калорий и протеина поражает в равной степени мускулатуру и кожу. Кожа становится неэластичной, сухой и серой. Малейшие повреждения нагнаиваются. Волосы и ногти почти не растут. Губы и полость рта становятся сухими и покрываются струпьями, однако без признаков авитаминоза.
Характерные черты такого человека – сутулость и адинамия (полный упадок сил), его движения – пока он еще может двигаться – характеризуются брадикинезией (замедленность движений). Он ходит медленно, с опущенной головой и согнутыми коленями, волочит ноги и спотыкается на неровностях поверхности. Часто он без всякой на то причины останавливается, роняет предметы. На линейке он валится с ног. Апатия, как уже говорилось, первый признак наступления стадии человека-скелета…
Известно, что выжили 80 политических заключенных (14 %), достигших стадии человека-скелета со всеми ярко выраженными признаками: emaciato (кахексия или исхудание), адинамия (упадок сил) и апатия… Исхудание не является решающим фактором для данного диагноза. Определяющие факторы – потеря сил и в особенности апатия. Для достижения этой стадии достаточно и трех месяцев… Причем большее значение, как и для всех видов недоедания, имеет характер заключения, нежели его продолжительность… В какой-то момент – как правило, внезапно, – человек перестает есть и пить. Диарея продолжается и приводит к прогрессирующей дегидрогенизации, все более заметному день от дня спадению отеков и обнаружению реальной потери веса. Эта конечная стадия человека-скелета есть выражение освобождения в последний момент жизни»23.
САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ во многом способствовали ухудшению положения заключенных. И если ослабление организма в результате недоедания приводило к разрушению сопротивляемости, то отсутствие гигиены нередко способствовало заражению в местах мелких порезов и царапин.
«Наши мучения начались очень скоро», пишет Лисе Бёрсум. «Прежде всего, мы стерли себе ноги деревянными башмаками, на ногах образовались ранки, в которые проникала инфекция. Любая ссадина или царапина на пальцах кончалась воспалением… У Сулу и у меня было множество воспалений, у каждой из нас был кусочек бинта, который мы стирали каждый вечер и в мокром виде снова завязывали»24.
Все очень страдали от вшей. Вот что пишет Лисе Бёрсум:
«Из-за множества блох мы не сразу осознали, что стали также и жертвами вшей. Как-то в воскресенье к нам зашла Ракель, встала в прачечной и начала проверять нас на наличие вшей. Большинство согласилось на проверку. На мне в тот день был красивый белый шерстяной свитер. В этом свитере она нашла семерых… В тот же вечер я нашла в том же свитере еще шесть штук… Постепенно поиск вшей стал для нас важнее мытья и занимал почти все свободное время… Нам, обитавшим в третьем бараке, найти вшей было нетрудно, так как у нас была лампочка. Затем к нам стали заходить соседи, и каждый вечер у нас собиралось небольшое общество искателей вшей. Пока мы ели, вокруг нас сидели раздетые догола женщины и обыскивали свою одежду… А еще нам досаждала сильная чесотка, которая появлялась у всех рано или поздно… Болячки были общими. Начинались абсцессы. У Ингрид и Мари постоянно возникали большие нарывы. Мы даже думали, что это зараза, потому что они спали в одной постели. У Астрид вскоре появились ужасные раны на ногах…»25.
В датском исследовании о тех же болячках написано следующее:
«Отсутствие гигиены и частые травмы приводили к многочисленным кожным инфекциям, прежде всего на месте укусов паразитов, ранок от плохой обуви и инфекционным нагноениям. Так, в лагере Хусум из тысячи содержащихся там заключенных в ноябре 1944 г. не менее 470 „лечились“ от различных ран, причем у 242 из них были абсцессы или флегмоны (гнойные нарывы)… Флегмоны в значительной степени способствовали повышению смертности в концлагерях. Они редко вызывали температуру или метастазы, затрагивали в основном нижние конечности, распространяясь от ран на подошве вверх по отечной ткани, и часто охватывали всю ногу. При разрезе вытекало несколько литров отечной жидкости. Половина больных, выживших после флегмоны, одновременно имели также и ярко выраженные отеки»26.
Встречался и ряд других инфекционных заболеваний. Так, 13 % заключенных датчан заболели желтухой, и у многих была скарлатина. Эпидемии сыпного тифа унесли жизни огромного количества заключенных. Из 60 тысяч заключенных лагеря Дахау в период с января по март 1945 г. умерло 11 300. Как следует из датского исследования, 75 % из них умерло от сыпного тифа27.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ. Этот фактор зависел от места расположения лагеря. В некоторых местах жара и недостаток воды в значительной степени усиливали страдания заключенных. В других местах наибольшую опасность представляли холод и заморозки. Тысячи заключенных замерзли насмерть во время многочисленных перевозок.
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ. В качестве иллюстрации приведем отрывок из дневника Одда Нансена, датированный 12.2.1945 г.:
«Но самое страшное было то, что беспрестанно на них обрушивались удары резиновых дубинок. Молодые парни SAW28 колотили их изо всех сил. Кровоточили лицо, руки, ноги. Большинство заключенных были босые, одеты в отрепья, а сквозь дыры в одежде просвечивали тяжелые раны от ударов… Жертвы побоев валились на землю десятками, однако нацистских молодчиков это лишь вдохновляло, и они продолжали колотить лежачих и пинать их ногами. У заключенных кровь лилась изо рта, из ран и ушей»29.
Психическое воздействие
Арест и пребывание в концлагере воздействовали и на психику заключенных. Для наших целей упомянем и проанализируем лишь наиболее «видные» и «заметные» изменения. Анализ проведем с нескольких точек зрения. Мы посмотрим, как заключенные реагировали на различной степени тяжести истязания и экстремальные ситуации, рассмотрим отдельные психические изменения, которые были характерны, по-видимому, для большинства узников концлагерей, а также попытаемся проследить, как реагировали на события заключенные из разных мест и с различной биографией. В самом конце рассмотрим психическое воздействие на человека в стадии человека-скелета. Все эти процессы, разумеется, тесно связаны, и материал разделяется нами на различные категории лишь с целью анализа.
Трагедия и обыденность
Бруно Беттельгейм отмечает и основательно исследует одно своеобразное различие в реакции заключенных на различные степени издевательств или экстремальные ситуации. Создается впечатление, что заключенные гораздо больше возмущались и даже приходили в ярость от довольно незначительных оскорблений, чем от серьезных истязаний и совершенно экстремальных ситуаций, как например, массовые казни. Охранник, давший оплеуху заключенному, ударивший или обругавший его, вызывал большую ненависть, чем охранник, нанесший ему тяжелую рану, подчеркивает Беттельгейм. Об этом свидетельствуют также и сны:
«У многих агрессия против гестаповцев находит свое выражение в снах, когда заключенный во сне мстит им. Интересно отметить, что причиной мести заключенного – если оказывалось возможным найти определенную причину, – чаще всего было какое-то маленькое издевательство и никогда не чрезвычайное переживание. Автор записей… с удивлением обнаружил, что наиболее шокирующий опыт не попал в сны. Он спрашивал многих заключенных, не снился ли им транспорт, и не оказалось ни одного, кому это приснилось. Отдельные гестаповцы, совершившие незначительные прегрешения, вызывали гораздо более глубокую и сильную агрессию, чем те из них, кто проявил особую жестокость»30.
Причина такой различной реакции на трагичные и обычные события заключается, по мнению Беттельгейма, в следующем: События, которые могли бы вписаться в нормальный опыт заключенных, то есть в их прежний жизненный опыт, вызывали обычную, вполне нормальную реакцию. На эти события они реагировали так же, как бы сделали это в своей жизни на свободе. Когда же событие полностью выходило за рамки их прежнего жизненного опыта, то есть было не только более оскорбительным, а чем-то совершенно новым и немыслимым, то заключенные реагировали по-иному.
Нам нет необходимости размышлять о том, правильно ли Беттельгейм объясняет причину различной реакции. Для нас важно само указание на различия в реакции, а верно ли его объяснение, не имеет значения. Следует отметить, что, согласно Беттельгейму, после длительного пребывания в концлагере разница в реакции исчезала.
Инфантильность
Долговременное пребывание в концентрационном лагере вызывало, очевидно, у очень многих заключенных регрессию к более инфантильному поведению. Здесь Бруно Беттельгейм использует тот же самый принцип для объяснения, как и выше – с заключенными обходились как с детьми, и поэтому они возвращались к инфантильной реакции. Однако и здесь важно изложить само наблюдение:
«Уже указывалось на то, что даже во время транспорта заключенных мучали так же, как жестокий и деспотичный отец мог бы мучить беспомощного ребенка. Следует также добавить, что заключенных подвергали унижению с помощью методов, характерных для ситуаций с детьми. Зачастую им ничего больше не оставалось, как наделать в штаны. В лагере процесс испражнения и мочеиспускания строго регулировался. Этот процесс был одним из важнейших событий и довольно подробно дискутировался. Если кому-то из заключенных надо было в туалет в течение дня, они должны были спрашивать разрешения охранника. Создавалось впечатление, что обучение правилам туалетной гигиены повторяется еще раз. Видимо, охранники забавлялись и упивались своей властью давать или не давать разрешение на посещение уборной… Заключенные жили, как дети, в моментальном настоящем. Они как бы не ощущали хода времени и не были в состоянии планировать свое будущее. Они не могли отказаться от моментального удовлетворения потребностей, чтобы получить более сильное удовлетворение позднее. Они были не в состоянии устанавливать продолжительные отношения. Дружба возникала так же быстро, как и исчезала. Подобно подросткам, заключенные дрались друг с другом, говорили, что больше не хотят видеть друг друга или разговаривать друг с другом, а через минуту вновь были закадычными друзьями. Они хвастались, рассказывали истории о своих достижениях в прежней жизни, о том, как им удалось обмануть начальников или охранников, или как они прогуливали работу. Подобно детям, они нисколько не стыдились, когда оказывалось, что они соврали о своих подвигах»31.
Бруно Беттельгейм пишет также, в чем он видит связь между этим пунктом и различной реакцией на «пустяки, обыденность и трагедии»:
«… Создается впечатление, что когда заключенного ругали, били и изводили „как ребенка“, а он, подобно ребенку, не был в состоянии защищаться, то данная ситуация способствовала пробуждению у него образцов поведения и психологических механизмов, характерных для ребенка. Подобно ребенку, он был не в состоянии связать обращение, которому подвергался, с гестапо в целом и ненавидел отдельных гестаповцев. Он кричал „уж я ему покажу“, хотя сам прекрасно знал, что это невозможно. Он не мог выработать объективной оценки, которая позволила бы ему рассматривать свои страдания как незначительные по сравнению с другими переживаниями»32.
В статье «Some aspect of concentration camp psychology» («Некоторые аспекты психологии заключенных концлагеря») Пол Фридман отмечает, что инфантильная зависимость оставалась характерной чертой заключенных в течение долгого времени после их освобождения33. Лисе Бёрсум также затрагивает эту тему:
«Все это действовало на нас подобным образом. Все люди, весь шум и крик, передергивания плечами и отрывистые движения. Когда мы вышли из бани, то почувствовали себя как бы голыми и беззащитными. Я не знаю, было ли это ощущение у остальных, но я чувствовала себя неуверенно, как будто снова стала школьницей, глупой, некрасивой и несчастной. Все надо мной смеялись и издевались, а я попадалась на удочку. Как будто вся уверенность, которой я добилась в течение всей жизни, вдруг исчезла, и я осталась стоять ненакрашенной и раздетой. Одежду у меня отобрали, надели униформу с нашитым номером. Куда-то пропали мои знания немецкого языка, и я не могла связать и двух слов. Когда меня спрашивали, я не могла дать ясный ответ. Возможно, то была реакция на содержание в битком набитой камере. У меня будто крыша поехала, и я побила все рекорды, теряя самые важные вещи – зубную щетку, мыло, мочалку и полотенце. Впрочем, другие тоже на это жаловались»34.
Следующий пассаж из статьи Бруно Беттельгейма подтверждает предположение о том, что подобная регрессия не была единичным случаем, а поразила многих. Вот что он пишет:
«Автор выдвигает мнение о том, – частично основанное на самонаблюдении, частично на беседах с некоторыми другими узниками, осознавшими, что с ними происходит, – что подобная регрессия не могла бы произойти, если бы она не поразила всех узников. Заключенные не посвящали друг друга в свои грёзы и мечтания или семейные дела, просто одни заключенные утверждались как группа, противостоящая другой группе – людей, протестовавших против отклонения от нормального поведения взрослого человека. Тех, кто не хотел впадать в инфантильную зависимость от охранников, обвиняли в том, что они есть угроза общей безопасности. Это обвинение не было беспочвенным, ибо за непослушание отдельных членов гестапо наказывало обычно всю группу. Поэтому регрессия к инфантильному поведению была неизбежна и более вероятна, чем другие типы поведения, навязываемые заключенным жизненными условиями лагеря»35.
Психоаналитик Эдит Якобсон утверждает то же самое:
«Внезапно и совершенно неожиданно человек воспринимает самого себя всеми покинутым, он чувствует себя маленьким беспомощным ребенком, который цепляется за остатки своего Я, чтобы бежать от угрожающих примитивных реакций. Неизбежно происходит частичная или более обширная регрессия к ранней инфантильной стадии развития. Генитальная организация рушится, и у всех заключенных в первые дни содержания в тюрьме происходит прорыв анального или особенно орального импульсов… Унизительное обращение, тот факт, что у тебя отобрали все твои личные вещи, особенно очки, усиливает ощущение страха и ускоряет регрессивные процессы… В первый день заключения некоторые женщины беспрестанно плакали по своим матерям, другие взывали к своим покинутым детям, зачастую явно не осознавая трансформацию собственного инфантильного желания получить защиту…»36.
Как считает Якобсон, охранники способствовали обострению такого развития:
«Об этой женщине-капитане были наслышаны во всех тюрьмах, она прослыла маньячкой и садисткой с дурацким стремлением все время разговаривать. Она отличалась двойственным отношением к заключенным. Своим тираническим поведением она доводила их до отчаяния, и в то же время относилась к ним как к „детям, забота о которых на нее возложена“. Она постоянно заступалась за них, как будто думала, что они подвергаются несправедливому обращению со стороны других. Ее отношение к заключенным напоминало отношение матери-тирана, стремившейся доминировать над детьми, и эта черта за долгие годы работы стала характерной чертой ее личности»37.
Некоторая регрессия к инфантильности наблюдалась, по-видимому, даже у заключенных, живущих в относительно благополучных материальных условиях. Так, Одд Нансен, находившийся в 1942 г. в лагере в Северной Норвегии в сравнительно хороших материальных условиях, писал в своем дневнике следующее:
«… Некоторые недовольны порученной им работой: они смотрят на тех, у кого работа легче, и их охватывает зависть. Иного не дано. Почему у него это есть, а у меня нет? Они совсем как малые дети. Даже те, которым уже за шестьдесят. Кто-то недоволен своей койкой – у других койки лучше, а к тому же, у других одеяла и простыни лучше.
Все жалуются старшему по бараку. Я проклинаю свою работу много раз в день. А ведь я считал себя таким терпеливым. Оказалось, что это не так. Как-то нам выделили несколько дополнительных шерстяных одеял, и мы отдали их тем, кому за пятьдесят, исходя из практических соображений. Тут же раздалось недовольное бурчание, послышались крики и вопли, посыпались оскорбления. Все это выплескивалось на старшего по бараку. А еще надо было придумывать что-то для организации досуга – игры и состязания, какие обычно устраивают для детей, когда их много и надо их чем-то занять, чтобы они ничего не натворили»38.
Защитные механизмы
«Теперь нами овладел инстинкт самосохранения. Мы научились смотреть на страдания других, не реагируя. Мы спокойно ели свою еду, не обращая внимания на жадные и голодные глаза, устремленные на нас. Как-то ночью я пошла в туалет и переступила там через человека, лежащего без сознания. Я и пальцем не пошевелила, чтобы помочь. Мы до того очерствели, что на линейке спокойно смотрели на тех, кто падал навзничь. Видимо, только так можно было поддерживать себя».
Эта цитата из воспоминаний Лисе Бёрсум39 наводит нас на мысль о другой стороне проблемы. Люди пытались защититься – как физически, так и морально, – и результатом стали формы реакции, совершенно необычные для жизни вне концлагеря. Надо было как-то приспосабливаться, найти Normalität des Abnormalen40. А это выражалось двояко: человек становился апатичным, а с другой стороны, достигал высокой степени эгоизма или, во всяком случае, группового эгоизма.
Безразличие
«Концлагерь давил на души своих жертв как мельничный жернов. Как можно остаться невредимым в подобных условиях? Никто не оставался таким, как прежде. Изменение душевного состояния ни в коей мере не означало изменение соотношения ценностей добра и зла, было и то, и другое. Главным характерным признаком становилась примитивизация ощущений. Разнообразие оттенков чувств почти автоматически исчезало. Душа создавала себе защитную скорлупу, своего рода панцирь, куда больше не проникали сильные чувства. Боль, сострадание, печаль, страх, ужас, одобрение – все эти чувства в своей обычной непосредственности взорвали бы восприимчивость человеческого сердца: ужас, подстерегающий тебя везде, без труда привел бы к его остановке. Кто-то становился жестким, многие отупевали. Это был такой же процесс, как и во время войны. Варварский смех и зверский анекдот были часто ничем иным, как защитным средством для людей, души которых подвергались угрозе помрачения сознания или истерии»41.
Одд Нансен пишет на ту же тему:
«Когда мы построились, чтобы маршировать на плацу с виселицой, меня поразило, до чего мы стали бесчувственными. Вот мы стоим – более четырехсот норвежцев (наш барак) – и сейчас будем смотреть, как вешают одного из заключенных. Можно было бы предположить, что в такой момент у всех будут серьезные лица, что даже будет царить гнетущее молчание! Не тут-то было! Мы оказались в шумной толпе смеющихся мужчин и подростков, которые чертыхались, сталкиваясь в тесноте или наступая друг другу на ноги. Всеобщее оживление казалось неприличным по отношению к одному человеку, стоявшему позади и украдкой курившему, готовому через некоторое время прошествовать к виселице. Здесь даже во время самой казни не наблюдалось угнетенного настроения. „Műtzen ab“ (Шапки долой – нем.) – во время чтения приговора и перевода его на несколько языков. „Műtzen auf“ (Шапки одеть – нем.) – когда палач приступает к работе. Осужденный насмерть не достоин, чтобы товарищи почтили его смерть обнажив головы! Наконец мы можем вернуться в наш барак – к еде и нашим делишкам. И толпа равнодушно бредет обратно. Мало кого интересует, кто был повешен и за что. Сейчас важно скорей занять место за столом, чтобы поесть. Или же встретиться с кем-то, у кого договорился купить хорошую куртку или брюки…»42.
Пол Фридман пишет на основе своего опыта наблюдения за заключенными в концентрационном лагере на Кипре:
«Приходилось только удивляться тому, насколько поверхностными были их чувства, и это касалось всех, кто постоянно подвергался опасности, независимо от того, в концлагере или вне его. Эта поверхностность особенно ярко проступала, когда они хладнокровно пересказывали жестокие переживания, как будто речь шла о чем-то совершенно безразличном, произошедшим не с ними, а с другими. Такая модель поведения называется либо безразличием, либо „аффективной анестезией“, как окрестил ее французский психиатр Е. Минковски, и она является, несомненно, результатом сильнейшего вытеснения страха, вытеснения, которое позволило этим людям противостоять множеству ежедневных травматических переживаний» 43.
Ойген Когон приводит описание проведения линейки на плацу: «Сколько мы смеялись на плацу, рассказывая анекдоты про крематорий! По характеру дыма, выходящего из трубы крематория, заключали, кого там сожгли! „Смотри, вон к небесам взметнулся иеговист!“ или „Иностранный легионер никак не может высвободиться из болота земных грехов!“, „Тебя точно так же сожгут!“ или „Ты скоро тоже пролетишь через дымовую трубу!“» – подобные шутки можно было услышать в лагере постоянно44.
Эгоизм был еще одним защитным механизмом. Повсюду царили нужда и бедность. Все голодали и страдали. И каждый заботился о себе или, по крайней мере, о своей группе. Курт Бонди рассказывает о том, что сплоченной группе было легче выжить, приводя пример из жизни лагеря Бухенвальд. Двадцать школьников-подростков были арестованы вместе с преподавателем. К этому моменту они были сплоченной группой. С самого начала они решили, что должны, во что бы то ни стало, сохранить жизнь всех членов группы. И это им удалось. Бонди пишет, что ради этого им пришлось отказаться от особых, чрезвычайно важных для них моральных принципов. Они ясно видели свое положение, в особенности осознавали свою слабость, и это вынудило их к поведению, направленному на осуществление их цели, которая заключалась в том, чтобы все члены группы вышли из лагеря невредимыми. В школе их учили помогать людям и брать на себя ответственность. В лагере им пришлось сознательно ограничить эту ответственность. Они систематически пополняли и организовали свои ресурсы… Каждый из них имел шерстяное одеяло. Это было очень важно, так как дело было в ноябре и бараки не отапливались. Они решили, что никто не должен давать свое одеяло тем, кто не был членом их группы, хотя с помощью даже одного из своих одеял они бы конечно могли спасти жизнь нескольким старым заключенным. Однако они с радостью отдавали свое одеяло членам своей группы, если кто-то заболевал45.
В исследовании, посвященном Миннесотскому эксперименту, приводится цитата из статьи Ф. М. Липскомба46:
«Среди психологических аномалий особенно бросалось в глаза падение моральных устоев. Оно приводило к усилению эгоизма и было более или менее пропорционально степени недоедания. На первой стадии забота о других ограничивалась личными друзьями, затем круг сузился до родителей и детей, а под конец осталось только чувство самосохранения. Эмоциональный отклик постепенно уменьшался и половое самосознание пропадало. В конце концов, исчезло и самоуважение, и единственным интересом заключенных осталось раздобыть себе еду, пусть даже человеческое мясо. У самых голодных притуплялась чувствительность к жестокости и смерти».
Одд Нансен пишет по этому поводу следующее:
«Каждый думает о себе и старается урвать что-то себе, мало кто делится с другими. Норвежец относится к украинцу хуже, чем к собаке. Он знает, что украинец голодает, все это знают, ибо украинцы не получают посылок из дома. Однако он просто об этом не думает, а гонит этого украинца, как отгоняют назойливую муху или букашку. Больше всех попрошайничают русские и украинцы, и это понятно. Для них это вопрос жизни или смерти. Они голодны, а кто не будет унижаться, когда дело обстоит таким образом, что возможно появится шанс выжить. Норвежцы тоже так делали, когда речь шла об их жизни – до того, как они начали получать посылки. За несколько сигарет, которые норвежцы получают больше других, они могут выменять целый рацион хлеба у истосковавшегося по табаку русского или кого-нибудь другого… Некоторые не стесняются торговать объедками от селедки, которые они все равно бы выбросили, и которые подобрали бы доходяги… Неудивительно, что наш друг Альфред с горечью и определенной долей презрения говорил, что норвежцы „хуже армянских евреев“. Это слова иностранца, который в течение длительного времени ежедневно находился вместе с норвежцами и наблюдал их вблизи среди тысяч других заключенных»47.
Ярким контрастом звучит, однако, пассаж из воспоминаний Ханса Каппелена:
«Дружба была потрясающей. Норвежцы помогали друг другу. Весной 1944 я был в очень плохом состоянии… Я буквально умирал с голоду. Мне помог друг, Эрик Клепциг. Он был по профессии каменщиком и получил работу вне лагеря. Каким-то удивительным образом он раздобывал хлеб и иногда другую еду, которую давал своим товарищам, мне в том числе. Тогда это спасло мою жизнь. Если кто-то был на грани гибели, остальные давали ему часть своей порции, и многие спаслись таким образом от неминуемой смерти»48.
Противоречие между высказываниями Каппелена и Нансена возможно кажущееся, поскольку Нансен говорит об отношениях между норвежцами и ненорвежцами, а Каппелен – об отношениях между норвежцами. Ойген Когон указывает на некоторые светлые стороны групповой принадлежности: