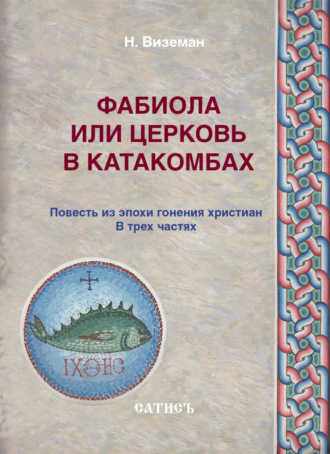
Нил Виземан
Фабиола или Церковь в катакомбах. Повесть из эпохи гонения христиан
III
Самопожертвование
День уже клонился к вечеру. Во время этого разговора незаметно вошла немолодая женщина, она зажгла мраморные светильники, свечи в бронзовых подсвечниках и так же тихо удалилась. Яркий свет от ламп осветил лица матери и сына, все еще находившихся под впечатлением рассказанного; матрона Люцина запечатлела на челе сына горячий поцелуй, в котором заключалось не одно простое чувство материнской любви, но и ее радость и торжество. Конечно, она радовалась не тому, что воспитала сына в такой строгой дисциплине, а тому, что он, подвергшись тяжкому испытанию, перенес его с такой богатырской силой и стойкостью, редкими в таких молодых летах; чувство это можно было назвать высшим чувством матери, представлявшей свое сокровище на удивление римлянам. Да, эта женщина-христианка могла бы похвастаться этим сокровищем, обогатившим церковь, но в эту минуту ей овладела более глубокая мысль, которую она лелеяла в своем сердце многие годы, – мысль, внушенная ей свыше и снизошедшая в самых горячих молитвах матери. Дело в том, что многие благочестивые родители посвящали своих сыновей святому служению и постоянно молились о том, чтобы Господь помог им воспитать своих детей беспорочными Левитами; они следили за их юношескими склонностями и с самоотвержением приносили их в жертву Богу, которому они посвящали их с колыбели. А если этот сын был единственным ребенком, как Самуил был единственным сыном Анны, то приношение в жертву Богу того, что было дорого для сердца матери, действительно можно назвать великим подвигом… Что можно сказать после этого о святых матерях детей-мучеников, о тех женах в древности: Фелицате, Симфорозе или известной матери Маккавеев, которые воспитывали своих детей не для единого возведения их в сан священников, но и для принесения в жертву Богу!
Такие именно мысли овладевали сердцем Люцины в ту самую минуту, когда она с закрытыми глазами возносила свои молитвы к Богу и просила Его о поддержке. Она чувствовала себя способной на самопожертвование и лишение того, что ей было дорого на этом свете; она давно предвидела опасность и желала пожертвовать своим сыном… Но, прежде всего она была человек и любящая мать, которой было не легко решиться на такой подвиг без боли в сердце…
А что происходило в сердце юноши, который так же молчал и призадумался в данную минуту, как и его мать? Не думал ли он о блистательном будущем? Не видел ли он в своем воображении того колоссального храма базилики, который спустя 1500 лет, начал посещаться христианскими археологами и благочестивыми паломниками? Не видел ли он и тех врат, которые теперь называют именем этого святого юноши[6]; не чувствовал ли он, что в недалеком будущем станут сооружать святыни на берегах Темзы, посвященные его имени, – святыни, которые даже после святотатственного уничтожения их, сделаются излюбленным местом усыпальниц правоверных христиан[7]? Нет, он не подозревал о том серебряном ковчеге, весящем 287 фунтов и поставленном на порфирной урне папой Григорием I, в которой должен был храниться его прах; он не думал, что его имя будет записано на страницах деяний мучеников. Нет, он был только невинным ребенком, считающим себя обязанным быть послушным Богу и Его Евангелию. Он чувствовал себя совершенно счастливым, потому что в этот день исполнил свою чрезвычайно трудную обязанность. Он не гордился этим; не удивлялся тому чувству, которое овладело им, иначе победа эта не могла бы считаться полной.
После некоторого молчания он поднял свои глаза на свет, заливавший всю комнату, и встретился с взглядом матери, обращенном к нему с такой любовью, какой он до настоящего времени не замечал. Ее взор казался необыкновенно вдохновенным; лицо похоже было на лицо пророчицы, а глаза – на те, какие он привык представлять себе у ангела.
В виду этого, молодой человек, молча, встал перед матерью на колени; он видел того духа, который парил над нею и охранял ее от всякого зла; видел в ней то неземное существо, которое руководило его добродетелью… Но вот, Люцина прервала тягостное молчание и серьезно сказала:
– Наконец, настало то время, мое дитя, которое служило предметом усиленных молитв и горячих желаний твоей матери. Я давно замечала в тебе зародыш христианской добродетели и благодарила за нее Бога. Я видела твои труды, благочестие, любовь к Богу и людям; смотрела с радостью на твою живую веру, равнодушие к внешнему виду, благородное чувство к бедным; я с беспокойством ожидала того момента, который бы решительно указал мне на твое желание идти по следам твоей матери и быть достойным наследником славы твоего отца-мученика, и эта минута, слава Богу, сегодня настала.
– Что же я сделал достойного, моя дорогая мама, что у тебя явилось такое высокое мнение обо мне? – спросил Панкратий.
– Послушай, мой сын, сегодня, когда заканчивается твое воспитание, мне кажется, что Господь хотел просветить тебя тем святым учением, которое стоит выше всяких школьных наук и доказать этим, что ты перестал быть ребенком; поэтому, не должен ли ты, мое дорогое дитя, имея такие способности, думать, говорить и делать так, как это делают истинные служители Церкви?
– Что ты хочешь этим сказать, дорогая мать?
– То, что ты сказал мне сегодня о своем сочинении, доказывает, насколько твое сердце было преисполнено благородных и высоких чувств; ты чрезвычайно откровенно высказал, что умереть за веру считаешь своею святою обязанностью. Если бы у тебя не было веры и отваги…
– Действительно, я сильно верую и много чувствую, – прервал ее юноша, – и поэтому заключаю, что никакое счастье на земле не может быть выше этого.
– Да, дитя мое, – сказала мать, – ты прав, но я бы не помирилась на одних твоих словах, если бы ты не доказал того, что ты умеешь отважно и терпеливо переносить не только боль сердца, но и обиду, – что гораздо труднее для человека, в жилах которого течет кровь патриция, – обиду, заключающуюся в оскорбительной пощечине и презрительных взглядах твоих сотоварищей. Более… ты оказался настолько сильным, чтобы простить и молиться за своего врага. Сегодня, с тяжелым крестом на плечах, ты проторил себе такую тропинку, на которой, сделав еще несколько шагов, ты водрузишь этот крест на вершине своего величия. Ты оказался достойным сыном мученика Квинтиниана, но желаешь ли ты идти далее по его следам?
– Ах, дорогая мама! – прервал ее юноша замирающим голосом, – могу ли я быть его достойным сыном, не подражая ему! Хотя я не имел счастья знать своего отца, но разве его память не дорога мне? Разве его слава не льстит моему самолюбию? Когда церковь каждый год празднует память Квинтиниана, разве душа моя не возвышается и сердце не восхваляет его? О, мать моя, как я всегда молюсь ему, чтобы он испросил мне у Бога не славы, не почестей, не богатства и земных радостей, но того, что он проповедовал и ценил выше всего, то есть, чтобы то, что он оставил мне в наследство, было употреблено мною с пользой для самого себя и для других самым благородным образом.
– Что ты под этим подразумеваешь, мой сын?
– Кровь его, – отвечал юноша, – которая течет в моих жилах. Наверно, он желает, чтобы эта кровь, как ровно и та, что текла в его жилах, была пролита из любви к нашему Спасителю и свидетельствовала о моей вере во Всемогущего Бога.
– Довольно, довольно, мой сын! – воскликнула мать, задрожав и бледнея. – Теперь сними с шеи эту эмблему детства, – прибавила она, – и я возложу на тебя более достойную.
Панкратий снял с шеи золотую буллу.
– Ты получил в наследие от отца благородное имя, высокое положение в свете и немало богатства, словом, все блага нынешнего света, но из всего этого наследства у меня есть сокровище, которое я сохраняла до настоящей минуты… Эта драгоценность дороже злата и всех других сокровищ, я всегда скрывала ее перед тобой. Но теперь я радуюсь, что, наконец, кончилось мое долгое ожидание. С этими словами она сняла с шеи золотую цепь, и в первый раз ее сын увидел маленький мешочек, богато вышитый драгоценными каменьями, который Люцина развязала и вынула из него губку, пропитанную кровью.
– Это кровь твоего отца, Панкратий, – сказала она подавленным голосом, и на ее глаза навернулись слезы, – я сама собрала ее со смертельной раны его, когда стояла подле него переодетой и видела его умирающим за веру Христову.
При этом римская матрона начала осматривать дорогую реликвию и, горячо поцеловав ее, между тем, как обильные слезы потекли на засохшую губку и размочили кровь, которая заблистала пурпуром на ней, словно только что вытекла из тела мученика. Благочестивая женщина приложила губку к дрожащим устам сына для поцелуя. Панкратий с благоговением приложился к ней устами, которые окрасились кровью; в этом прикосновении, быть может, он почувствовал дух отца, витавший над ним и нисходивший в глубину его сердца, преисполненного благоговением; ему казалось, что оно готово было выпрыгнуть наружу. В эту тяжелую минуту воспоминаний, отец, мать и сын как бы соединились для новой жизни. Люциана спрятала драгоценную реликвию обратно в мешочек и, повесив на грудь сына сказала:
– Пусть эта драгоценность увлажнится в будущем святою росою мученичества, но не слезами слабой женщины…
Однако, Господь судил иначе: будущий воин Христа и будущий мученик освящен кровью отца, смешанной со слезами матери.
IV
Дом язычника
В то время, когда происходили эти сцены, описанные нами в первых трех главах, сцены другого рода происходили в доме, находившемся между Квириналом и Эсквилином. Владелец этого дома, Фабий, принадлежал к древнему роду всадников; родственники его, владевшие и пользовавшиеся доходами азиатских провинций, обогатили его. Дом его был красивее и лучше того, который мы посетили: он заключал в себе третью большую переднюю или, иначе, перистиль или двор, окруженный громадными зданиями. Кроме разных драгоценностей европейского искусства, всюду виднелись самые редкие восточные изделия; полы были украшены персидскими коврами и шелковыми китайскими разноцветными материями; индийское золотое шитье украшало фригийскую мебель. Редкие изделия из слоновой кости и металлов, происхождение которых приписывали жителям за индийского океана, имевшие сказочные названия и уродливую форму, небрежно разбросаны были по комнате. Сам Фабий, обладатель этих сокровищ, был истинным образцом легкомысленного римлянина, главная цель жизни которого заключалась в роскоши. В сущности, он никогда не помышлял о другой жизни; хотя он не верил в бедность, но между тем уважал каждого бедняка, подвертывающегося ему под руку; его считали хорошим человеком, как и многих других, но никто не имел права требовать от него невозможного. Большую часть дня он проводил в одной из больших бань, которая кроме прямого своего назначения присоединяла к себе различные прилегающие к ней здания, в свою очередь включавшие клубы, читальни и места, предназначенные для гимнастических упражнений и разных игр. В этой бане он купался, разговаривал, читал, словом, проводил все свободное время. Ради того же препровождения времени, он уходил иногда в форум с целью послушать там какого-нибудь оратора или же ходил в какой-нибудь из общественных садов, где собирался римский бомонд, затем возвращался домой на пышный ужин намного позже нашего обеда, который ел в обществе гостей, нарочно приглашенных во время своих прогулок. У себя дома Фабий был очень искренним и добрым господином, он обладал массой невольников и, так как он ненавидел хлопоты по хозяйству, то охотно поручал эти хлопоты своему управляющему. Вопреки существовавшему обычаю на обедах у него всегда присутствовала одна особа, пользующаяся всей пышностью его богатой обстановки и считавшаяся единственной наследницей его богатства.
В виду только что сказанного, нелишним считаем познакомить с нею наших читателей. Особа эта была дочерью Фабия, называвшаяся, согласно римскому обычаю, сокращенным именем отца – Фабиолой.
Следуя прежнему примеру, мы попросим читателя взойти по мраморной лестнице с другого двора в ее помещение.

Квиринальский дворец на холме. Из серии «Семь холмов Рима, древних и современных». 1827. Офорт Луиджи Россини
По обеим сторонам этого двора находился длинный ряд комнат, вход в которые был украшен видом стройного фонтана и множеством прекрасных цветов, выписанных нарочно из-за границы. В этих комнатах было нагромождено все, что только могло быть прекрасного и хорошего в римском и иностранном искусствах. Любовь ко всему изящному, шедшая рука об руку с богатством и некоторыми особенностями, свидетельствовала о разнообразии вкуса их обладательницы.
В данную минуту приближался вечерний час. Обладательница этого прекрасного уголка приготовлялась к торжественному приему; Фабиола лежала на софе афинской работы, украшенной серебром и стоявшей в комнате, устроенной в мавританском вкусе; вместо окон, стеклянная дверь пропускала в нее свет с разубранного крыльца. На противоположной от софы стенке висело зеркало в серебряной шлифованной раме, в котором отражалась вся ее фигура. На порфировом столе, подле зеркала, лежали различные косметики и духи, эти необходимые принадлежности римлянок, на которые они тратили громадные суммы[8].
На втором столе из индийского сандала мы видим разные драгоценности, лежавшие в шкатулках и приготовленные для ежедневного использования.
Мы не намерены описывать лица этой римлянки, но, не отказываясь иметь дело с ее душевным настроением, заметим только мимоходом, что Фабиола, двадцатилетняя девушка, ни в чем не уступала по своей наружности всем римлянкам; у нее было много обожателей, ухаживающих за нею и старавшихся овладеть ее рукой и сердцем. По уму она не много отличалась от своего отца; Фабиола была горда, высокомерная и раздражительная, она царствовала, как монархиня и повелевала всеми, кто ее окружал, с небольшим изъятием для некоторых, и от всех требовала уважения. Будучи единственной дочерью, лишившейся своей матери при самом рождении, она была воспитана своим благодушным и легкомысленным отцом, окружена лучшими учителями и, обладая различными талантами, требовала удовлетворения своих прихотей. Она не понимала, что значит отказать себе в каком-нибудь желании. Будучи вполне независимой, она читала ученые и философские книги римских и греческих писателей, вследствие чего сделалась настоящей философкой. Эта ярая поклонница эпикуреизма, который долгое время царствовал в Риме, считала чем-то постыдным христианскую веру, о которой она не имела ни малейшего понятия. Презрение к христианам не дозволяло ей думать о попирании ногами этой веры и, хотя она презирала и язычников, о которых ей рассказывали с различными комментариями, но, тем не менее, соглашалась с некоторыми языческими обычаями.
Фабиола не верила в бессмертие и поэтому вела жизнь роскошную, но ее гордость и высокомерие служили ей щитом к добродетели; она презирала свое языческое общество и пренебрегала легкомысленной молодежью, смешившей ее. Вследствие этого все считали холодной и самолюбивой, но с нравственной точки зрения она была совершенно безукоризненна…
Если мы с самого начала вдаемся в обширные описания, то, как увидит читатель, эти описания необходимы нам для того, чтобы дать ясное представление о материальном и общественном положении Рима в данную эпоху. Характер этой картины хотя и показывает время упадка и испорченности, но она не покажется нам абсурдом, если мы подумаем, что 302-й год так далек от настоящего времени, как царствование Антонина до нашей эры или времени Целинов, Рафаэлей, Донателлов и т. п. Между тем, здания римлян и до настоящего времени переполнены деяниями этих великих людей; они давно уже оценены, но, к сожалению, никто еще их не изучил, то же самое можно сказать и о домах, принадлежавших древним богатым римским фамилиям.
Итак, мы застаем Фабиолу лежащей на софе с серебряным зеркалом в одной руке и с маленьким кинжалом в другой. Ручка этого кинжала была сделана из слоновой кости с кольцом, приделанным для держания его на пальце.
Это было излюбленное оружие римских женщин, употреблявших его для наказания своих невольниц, служившее им в минуту раздражения ужасным орудием варварства. В эту минуту ее окружали три невольницы, родившиеся в разных странах и купленные по высокой цене не ради одной наружной их красоты, но потому, что они обладали разными талантами. Одна из них была совершенно черная, она принадлежала к одной из тех рас, как например, абиссинская или нумидийская, черты которых так правильны и аккуратны, как у азиатских народов. Знание ее заключалось в том, что она приготовляла различные косметики, как равно и средства, имевшие убийственный характер. По названию той страны, где она родилась, ее звали Афрой. Вторая невольница была гречанка; она была куплена только потому, что умела хорошо одевать свою госпожу и прекрасно говорить. Ее звали Граей. Имя третьей невольницы – Сира, что доказывает ее азиатское происхождение. Она была куплена за свое знание разных работ и прилежание; работы ее заключались в самых вычурных вышивках гладью. Сира была очень тиха, скромна, спокойна и совершенно предана своим обязанностям. Две первые – трещотки, любившие хвастаться исполнением своих мельчайших услуг. Они ежеминутно льстят своей повелительнице, передают приятные для ее слуха и красоты слова ее обожателей, заискивающих ее расположения с целью получить ее руку, но больше всего они говорили о тех, кто лучше платил им.
– Как бы я была счастлива, моя благородная госпожа, – сказала черная невольница, – если бы могла сегодня присутствовать сегодня вечером в триклине[9] и видеть то впечатление, которое производит на гостей новая краска. Я много трудилась над усовершенствованием этой стабии[10] и убеждена, что еще никто в Риме не видел ничего подобного.
– Что касается меня, – прервала шустрая гречанка, – я не осмелилась бы желать такого счастья; для меня было бы достаточно видеть из-за дверей, как хорошо будет сидеть эта чудесная шелковая туника, выписанная из Азии за посланное туда золото. Ничего не может быть прекраснее ее; вместе с тем, не могу не заметить, что и работа этого платья, по-моему, нисколько не уступает самой материи.
– Ну, а ты, Сира, – с иронической улыбкой отозвалась госпожа, – чего бы ты желала или чем ты хочешь похвастаться?
– Я ничего не желаю, благородная повелительница, кроме твоего счастья и хвастаться не могу, так как чувствую, что ничего не сделала выше моих способностей.
Это был ответ покорной и искренней невольницы, однако, он не понравился Фабиоле.
– Мне кажется, невольница, – сказала она, – что ты больше всех любишь хвастаться и только в редких случаях ты говоришь мне приятные слова.
– Да что стоит похвала, выраженная моими устами, – возразила Сира, – устами бедной слуги для благородной повелительницы, привыкшей слушать целый день только приятные и цветистые речи. Ведь ты не веришь похвалам, которые произносят достойнейшие люди и пренебрегаешь теми, которые исходят из наших уст.
Две другие невольницы пронзили Сиру ненавистными взглядами; в свою очередь и Фабиола раздражилась этими словами, так как они показались ей дерзостью невольницы.
– Неужели ты хочешь, чтобы я напомнила тебе, сказала она сурово, – что ты моя невольница и и куплена, чтобы служить мне по моему желанию. Я имею право, как на тебя самое, так и на твои руки и язык и, если мне нравятся твои лесть и слова, то ты должна угождать мне, а нравится ли тебе это или нет – это для меня все равно. Это было бы новостью, если б слуги могли управлять своею волею, в то время, когда даже жизнь невольницы принадлежит ее повелительнице.
– Правда, – покорно, но серьезно ответила Сира, – моя жизнь, как равно и время, здоровье и сила принадлежат тебе; все это ты купила на свое золото, и все это твое, однако, позволь заметить, что есть некоторые вещи, которые принадлежат мне… Это такие сокровища, которые нельзя ни купить за деньги, ни заковать в цепи невольника, ни ограничить его права.
– Это что же такое?
– Душа.
– Душа?! – воскликнула с удивлением Фабиола. Она никогда не слыхала и не допускала, чтобы невольница осмеливалась говорить о такой собственности. – Позволь же мне спросить тебя, что же ты понимаешь под словом «душа»?
– Я не умею говорить языком философии, – ответила невольница, – но я говорю о том внутреннем существе, которое дает мне повод чувствовать мое собственное существо и считать его лучшим из тех, которые окружают меня, но сами не понимают окружающего и даже вздрагивают при мысли о существовании того духа, о котором не имеют никакого представления. Пока живет во мне этот дух, – а он никогда не умрет и гнушается лжи, – я всегда должна быть и буду искренней.
Две другие невольницы ничего не поняли из этих слов и только остолбенели от показавшейся им дерзости их подруги. Фабиола тоже смешалась, но скоро пришла в себя и с нетерпением сказала:
– Кто тебя научил подобным глупостям? Что касается меня, я много думала над этим и пришла к заключению, что все духовные мысли о внутреннем существе не более, как мечта поэтов или софистов, а ты, невежественная невольница, хочешь быть умнее своей повелительницы и мечтаешь, что после смерти, когда твое тело будет брошено вместе с телами другой прислуги, околевшей под кнутом или сгорит на одном из костров, а потом, когда пепел, смешанный с землею будет зарыт в одном гробу, – ты думаешь, что не перестанешь жить и будешь независима и счастлива?
«Non omnis morjar», – говорит один из великих поэтов, – скромно отвечала невольница, хотя взгляд ее пылал огнем, удивившим гордую римлянку. – Надеюсь, даже более, я убеждена, что переживу все это, а тем более верую, что за этой могилой, так эффектно обрисованной тобой, сказывается рука Провидения, которая сохранит каждую порошинку моего тела. Кроме того, есть еще одно существо, могущее призвать все четыре небесные ветра и приказать им собрать порошинки моих костей, разметанные вами, и я, в свое время, восстану в том же самом теле, но не для того, чтобы быть опять твоей или чьей-нибудь невольницей, но, чтобы пользоваться свободой и счастьем, быть навеки любящей и любимой, и эта надежда глубоко сидит в моем сердце.
– Что за странная и дикая фантазия восточного воображения, – воскликнула Фабиола, – делающая человека неспособным рассуждать о своих обязанностях! Но я постараюсь выяснить этот вопрос. Скажи мне, пожалуйста, в какой школе тебя научили таким несообразностям? Я никогда ничего подобного не читала ни в греческих, ни в латинских книгах.
– В моем собственном крае, в школе, где не знают и не допускают никакой разницы между греком и варваром, между свободным и невольником.
– Как! – воскликнула задетая за живое Фабиола, – и ты, не ожидая этой будущей и воображаемой жизни по смерти, уже хочешь равняться со мною и даже, может быть, считаешь себя выше меня? Скажи мне немедленно, без всяких обиняков, так ли я поняла тебя или нет?
И Фабиола села на софу в нетерпеливом ожидании; за каждым словом спокойного ответа Сиры гнев ее усиливался, волнение увеличивалось, глаза ее словно метали искры.
– Благородная повелительница, – отвечала Сира, – ты стоишь намного выше меня по отношению своего положения в свете, как равно и по отношению к тому, что обогащает и украшает твою жизнь; что же касается красоты твоего тела, твоих жестов и движений, то ты несомненно стоишь выше всякой лести. Что же поэтому значит зависть в таком ничтожном и ничего не значащем существе, как твоя бедная Сира, но если ты приказываешь, я должна повиноваться и отвечать на твои вопросы.
При этом она робко поклонилась, но, заметив повелительный жест Фабиолы, принуждена была продолжить:
– Я обращаюсь к твоему собственному рассудку, – сказала она. – Почему бы бедной невольнице не обладать тою непоколебимою верою, которая внушает ей, что она обладает душой, душой, проникнутой верою в бессмертие, верою, что ее отечество – небо; почему бы эта невольница не могла занимать последнего места между созданиями мыслящими, как те, которые одарены каким-нибудь талантом; почему она не может желать другой жизни и жить, как этот красивый но неразумный певец, трепещущий в этой золоченой клетке без всякой надежды быть когда-нибудь свободным?
Глаза Фабиолы загорелись; она в первый раз в жизни была поставлена в тупик невольницей. В раздражении она схватила правой рукой кинжал и бросила его в спокойно стоявшую невольницу. Сира быстро закрылась рукой и брошенный кинжал вонзился ей в руку. На глазах у Сиры навернулись слезы, так как рана была глубока и из нее ручьем полилась кровь.
Фабиоле вдруг сделалось стыдно за свой порыв и необдуманный поступок в присутствии других невольниц.
– Скорее ступай к Ефросинии, – сказала она Сире, унимавшей кровь платком, – и скажи, чтобы она перевязала рану. Я вовсе не хотела тебя обидеть… Но, подожди минутку, я вознагражу тебя за это.
Она порылась в шкатулке, вынула из нее перстень и сказала:
– Возьми его на память и сегодня вечером можешь не приходить ко мне.
Этой подачкой совесть Фабиолы была совершенно успокоена; драгоценный подарок, данный невольнице, казался ей достаточным вознаграждением за причиненную той обиду.
В следующее воскресенье в церкви Доброго Пастыря, находящейся неподалеку от дома Фабиолы, между подаяниями, которые собирались для нищих, был найден драгоценный смарагдовый перстень. Благочестивый отец Поликарп принял его за дар какой-нибудь богатой римской дамы, но всемогущий Господь, увидевший некогда в Иерусалиме, что брошенный вдовой грош, был ее последней монетой, заметил и здесь, что этот перстень был брошен в кружку невольницей с перевязанной рукой.


