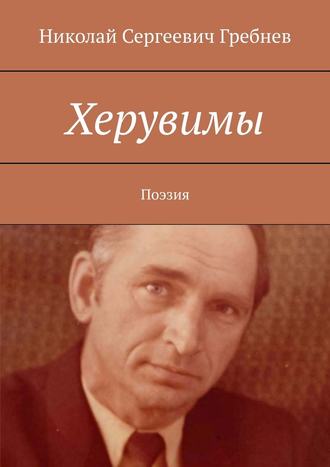
Николай Сергеевич Гребнев
Херувимы. Поэзия
Редактор Игорь Анатольевич Кривов
Редактор Ольга Николаевна Рогулева
© Николай Сергеевич Гребнев, 2018
ISBN 978-5-4474-5196-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Николай Сергеевич Гребнев. Мемуары
Мне 26-го апреля 2007 года стукнет 70 лет. Пора садится за мемуары…
Сегодня 16 марта 2007 года. День солнечный, тёплый. На асфальте дорог уже вода, а во дворах пока ещё белый хрустящий снег. Надо к юбилею черновик набросать. Планирую как бы сборник стихов, с краткими комментариями биографических эпизодов. Освежить в памяти детство, школьные и студенческие годы. Сейчас всё ярче всплывают образы тех лет, тревоги, радости и печали молодости. Если получится живо, волнующе, то назову свой скорбный труд поэмой «Херувимы». Ну что же, в путь! Да, будет удача!
Господи Иисусе Христе! Помоги мне в моей исповеди!
Начну с деда и бабушки. Дед по отцу – Гребнев Алексей Иванович. Это был высокий, плечистый, стройный мужчина. Волос на голове был чёрный, а усы и борода -рыжие. Из крестьян. Жили его родители вроде бы в селе Мухино Вятской губернии.
Дед окончил церковно-приходскую школу и учился даже в гимназии. Но рано осиротел, пришлось бросить учёбу и в свои 15 лет возглавить крестьянское хозяйство, поднимать младших братьев и сестёр. Одному не потянуть, женился. Бабушка (в те годы жгучая брюнетка кавказских кровей) была очень красива и энергична. Помню-то её уже старушкой. К нам, внукам и внучкам, она была добра. Тайком от деда подкармливала нас. А дед был суров. Ни разу в жизни он не дал мне не только сахарку или яблочка, но и сухой корки хлеба: исповедовал суровый закон выживания (дети не мои – не моя забота их кормить). Это было в годы войны, отец наш был на фронте, и младший брат его Иван тоже где-то воевал.
Так вот, дед, Алексей Иванович, был участником двух войн. Он называл их Японской и Германской. Воевал дед отменно. По словам отца моего, он вернулся в деревню «золотопогонником»: грудь в Георгиевских крестах, лихо закрученные усы и длинная раздвоенная борода. Он помогал в волости устанавливать Советскую власть. Был членом волостного Совета.
А когда стали организовывать колхозы, дед в колхоз не пошел и отца моего (тогда уже женатого и с детьми, с отдельным хозяйством) отговорил от вступления в колхоз. Они, что могли, погрузили на две телеги и семьями покатили по Руси бурлящей. Маршрута их я не знаю, занятий тех лет тоже. По рассказам матери, мы жили на высоком берегу Волги в рабочем посёлке «Спиртовый завод» Теньковского района Татарской АССР. Там в местной больничке я и появился на свет. Мать вспоминала, что медсестра понесла меня по палате показывать другим роженицам, приговаривая: «Вот каких детей рожать надо. Двенадцать фунтов!»
Посёлок был недалеко от Казани. Мне из тех лет запомнился эпизод из поездки в этот город. Очень тесно. Я сижу на коленях у матери, а над нами нависают мужчины. В большой давке несколько рук тянутся вверх, ухватившись за скобы-калачи на ремнях.
И ещё эпизод: смотрю в окно – утро седое. Далеко внизу Волга. Лодочка маленькая, чёрная, с красным флагом на шесте, и «тук-тук-тук» – стук мотора. Волга – широкая серая лента воды, а моторка, будто игрушка детская, далеко внизу…
А выше нас (дома, где жили мы) была пекарня. Иногда, случалось, при погрузке хлеба на подводу каравай падал и катился к нашему крыльцу. Нас, ребятишек, у родителей было уже тогда четверо: Ира, Гена, Валя и я. Геннадий был чудный мальчик, сильный, смелый, но, играя на берегу, нашёл какой-то белый камушек, погрыз его и умер, отравившись. Я его не помню. Ира, играя со мной на руках, побежала по комнате, споткнулась, падая, ударила меня спиной о гранёную ножку стола. Я поорал, да этим всё и кончилось. Вроде бы кончилось, да не всё: начал расти горбик. В больнице загипсовали, видимо, слишком туго. Я кричал от невыносимой боли. Отец терпел день, другой, а как-то пришёл подпитый, сжалился надо мной, разбил весь гипсовый кокон, снял его с меня, пошёл на берег и с высоты швырнул его в Волгу. И быть бы мне горбатым, если б не добрые люди. Они научили маму, как выправить горбик, – прогревать в солёной ванне, массировать позвоночник и кормить меня высококалорийной пищей. По рассказу мамы, это были слойки, нечто вроде нынешних тортиков. Я ничего сам не помню, но об этом стихи у меня такие получились:
На Волге
В синем небе гомон чаек,
Сакля на горе видна.
Блики-зайчики качает,
Плещет Волжская волна.
Проплывают пароходы
И шаланды рыбаков.
Просим солнечной погоды
Мы у неба, облаков.
У воды нехитрый лагерь.
Тут лечебные дела:
На жаре, солёной влаги
Мать полванны развела.
Горбуна, меня – уродца,
Посадила прогревать.
Не беда – слеза прольётся:
Меньше соли добавлять.
День за днём катилась Волга,
По песку волной шурша,
День за днём, кажись, без толку
Прогревала малыша.
У любви не будь терпенья,
Будь слеза несолона,
На всю жизнь тогда б мученье —
Видеть сына – горбуна.
Но любовь живёт надеждой.
Дружба мамы и реки,
Гомон чаек, ветер свежий
Разогнули позвонки.
Не сутулым, не горбатым
Я почти нормальным рос.
Лишь стихи мои богаты
Жгучей болью этих слёз.
С той поры люблю я воду,
Чаек радостный полёт.
Голубому небосводу
Гимн душа моя поёт.
Есть и в горе много проку.
Пережив такой урок,
Пуще я зеницы ока
Малышей своих берёг.
Жизнь на Волге
На Волге жизнь родителям нравилась, держали хозяйство. Работа у отца была рядом. На покосы плавали на своей шаланде на острова или на другой, заливной, берег Волги. Ребятишкам было с кем играть. Семьи в те времена были многодетными. Случались казусы из-за многонациональности населения. В небольшом рабочем посёлке жили русские, татары, немцы, марийцы, чуваши, мордва. Дома дети говорили на языке родителей, а в своих детских компаниях все языки смешивались в один клубок: слово по-русски, два по-татарски, тут же вклинивалось немецкое или марийское. Наигравшись в многоречевой компании, дети и дома сыпали языковой путаницей. Но вражды межнациональной не было.
Не прижились мы там по причине климатической. Мать болела часто малярией. Отец выпивал спирт, и малярия не трогала его. Мы, дети, чувствовали себя нормально. Где-то в 40-ом году или пораньше, спасая нашу маму от смерти, переехали в Яранск. Я не знаю про семью деда этого периода, но в Яранске мы жили вместе две семьи, в половине пятистенного деревянного дома рядом с разрушенной часовней у дамбы-тракта, что соединяла город с миром деревень и дальних городов западного направления. Номер дома был 26. Соседи Пироговы. Их дети скоро осиротели. Помнится, их было трое: Нина, Шура и Борис. Они через год или два разлетелись в разные концы. Нина уехала на Дальний Восток, Шура после окончания медицинского училища вышла замуж за раненого, что лечился в Яранске, и уехала с ним в Ленинград. Борис, должно быть, тоже с ними уехал. Свою половину дома они продали, у нас на покупку денег не было. Новые хозяева пустили свою половину на слом. Так мы оказались в огрызке пятистенка. Потом уже дед в одиночку строил вокруг равалюхи-опилыша дом – новый из старого, купленного где-то в деревне. Кстати, после 10-го класса я поехал в Ленинград поступать в институт, и мать мне дала адрес Шуры Пироговой (Вороновой по мужу). Они жили в коммуналке недалеко от Нарвских ворот. В одной комнате ютились они с сыном Витей. Шура была очень отзывчива и меня выручала. Покормит, когда приеду, даст денег взаймы. Вите тогда было лет шесть. А Борис жил недалеко, в другом городе, ближе к Прибалтике.
Наш дом в Яранске окнами выходил на дамбу и на место бывшей часовенки. Вокруг часовенки росли берёзы. Севернее нас, за огородом, проходила улица Никитина по берегу речушки Ламбы. По весне Ламба выходила из берегов и подтапливала наш дом. Приходилось из окна по доске выбираться на дамбу. Половицы плавали по избе, мыши бегали по ним, а мы, малышня, сидели на печи. Эти воспоминания – уже более поздних лет. Разлуку с Волгой переживал я недолго. Первые дни после переселения в этот дом я с утра, прихватив отцовский хромовый сапог, выходил на крылечко и сидел. Соседи спрашивали: «Ты что, Колюнька, всё сидишь тут, не играешь?». «Жду машину, поеду на Волгу». «А сапог тебе зачем?». « Это мой багаж».
Никто не знал, да и я сам, сколько бы пришлось ждать машину, если бы родители однажды не взяли меня в город. Когда проходили по мосту над Яранью, я воскликнул: «Ой, мама! Волга пересохла, и пароходы все ушли!». С этого времени перестал тосковать по Волге. В Яранске жили тоже небольшим хозяйством: огород, корова (другой живности не помню). Мать с нами, четырьмя детьми, и домашним хозяйством занималась. Отец работал то на берегу пильщиком (пилили брёвна на тёс, плахи) или на спиртзаводе. И всё это запечатлевалось в стихах.
Я мальчонка луговой,
Маленький, несмелый.
Над зелёною травой —
Одуванчик белый.
По цветам ползёт пчела.
У ней крылья – льдинки,
Хоботочком начала
Собирать пылинки.
Вижу бабочки полёт —
Белое мельканье.
Огневой петух идёт
Будто на гулянье.
А вдали, в глазах аж боль,
Марево покровом.
Там рассыпана фасоль —
Пёстрые коровы.
Вижу тётеньку. У ней
Наш подойник славный.
Я бегу навстречу ей:
– Мама!
Пью парное молоко.
Чашка расписная.
Так нам в память глубоко
Детство западает.
Знакомство с поэзией
Со стихами впервые познакомился через старших сестёр. Ира и Валя учили школьные задания, а я слушал их декламацию и стихи западали в память, радовали ритмикой, музыкой речи, красотой, силой и мужеством героев. Это было вроде музыкальной сказки. А вот и мой поэтический опыт:
Мы учились в Яранске.
Нас качала Ярань.
На окошке из банки
Полыхала герань.
Сладкий воздух струился
После пламени гроз.
Каждый в рощу влюбился
Белоструйных берёз.
На лугах-изумрудах
Мы тонули в цветах.
Небо – синее чудо
Колыхалось в глазах.
Дикарями плясали
У ночного костра.
Смех и песни звучали
До седого утра.
Сам, теперь поседевший
От невзгод и дорог,
Я в душе оскудевшей
Чувства детства сберёг.
Если трудно бывает,
Утолит жизни гам.
В детство я улетаю
И брожу по лугам.
Наискосок через дамбу-дорогу стоял двухэтажный деревянный дом, обшитый тёсом. На первом этаже семья Подузовых жила – вязальщики, и хозяйство, конечно, держали. У них тоже младшеньким был мальчонка – Венька (как потом я узнал). Матери нас и свели. Отцы наши в 41-ом году на войне оказались. Нам досталась безотцовщина, а моей семье – голод и нищета. Подузовым легче было выжить: дочери старше, огород больше, станки вязальные были, так что тайком подрабатывали. Тайны ремесла хранили свято. Венька (потом выяснилось настоящее имя – Вячеслав, когда в школу пошёл), научившись от своих вязать рыболовные снасти, мне ничего не показал, как это надо делать.
После войны отец построил небольшую избушку под номером 1-а наискосок, через дамбу. Это была большая усадьба Вихаревых, участок сверхнормативный отмерили нам. Было место заливное. Дед Вихарев по краю от реки во всю длину участка посадил тополя, и к моменту нашего переселения на новое место эти тополёвые прутики были уже высокими деревцами.
В 1976 году по воспоминаниям о жизни в той хижине получились такие стихи:
Годы клонят, уводят к закату,
Но всё ярче мне виден восход.
Вижу нашу тесовую хату
В три оконца, себя у ворот.
Волос русый скатался, не чёсан,
Ноги в цыпках и руки черны.
Я задиристый, звонкоголосый,
Как друзья моих лет – пацаны.
Тополя надо мною шумели.
Ой, как много их в тесном ряду.
В белом, в белом, как в снежной метели.
Они были у всех на виду.
Пух летел на луга, на дорогу.
Нежный пух, ты меня волновал.
Был влюблён я в судьбу – недотрогу.
Вдруг (на дамбе) её пред собой увидал.
На лице нежном алые маки.
Карим пламенем плыли глаза.
Даже воздух мне сделался сладким,
Синий бант, развитая коса.
Стыдно стало за вид свой убогий.
Обожгла мои пятки земля.
Уносите скорей меня, ноги!
Защитите меня, тополя!
На вершине под кроной кипучей
Слёзы скрыла листвы кисея.
Имя нежное девочки лучшей
На коре тогда вырезал я.
Был тот случай – сознанья началом.
Тополь видеть мне вновь привелось.
Ураганом вершину сломало.
Не собрать моих русых волос.
Годы клонят, уводят к закату.
Но всё ярче мне виден восход.
Снёс отец нашу старую хату.
Я тоскую у новых ворот.
Школа
В первый класс поступал дважды. Первой учительницей была Елена Николаевна. Очень добрая, милая старушка. Запомнился из одноклассников Лёнька Савин. Рядом со мной, заморышем, босоногим, тихим, невзрачным, он, Лёнька, был крупным, энергичным, дерзким, холёным любимцем окружающих – и взрослых, и детворы.
Пока можно было ходить босым по холоду, я старательно учился в школе. Дошёл до слова «бык». Снег выпал – ученье кончилось. Ни государство, ни одна добрая душа не догадались помочь мне с тёплой обувкой.
Второй учительницей в первом классе и в последующие четыре года была Ефросиния Осиповна. С этим классом я дошёл до аттестата в 1955 году. Интереснее было учиться с 5-го по 10-й класс. Разные учителя, разнообразие предметов. Как-то притёрлись мы, мальчишки, девчонки свыклись, но были теоретиками в своих лирических отношениях.
По воспоминаниям тех школьных лет рождались стихи.
Монастырку засыпало сахаром
И сечёт ледяною пургой,
Но по дамбе шагаю без страха я
После школы с холщовой сумой.
В той суме, что с чернильными пятнами,
Интересную книжку несу.
Илья Муромец подвиги ратные
Совершает в дремучем лесу.
Продираюсь сквозь вьюгу упругую,
Налегаю на ветер плечом.
Тороплюсь к Илье Муромцу другом я
Подсобить и копьём и мечом.
Да вот конь что-то мой спотыкается.
Эх, вы, валенки, дырка к дыре.
Как змеюка портянка болтается,
Но теперь мы уже во дворе.
На печи после скудного ужина
Добиваем с Ильёй татарву,
А сейчас без фантазии кружева
И в достатке я скучно живу.
Нет, не тянет на подвиги ратные.
Сивка – Бурка ко мне не летит.
Та котомка чернильными пятнами
Сиротливо из детства глядит.


