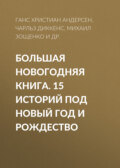Николай Лесков
Борьба за преобладание
Глава четырнадцатая
Авторствующий секретарь пренаивно начинает повесть этой несчастной победы.
«Судьба или, лучше сказать, само Провидение помогло чиновнику за обер-прокурорским столом (Муравьеву) выполнить задуманный им план».
Провидение здесь, как во всех партийных интригах истории греко-восточной церкви, было необходимо, но в высшей степени характерно и любопытно, как оно сюда привлекается и комментируется.
У Нечаева была больная жена, которую отправили «для уврачевания в Крым, но она не получила облегчения». Не выздоровела она, если верить автору, тоже в особых целях провидения, которое томило ее тяжким недугом для того, чтобы принудить Нечаева оставить синод и ехать к жене в Крым, а в это время дать Муравьеву случай распорядиться своими делами. Произошло даже нечто перешедшее необходимость этого повода: «больная не только не обмогалась, но совсем померла», – и Нечаеву нельзя было скоро возвратиться в Петербург. Таковы пути Провидения, обыкновенно неисповедимые для всех людей, исполненных истинного богопочтения, но всегда ясные для пустосвятов, которых суеверная набожность легко доводит до кощунственной смелости, с которою они позволяют себе объединять свои низменные соображения с недосягаемою мудростию Промысла. Умерла женщина, может быть, очень хорошая, и осиротила мужа и детей, – это для всякого доброго человека горе, которое обязывает состраданием и заставляет забыть свои мелкие счеты, но для синодальных чиновников – это бенефис в пользу тех, кому выгодно, чтобы муж покойной не мог в это время вернуться к должности… Грубые сердца и темные умы, которых не коснулся луч истинного богопочтения, с возмутительнейшим фиглярством объявляют: «Это Бог! Это он пришел к нам на помощь, чтобы мы могли лучше обделать наше дело. Теперь мы им довольны и лобызаем его десницу, недруг наш в несчастии, дом его пуст и дети его сироты. Слава святому Провидению!»
Кто иначе верует, – тот нигилист, и да изгладится имя его из книги жизни…[2]
Андрей Николаевич Муравьев тоже почувствовал, что «се настал час», для которого он пришел в мир.
Глава пятнадцатая
На время отъезда Нечаева к жене, болевшей и умершей, как разъяснил Исмайлов, ради предоставления врагам ее мужа полного удобства столкнуть этого зазнавшегося человека с места, «должность обер-прокурора исправлял товарищ министра народного просвещения, гусарский полковник граф Н. А. Протасов».
Какова была подготовка графа Протасова к занятию обеих высоких должностей, которые были ему теперь вверены вместо командования гусарами, давно известно. Впрочем, мы можем это очень кратко напомнить словами справедливого curriculum vitae,[3] которое прописал ему тишайший Исмайлов.
Граф Н. А. Протасов – «человек из знатной фамилии, с значением при дворе, по своей матери и теще, бывших статс-дамами при покойном государе Александре I, лично любимый императрицею как отличный танцор, воспитанник иезуита, приставленного к нему в гувернеры, – гордый не менее своего предместника» (т. е. Нечаева).
По-видимому, такой человек не отвечал даже и должности товарища министра, на которую у нас порою были назначаемы люди очень малого образования; но для управления синодом он, очевидно, как будто совсем не годился. Мысль сделать Протасова обер-прокурором могла разве прийти только ради шутки.
Обыкновенно назначение это ставят как бы в вину императору Николаю, но он едва ли не менее всех причинен в этом назначении. К удивлению, до сих пор очень немногие знают, кто именно был настоящим автором этой несчастнейшей мысли, принесшей церкви русской чрезвычайно много истинного горя и ущерб едва ли когда поправимый. А автор этот был не кто иной, как Андрей Николаевич Муравьев, который, действуя в качестве штатного дипломата при митрополитах, перехитрил самого себя – нанес синоду такой удар, отразить который после уже и не пытались.
Глава шестнадцатая
Назначение в синод гусарского полковника, «шаркуна и танцора», каким, может быть не совсем основательно, считали графа Протасова, – изумило столицу. На месте товарища министра народного просвещения он как-то не столь казался неуместен. На этой должности и тогда уже привыкли видеть людей, имевших весьма малое касательство к просвещению, и с этим уже освоились. Может быть, это даже считали до некоторой степени в порядке вещей. Тогда у многих было такое странное мнение, что будто просвещение в России не в фаворе у власти и терпится ею только по некоторой, даже не совсем понятной, слабости, или по снисхождению. Снисхождение это оказывалось пустой и вредной западной модой, которой очень бы можно и не следовать. Но кто понимал дело лучше и вообще был политичнее, тот не усматривал и несообразности, а только одну политику. Выводили, что в этом странном распределении должностей втайне проводится принцип «чем хуже – тем лучше». Стало быть, по министерству просвещения могло случиться все, ибо, говоря откровенно и без обиняков, – просвещение тогда многими считалось силою вредною для государства, а о своих врагах и вредителях никто радеть не обязан. Но православие – дело совсем другое, и оно потому стояло совсем на ином счету. Тогда находились только три начала жизни: «православие, самодержавие и народность», но из них, как сейчас видим, «православию» давалось первое место. В тройственности этих, объединявшихся в России и крепко ее связующих, начал православие как бы даже старейшинствовало и господствовало. И это, разумеется, было прекрасно. Что же иное достойно быть поставленным выше веры? Разве не она окрыляет надежды и питает любовь, без которых человеческое общество стало бы табуном или стадом? Но если это так, то тогда как же столь великое дело вверить человеку, который не только ничего в церковных делах не понимал, но еще на несчастие был дурно направлен каким-то иезуитом и до того предан легким удовольствиям света, что наивысшая похвала, которой он удостаивался, выпадала ему только за танцы…
Какой же это, в самом деле, обер-прокурор для святейшего синода?
В обществе решительно не допускали, чтобы Протасов мог сделаться обер-прокурором синода. Что он был сделан товарищем министра народного просвещения, то Исмайлов справедливо замечает, что это относили к заслугам «тещи и матери» Протасова и к тому, что он нравился императрице «как отличный танцор». К тому же относили и данное Протасову поручение исправлять должность синодального обер-прокурорства на время отъезда Нечаева, по причинам «предуготовленным Провидением». Но все были уверены, что это не имеет долговременного значения и допущено только на короткий срок для удовольствия покровительствовавших Протасову дам. Говорили: «Он в короткое время ничего не напортит, а между тем Нечаев снова возвратится».
Но чтобы Протасов был утвержден в этой серьезной должности и уселся на ней на такой продолжительный срок, какой судил ему бог править судьбами правящих в русской церкви слово истины, – этого никто не считал возможным.[4] И если где были предположения, что насоливший синодалам Нечаев будет смещен и начинали избирать на его место кандидатов, то обыкновенно называли в первую голову Андрея Муравьева, а в случае спора восклицали:
– Ну, уж только не гусар же ведь будет на его месте!
– Ну, разумеется, не гусар. Гусару разве поручат.
– Ни во веки веков.
– Ни во веки веков.
И затем опять планировали назначения способных и «готовых» людей, и тут опять волею-неволею первую номинацию получал Андрей Николаевич, как «обер-прокурор по праву и по преимуществу».
Такое «общее мнение», вероятно, сбило его с толку и побудило к энергическому и смелому движению, чтобы убедить императора Николая поскорее поспешить сменою Нечаева и назначением человека, всеми почитаемого необходимым для благоустройства церкви.
Зная неприступный нрав царя, с этим надо было идти очень бережно, и вот подводится тонкая механика, которую, однако, прозрели люди, привычные к интриге, и вложили свои открытия «во ушеса дам», а те, как broderies,[5] вывязали все по своему узору.
Секретарь Исмайлов, во все эти любопытнейшие моменты огромнейшей из ошибок высшего церковного учреждения в России, продолжал смотреть на все из своего синодального окошка, откуда, как выше сказано, даже человек, стоявший много выше секретаря, затруднялся понять: «чему сие соответствует?»
Глава семнадцатая
«Так как отсутствие обер-прокурора (Нечаева) было довольно продолжительно, то чиновник за обер-прокурорским столом (Муравьев) успел уговорить первенствующего члена в синоде (митрополита петербургского Серафима Глаголевского) войти с докладом к государю о перемене обер-прокурора».
Чтобы оценить этот поступок Муравьева со стороны его дальнозоркости и трудности, надо знать, во-первых, что в это время московского митрополита Филарета Дроздова в Петербурге не было, а во-вторых, что «первенствующий член, старший митрополит в России и синоде» (Серафим) был человек «осторожный до трусости».
Будь в это время в Петербурге Филарет Дроздов, Муравьеву едва ли бы удалось подбить Серафима на крайне опрометчивое предприятие – просить государя о смене Нечаева и… о назначении на его место «танцора», графа Протасова. Почти невозможно сомневаться, что Филарет ни под каким видом не стал бы на стороне этого рискованного дела. Хотя смещение Нечаева и могло быть угодно Филарету, который не забывал обид и, конечно, помнил, как Нечаев сначала оклеветал его через жандармов, а потом подвел хитростью в немилость у государя, но что касается просьбы о назначении совершенно неподходящего к синодским делам гусара, то весьма трудно допустить, чтобы Филарет на это согласился. Всерьез такая просьба всеконечно была бы противна уму и чувствам Филарета, а шутить было не в его нраве, да и какая шутка уместна в подобном случае. Оставалось одно – волей-неволей подумать: нет ли какого затаенного плана у того, кто заводит такую неподходящую механику? Ухищрение это, как уверяли, и как легко верится, состояло в том, что просьба о назначении Протасова непременно должна была показаться государю неподходящею, ибо думали, что государь и сам был невысокого мнения о способностях этого человека. Он позволял графу делать карьеру отличавшими его светскими талантами, которые находили Протасову благорасположение влиятельных дам, но на должность обер-прокурора его ни за что не назначит. Это и в самом деле казалось статочным.
У верховода же описываемой синодальной интриги против обер-прокурора Нечаева находили естественным предполагать такой план, что если только государь согласится сменить Нечаева, то просьбу о назначении Протасова он непременно отвергнет, и тогда «готовый обер-прокурор» явится у него на виду и дело будет сделано как надо.
По всем вероятиям, Андрею Николаевичу казалось, что государь сам о нем вздумает, а если он пожелает спросить мнения у митрополитов, то и тут для Муравьева риску не предвиделось, потому что иерархи, конечно, укажут на него, как на человека им преданного, который с ними давно «тайно сносился», «сам для них писал», и если желал обер-прокурорской должности, то с тем, чтобы ее, так сказать, «упразднить» и предоставить членам синода полную свободу действий. Выбор иерархов и действительно, казалось, не мог пасть ни на кого, кроме этого «фамильного и благочестивого мужа».
Но что человек предполагает, то бог часто располагает по-своему.
Так случилось и тут, несмотря на удивительную тонкость подхода, – может быть, несколько даже перетоненную.