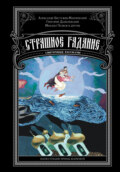Николай Гейнце
Людоедка
XIV
«Правда божеская»
– И как это вы тут, умники-разумники, ничего про такие дела не слыхивали… – начала снова императрица после довольно продолжительной паузы. – Или вас это не занимало? По стопам Бирона, по стопам Эрнеста Карловича шли… Что-де нам Россия… Провались она хотя в тар-тарары?.. Было бы нам хорошо…
– Ваше величество… – сконфуженно начал Панин.
– Не о тебе речь, Никита Иванович, про других прочих… Ты в иноземных государствах пребывал, в Дании, в Швеции, потом при Павлуше состоять начал, его мне блюдешь… Другие, другие… – как-то даже выкрикнула Екатерина… Или – может сами такими же делами занимались, тоже как с собаками со своими крепостными людьми обращались… и обращаются… Так пусть это позабудут… Жестокость, криводушие и лихоимство надо теперь оставить… Я не потерплю… Без пахатника нет и бархатника… Пусть зарубят это себе на носу.
Голос императрицы все возвышался и возвышался. Обеспокоенные волнением своей хозяйки, две собачки, лежавшие у ее ног на особых тюфячках, подняли головы и стали лаять, Екатерина взяла со стола бисквиты и дала их своим любимцам. Никита Иванович заметил, что на глазах государыни блестели слезы. До того она была взволнована.
– Необходимо этому положить конец… – сказал растроганным голосом Панин.
– Чему это, Никита Иванович?
– Произволу помещиков…
Екатерина задумалась и после некоторого молчания произнесла твердым голосом:
– Так и будет…
Никита Иванович смотрел на государыню с восторженным обожанием. Она, между прочим, продолжала:
– Положу конец тиранству и научу тех, кому это неизвестно, что и крепостные люди – тоже люди… Пусть знают, что кнут не на потеху гнут: бей за дело, да умело, а кто из кнута забаву делает, то он ведь об двух концах… Хорошо и для мужика, пригодится и для барина…
Императрица снова умолкла, поникнув головою. И Никита Иванович Панин, и Костя, казалось, малейшим движением боялись нарушить царившую в комнате тишину.
– Но что же делать, как поступить с этою тиранкой, с Салтычихой?.. – вдруг в упор спросила Панина государыня.
– Судить! – твердо и быстро ответил он.
– Именно, судить, публично, всенародно… – медленно заговорила Екатерина. – Да будет всем знамо и ведомо, что царствование наше мы открываем правдой, и правда будет наша первая мать и первая наша защитница…
– Аминь! – как-то невольно сорвалось с языка Никиты Ивановича.
– Именно, «аминь», – заметила государыня.
Панин, между тем, внутренне обеспокоился: неужели так-таки и решится государыня предать суду всенародно московскую помещицу? Не взволнуется ли дворянство? Для начала оно бы не следовало, соблазн велик…
– Итак, судить, – повторила государыня, милостиво отпуская Панина и Костю.
– Судить! – снова твердо, несмотря на появившиеся в его уме опасения, повторил Никита Иванович.
Вступление на престол императрицы Екатерины застало Дарью Николаевну в Троицком. Она получила об этом обстоятельное известие, так как у нее и в Петербурге были люди, интересовавшиеся ее громадным состоянием. В письме предупреждали об осторожности в поступках, так как окружающие новую императрицу люди на все-де смотрят иначе, и то, что сходило с рук при Елизавете Петровне, теперь не сойдет.
«Жадны уж очень, загребисты сии новые охальники», – говорилось в письме, присланном с нарочным.
«Ишь, стращают, – думала Салтыкова. – Баба – по-бабьему и править будет… Чего бояться…»
Но все же, зная, что против нее есть двое живых и значительных свидетелей, Костя и Маша, Дарья Николаевна приняла меры.
«Волчья погребица» была уничтожена, а скалка, рубель, поленья и костыль заменены розгами, и то пускавшимися в ход изредка.
Крестьяне и дворовые недоумевали и объясняли эту милость Салтычихи ее болезнью.
– Устала барыня хлестать, самой занедужилось…
Но перемена в обращении с крепостными и дворовыми не помогла. Слишком много было загублено ею душ, слишком много было пролито крови, чтобы последняя не вопияла к небу о правосудии.
Грозным судьей над «великой злодейкой» Господь избрал великую царицу – Екатерину. Императрица, раз на что-нибудь решившаяся, тотчас же приступала к делу.
По случаю предстоящего коронования, она отправила в Москву для приготовления к торжеству недавнего цальмейстера гвардейской артиллерии, а тогда уже графа римской империи – Григория Григорьевича Орлова. Этот «орел Екатерининского века» был человеком чрезвычайно «своеобычным», как тогда называли «оригиналов».
«Своеобычность» Григория Григорьевича проявлялась во всем и всегда. Добиться с ним свидания не могли подчас по целым месяцам высокопоставленные лица, а с каким-нибудь стариком-нищим или старухой-богомолкой он беседовал по целым часам. С простым народом он умел обращаться и часто переряженным ходил по городу, заходя в герберги, австерии и трактиры, затевал драку, любил побить кого-нибудь и даже самому быть побитым. Эту склонность толкаться между простым народом знала Екатерина за своим любимцем и не замедлила ею воспользоваться.
Отпуская его в Москву, она сообщила ему известия, полученные ею от Бестужева и рассказ Рачинского, вручила ему письмо Алексея Петровича, заключавшее в себе показания Марьи Осиповны Олениной, а также скрепленные подписью Константина Николаевича показания Рачинского, записанные со слов последнего Паниным.
– Поразузнай тайно в Москве, в народе, что говорят об этом изверге человеческого рода, и если все, что рассказывают эти двое несчастных подтвердится хоть малость, вели произвести следствие. Я им верю, а тебе я доверяю…
Орлов поклонился.
– Поразузнаю, государыня!..
– Исподволь, потихонько, – не то раскопаешь болото-то, кваканья не оберешься. Царьки тоже…
По прибытии в Москву, граф поместился в новопостроенных палатах своих на Шаболовке, совершенно глухой и пустынной местности, сделавшейся немедленно центром, куда стремилась вся московская знать. В ожидании коронации, граф вел рассеянную, веселую жизнь. Дом его был открыт для званых и незваных, и хлебосольство графа скоро вошло в пословицу.
Не забыт был и любезный сердцу графа Григория Григорьевича простой или, как тогда называли, «подлый» народ. На дворе графа были устроены громадные навесы и под ними столы со скамейками, куда народ пускался поочередно, сохраняя образцовый порядок, что было одним из первых условий дарового, сытного угощения, иначе нарушителя ожидало другого рода угощение – тоже даровое и тоже сытное, но только на графской конюшне и не из рук повара, а от руки кучера.
Веселая и казалось праздная жизнь не мешала графу исполнять повеление своей государыни. Он повидался с Бестужевым и «власть имущей в Москве особой», получил от них обоих подтверждение истины рассказов Кости и Маши о деяниях Дарьи Николаевны Салтыковой, прислушался к народному в Москве о ней говору и обо всем подробно донес императрице. Вскоре был получен ответ: «нарядить тайное следствие».
Дело было поручено обер-полицеймейстерской канцелярии, и Григорий Григорьевич Орлов сам лично сказал московскому обер-полицеймейстеру:
– Смотрите, чтобы следствие велось без проволочек и без отговорок, и чтобы к приезду государыни все было кончено.
– Постараюсь, ваше сиятельство, – отвечал обер-полицеймейстер.
– Старания мало, надо сделать.
Этого было достаточно, чтобы дело повели энергично. О милости и строгости государыни ходили тогда в Москве целые легенды.
Через несколько дней Дарья Николаевна Салтыкова, находившаяся в Троицком, была арестована. Рассказывали, что «грозная помещица» оказала сопротивление. Она билась как тигрица в руках полицейских, кусалась, царапалась и, когда была привезена в Москву, чуть не ударила по лицу обер-полицеймейстера. Последний счел своим долгом сообщить обо всем этом графу Орлову. Тот приказал не церемониться с арестанткой.
– Птица не велика – дочь сержанта! – заметил он.
Тогда Дарью Николаевну связали по рукам и ногам и припрятали так, что ей был виден только клочок неба да четыре стены ее каземата. Она кричала, ругалась, но в конце-концов смирилась. Тайное следствие раскрыло такие ужасающие подробности совершенных этой «женщиной-зверем» злодеяний, что граф Григорий Григорьевич снова счел необходимым донести об этом императрице.
Вместе с разговором о близком приезде императрицы пошли по Москве разговоры и об аресте Салтыковой.
– Попалась-таки… Достукалась, – говорили в народе.
Помещики и помещицы были поражены арестом Дарьи Николаевны за такое, по их мнению, пустое дело, «как отеческая расправа с дворовыми».
– Новая метла метет, – таинственно перешептывались они, и ждали, что будет далее.
Родственники по мужу Салтыковой взволновались. Несмываемое пятно, по их мнению, налагало на их фамилию это следствие. Они собрались на семейный совет и выбрали уполномоченного, который явился к «власти имущей в Москве особе».
– Ваше превосходительство, что же это такое?.. Спасите нашу честь, – вошел он в кабинет «особы» по особому приглашению.
– Что такое?
– Как что такое? Вы, ваше превосходительство, сами наградили нас такой родственницей, и теперь вся Москва, из конца в конец, позорит наше честное имя.
– Я человек, и как человеку, мне свойственно ошибаться, – возразила «особа». Я, действительно, ошибся, но потом я сам же и прозрел… Дело начато по моему донесению ее величеству, – прихвастнула «особа».
– Но разрешите замять, мы готовы на всякие жертвы…
– Не тем пахнет…
– А чем же?..
– Правдой Божеской… Удивлены?
– Поражен!..
– Еще более поразитесь…
– Чем же еще?
– Увидите…
– Скажите, сделайте милость…
– Дарью Николаевну вашу осудят и… казнят… – почти шепотом произнесла последнее слово «особа».
– Да ну ее… Пусть хоть три раза казнят, нам мало горя… Но позор, который ложится на нас всех…
– Но какой же позор? Она не вашего рода… Она Иванова…
– Она вошла в наш род… носит нашу фамилию и эту фамилию теперь треплет своим поганым языком всякий подлый подьячий…
«Особа» сдвинула брови.
– У матушки-царицы все равны… – холодно заметила она, – а тем паче те, кои ей служат… Подлыми она не называет своих верноподданных… Подлые перед ней те, кто подло поступают! Тех постигает кара неумолимого закона.
Тем окончилось это неудачное ходатайство.
На втором семейном совете, состоявшемся после этой беседы с «власть имущей особой», все Салтыковы единогласно решили «дело» не оставлять и, по крайней мере, добиться того, чтобы оно тянулось как можно дольше. Может-де все и позамнется, позабудется и, во всяком случае, с течением времени потеряет свой острый характер. Далее решено было: на дело не жалеть денег и добиваться своего всеми дозволенными и недозволенными путями. Последствия показали, что родственники Салтыковой отчасти своего добились. Не добились лишь полного прекращения дела. Слишком, повторяем, было много пролито человеческой крови, вопиявшей к земному и небесному правосудию.
Дарья Николаевна была, однако, выпущена из-под ареста и жила в своем доме на Лубянке. При ней оставлено было пять человек домашней прислуги – женщин, взятых из дальних ее деревень. Никаких дел по своим имениям она уже не ведала. Все было взято под строгую опеку, и она получала из доходов лишь столько, сколько необходимо было для ее безбедного существования.
Следствие продолжалось вестись тайно, но Салтыкова, конечно, понимала, что дело ведется серьезно, и что пощады ей ожидать нечего, и странное дело, эта грозная будущность, эта предстоящая ей расплата за прошлое, очень мало интересовали ее. Она мучилась и страдала по другой причине. Господствующей в ее голове мыслью, почти пунктом ее помешательства была месть «мерзавке Машке», как называла она Марью Осиповну Оленину.
Дарья Николаевна знала, что несчастная девушка нашла себе приют в Новодевичьем монастыре, где охраняется самой игуменьей матерью Досифеей. Салтычиха не ошиблась, что все ее дело загорелось из-за расправы с Машей, в которой, видимо, приняли участие важные лица и довели об этом до сведения императрицы.
Она несколько раз появлялась в церкви Новодевичьего монастыря, но Маша, стоявшая на клиросе, даже не видела роковую для нее женщину.
После службы, послушница игуменьи провожала ее в келью, причем сама мать Досифея наблюдала за исполнением этого ее приказания.
Дарье Николаевне не удалось таким образом даже окинуть свою бывшую воспитанницу злобным взглядом. Маша ходила всегда низко опустив голову.
О судьбе Кости Салтыкова тоже получила известие из Петербурга. Он жил у Панина и должен был скоро вступить во владение своим громадным состоянием.
Салтыкова сознавала, что и он, вероятно, порассказал многое в Петербурге такого, что поставило на ноги всю московскую администрацию по ее делу, но странная вещь – против него у ней не было такой злобы, как против «разлучницы» ее, Дарьи Николаевны, с ним, которой она считала Машу.
Ненависть и злоба кипели в сердце, теперь уже смирившейся в ожидании решения ее участи, этой «женщины-зверя», и вместо того, чтобы думать о том, как бы выпутаться из производившегося над ней следствия, она обдумывала лишь свой план: план мести Маше…
XV
Перстень
Оставленная всеми, забытая Богом и людьми, «изверг рода человеческого», «Салтычиха», «людоедка» – иных названий для нее не было в народе – проводила тяжелые дни. Враждебность к ней «холопов» чувствовалась ею и даже быть может преувеличивалась ее воображением, сочувствия некоторых помещиков не достигали до нее, так как проявлялись втихомолку – явно же все сторонились подследственной Салтыковой, прогневавшей рядом своих бесчеловечных поступков государыню. Особенно виднелось это отчуждение в описываемое нами время, когда Москва была оживленнее обыкновенного, когда ее население чуть не удвоилось, когда на ее улицах кипела жизнь, делавшая ее действительно похожей на столичный город. Все это происходило по случаю предстоящего приезда в Москву императрицы Екатерины II для коронации.
Наконец императрица прибыла. Все оживилось еще более и окончательно приняло праздничный вид. На Красной площади устраивались столы для народа. В Кремле воздвигали вышки, крыльца, помосты и затейливые траспаранты.
Императрица, однако, показывалась народу редко, но зато с чисто царскою пышностью. Впереди ее кареты ехал обыкновенно взвод лейб-гусар в блестящих мундирах, а сзади отряд гвардии. По вечерам путь ее величества освещался факелами.
Восторг народа при появлении среди него его монархини, его «матушки-царицы», был неописуем. Пышность царских выездов была тогда явлением небывалым.
Наконец, 22 сентября 1762 года священное коронование благополучно и блистательно совершилось и – по совершении его – тотчас же начался ряд празднеств и торжеств.
Осень стояла в этот год великолепная – сухая и теплая. Императрица стала появляться среди ликующего народа ежедневно, в сопровождении своего блестящего двора. Ездила государыня в раззолоченной карете, запряженной восемью красивыми и статными неаполитанскими лошадьми, с цветными кокардами на головах. Одета она была в бархатное, алого цвета платье, унизанное крупным жемчугом, со звездами на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. По бокам кареты императрицы ехали, обыкновенно, генерал-поручики, а конвоировали герольды с жезлами в руках, бросавшие народу серебрянные монеты.
Екатерина, кроме того, посещала и окрестности Москвы, села Покровское, Семеновское и Преображенское, где деревенские девушки, в праздничных сарафанах, с открытыми головами, в цветных косынках, а молодицы в шелковых шубках, в киках с дробницами, с веселыми песнями водили хороводы. Любила государыня посещать и Сокольничье поле, где ее увеселяли настоящие цыгане: пели, плясали, показывали ручных медведей.
В заключение коронационных пиров и торжеств, дан был против Кремля, на берегу Москвы-реки, блистательный, по тогдашнему времени, фейерверк, в котором первое место занимала аллегория, изображавшая Россию с ее победами и ее славой. Для народа это было совершенно невиданное зрелище, как и устроенный на улицах Москвы в дни коронации уличный маскарад с грандиозным шествием, к подробному описанию которого мы еще вернемся.
Так веселилась и ликовала Москва, и это веселье и ликованье, казалось, находили свой отзвук и в палатах и хижинах, и лишь, как печальный остров среди моря веселья и радости, Стоял угрюмый дом Салтыковых на Лубянке, с затворившейся в нем его, когда-то грозной, теперь полусумасшедшей хозяйкой. С гнетущей и день и ночь мыслью о мести ее бывшей приемной дочери, ходила она взад и вперед по пустынным комнатам, придумывая планы, один другого неисполнимее, при ее отчужденном настоящем положении.
Проникнуть в келью послушницы Марии и своеручно произвести над ней расправу – это бы сделала, конечно, прежняя Салтыкова, не посмотрев на то, что за этой кельею зорко наблюдают, что наконец, даже в монастыре сестры-монахини страшатся ее, Дарьи Николаевны, как чумы, а потому, конечно, заподозрят, при посещении монастыря не во время службы недоброе намерение. Но начавшееся над ней следствие, отнятие имений, довольно продолжительное заключение при обер-полицеймейстерской канцелярии отняли у ней охоту затевать явное буйство, могущее повредить ее делу, на благополучное окончание которого она еще не теряла надежды. Надо было придумать месть, за которую она не могла быть в ответе, но которая бы верным ударом и в самое сердце поразила ненавистную ей девушку – причину всех обрушившихся на нее несчастий, а главное, разлучницу ее с Костей.
Животная страсть этой «женщины-зверя» не гасла под обрушившимися на нее невзгодами. Около нее снова появился Кузьма Терентьев. В ту самую беседку, где лет десять тому назад она впервые увидела Кузьму, в качестве «зазнобы» своей горничной Фимы, беседку, еще более подгнившую и разрушившуюся, ходила тайком, озираючись, на свиданья с вечно находившимся под хмельком, своим бывшим домашним палачем, властная Салтыкова, когда-то предмет обожания блестящего гвардейского офицера – покойного Глеба Алексеевича Салтыкова. Подозрительно смотря на окружавших ее служанок, Дарья Николаевна старалась скрыть от них эти посещения беседки из боязни, чтобы они не донесли о них ее неутомимым следователям и не лишили бы ее последнего утешения – ее милого Кузи.
Под влиянием одиночества, под влиянием неудовлетворенной страсти, Дарья Николаевна искала забвения в объятиях единственного мужчины, который не брезговал ею и ее грошевыми подачками. Она забыла все прошлое, включительно до похищения им Марьи Осиповны, поступок, который послужил краеугольным камнем ее настоящего положения. Ослепленная страстью, она не хотела думать об этом, во всем виня одну «мерзавку Машу». Кроме того, у нее таилась надежда, что именно Кузьма Терентьев поможет ей отомстить этой ненавистной ей девушке. Быть может это-та надежда и была одним из связующих элементов этих двух снова сблизившихся существ, хотя для Дарьи Николаевны, главным образом, причиною возобновления раз уже порванной связи было отсутствие выбора. Наконец, она боялась Кузьмы, как единственного свидетеля добывания ею зелья для покойной Глафиры Петровны.
Она обрадовалась встрече с Кузьмой, – она столкнулась с ним во дворе вскоре после освобождения ее из-под ареста, – как все же с близким ей когда-то человеком, а хитрый парень понял, что он может поживиться от всеми оставленной женщины и даже не заставил Салтыкову сделать первый шаг к их новому сближению. Тайна, в которую Дарья Николаевна обрекла их свидания, – распаляла еще более ее страсть, доставляя ей сладкие мгновения, которые она ждала, и эти ожидания наполняли ее бессодержательную, за отсутсвием занятий, жизнь.
Она по целым часам задерживала Кузьму в беседке и в разговорах с ним, что называется, «отводила душу»; она жаловалась ему на следователей, на людскую несправедливость, на свою горькую долю «беззащитной вдовы». Полупьяный парень тупо слушал ее, со своей стороны пускался в россказни о своих скитаниях по Москве, о приятелях и собутыльниках.
Однажды разговор коснулся Кости и Маши. Кузьма спокойно рассказал, как он вынес последнюю на руках со двора, как не знал, что с ней делать, и как Господь Бог послал Бестужева, которому он и сдал девушку.
– Барин хороший, мне серебра штофа на три отвалил… – заметил он.
Дарья Николаевна не упрекнула его за его поступок и слушала молча, о чем-то, видимо, думая. Он, между тем, продолжал свой рассказ о посещении Маши, а затем Кости.
– Барин-то мне перстень передать ей дал… Эх, грехи, соблазнился я на него, заложил и пропил, а к ней не пошел… Надоело с ним валандаться… Бросил.
– Какой перстень?.. С изумрудом? – встрепенулась Салтыкова.
– А ляд его знает какой? С зеленым камешком.
– Да, да, это изумруд…
– Быть так… А я его пропил…
– А нельзя его выкупить?.. – поспешно спросила Дарья Николаевна.
– Коли не продал Терентьич – это кабатчик – для чего нельзя. Только заломит он теперь за него цену… Впрочем, и то говорить… Я за него чуть не цельную неделю пьянствовал, вина этого высосал страсть…
– Выкупи и принеси его мне… – заторопилась Салтыкова.
– А тебе он зачем понадобился?
– Надо… Скажу потом… Самого просить буду мне дело одно оборудовать… Денег не жалей… Вот…
Дарья Николаевна полезла за чулок, где с некоторого времени хранила деньги, утаенные ею от следователей, из боязни, что у нее их отнимут… Отсчитав несколько ассигнаций, она подала Кузьме.
– Коли не хватит, еще дам…
– Може и хватит… – заметил тот.
– Ох, достань ты мне этот перстень… Я ей удружу! – воскликнула Салтыкова.
– Кому это?
– Да Машке, лиходейке моей.
– Ну, шалишь, ее не достанешь…
– Ты опять за нее…
– Зачем за нее… Ты, чай, теперь мне дороже… Ласковая такая стала, покладистая, тароватая… А та на кой мне ляд… Да сгинь она, я глазом не моргну…
– А зачем же тогда?
– Тогда я на тебя зол был… Сердце еще не прошло у меня, моя лапушка.
Кузьма обнял Дарью Николаевну за талию. Они сидели на той же полусгнившей скамье, где он когда-то миловался с Фимкой.
– Так значит, поможешь мне одно дело сделать?..
– Отчего не помочь, поможем, коли сможем…
– Сможешь…
– Ладно…
– За перстнем-то поспеши… Коли продан, узнай кому, перекупи…
– Достану, ладно… А дальше что?
– Скажу, скажу… Все скажу… Только перстень надо… Без него ничего не выйдет…
– Чудно…
Дарья Николаевна была в этот день в необыкновенном волнении и даже скорее обыкновенного отпустила от себя Кузьму, несколько раз повторяя просьбу о перстне.
– Да уж ладно, добуду… Ишь пристала!
Кабатчик Терентьич, оказывается, не успел еще перепродать перстня и вручил его Кузьме, конечно, взяв хороший барыш. На другой день перстень был вручен Кузьмой Терентьевым Салтыковой в беседке.
– Вот спасибо, милый, вот спасибо, родной… Теперь еще тебе будет поручение чуднее вчерашнего… – деланно улыбнулась она.
– Какое еще?
– Достань ты мне мертвую мужскую руку… Кузьма Терентьев вытаращил на нее глаза.
– Да ты ошалела, што ли?..
– Ничуть… Трудно, что ли в «скудельне» руку добыть, любую нищие отрубят… Надо только хорошо заплатить.
– Добыть-то не трудно… Да на что тебе рука-то?
– А надену на палец этот перстень, да и пошлю ей, Машке-то, в подарочек… По перстню-то она подумает, что эта рука ее Костиньки, дружка милого, что его на свете в живых нет… От горя и сама окачурится…
– Ну и язва же ты баба!.. – не мог удержаться, чтобы не воскликнуть даже Кузьма.
– Хороший, пригожий мой, сделай мне это… Награжу, во как награжу… А коли из дела вызволюсь, озолочу…
Еще несколько ассигнаций из чулка Салтыковой перешли в руки Кузьмы. Глаза последнего засверкали.
– Ин, будь по-твоему, сделаю… Люблю тебя больно… – разнежился он.
Дарья Николаевна счастливо улыбалась.
– Да руку-то выбери, побелее, понежнее… Чтобы видно было, что барская…
– Разной там падали много… Выберем…
«Скудельни» или «убогие дома» исстари существовали в Москве. Назначение этих домов, заведенных в подражание иерусалимскому скудельничьему селу, состояло в том, что в них хранили тела людей, погибших насильственной смертью, и тела преступников.
В Москве было подобных домов несколько: при Варсонофьевском монастыре, куда первый Лже-Дмитрий велел кинуть тело царя Бориса Годунова, при церкви Николы в Звонарях, при Покровском монастыре, у ворот которого лежало на дороге тело первого Лже-Дмитрия, пока его не свезли за Серпуховскую заставу и не сожгли в деревне Котлах, и на Пречистенке, у церкви Пятницы Божедомской. Но самый древний и самый большой «убогий дом» находился у церкви Иоанна Воина, «на старых убогих домах», именующейся еще Воздвиженьем Животворящего Креста. Там был построен необыкновенно громадный сарай-амбар, с глубоким ям-ником, в котором находилась и часовенька с кружкою, а подле нее лепилось несколько лачужек, в которых постоянно жили юродивые и увечные нищие. Они-то собственно и складывали в амбар трупы и берегли их до востребования родственниками или до истечения назначенного полицией срока.
В этот-то «убогий дом» и отправился Кузьма с оригинальным поручением «Салтычихи». Она была права. Деньги и тогда, как и теперь, везде и всегда сила.
За несколько рублей была добыта рука какого-то удавившегося молодого парня, и Кузьма, бережно завернув ее в тряпицу, принес в тот же день Дарье Николаевне. По ее указанию смастерил он ящик, в который уложил руку, надев на ее палец перстень Константина Рачинского, и сам отнес в Новодевичий монастырь этот гостинец, с надписью на ящике, написанной рукой Салтыковой: «Марье Осиповне Олениной», и передал «матушке казначее».
Это было 30 сентября 1762 года.
Читатель не забыл, надеюсь, переполох, происшедший в монастыре, после обнаружения содержимого в ящике, обмороков и болезнь Маши, чуть не сведшую ее в могилу. Не забыл также, что Кузьма Терентьев подстерег Ананьича с данным ему игуменьей Досифеей ящиком и успел отбить от него мертвую руку. Он зарыл ее близ монастыря, сняв предварительно кольцо, которое спрятал в карман своей поддевки. На этот раз он решил не пропивать его, тем более, что деньги у него на пьянство были.
«Може еще какую службу сослужит!..» – подумал он.